Дорога уходит в даль
Александра Бруштейн
Оглавление
- Глава первая. Воскресное утро
- Глава вторая. Спектакль-концерт
- Глава третья. Званый ужин
- Глава четвертая. Мы с папой кутим!
- Глава пятая. В гостях у скупого рыцаря
- Глава шестая. Еще один подвал
- Глава седьмая. Очень пестрый день
- Глава восьмая. Юлька больна
- Глава девятая. Новые люди, новые беды
- Глава десятая. Зверинец
- Глава одиннадцатая. «Поговорим о геройстве!»
- Глава двенадцатая. «Поль». Юлькино новоселье
- Глава тринадцатая. У Ивана Константиновича. Безрукий художник
- Глава четырнадцатая. 19 апреля — 1 мая
- Глава пятнадцатая. Папа и Поль гуляют при луне
- Глава шестнадцатая. Где же Павел Григорьевич?
- Глава семнадцатая. Древницкий
- Глава восемнадцатая. Еще о Древницком
- Глава девятнадцатая. Мы прощаемся с Павлом Григорьевичем
- Глава двадцатая. Свадьба
- Глава двадцать первая. Экзамен
Памяти моих родителей посвящаю эту книгу.
Глава первая. Воскресное утро
Я у мамы и папы одна. Ни братьев у меня, ни сестер. И это уже — пропащее дело! Даже если у нас еще родится кто-нибудь — мальчик или девочка, все равно, — мне-то от этого никакого проку! Мне сейчас уже девять лет, а им будет — нисколько. Как с ними играть? А когда они меня догонят, дорастут до девяти лет, мне-то уже будет целых восемнадцать… Опять неинтересно будет мне с ними!.. Вот если бы они теперь, сейчас были моими однолетками!
Я беру с маминого столика маленькое — размером с книгу — трехстворчатое зеркало. Открываю все три створки — из них смотрят на меня с одинаковым любопытством три совершенно одинаковые растрепанные девочки с бантом, сползающим на один глаз. Я воображаю, будто это мои сестры.
— Здрасьте! — киваю я им.
И все три девочки очень приветливо кивают мне, тряся своими бантами. Неслышно, одними губами, они тоже говорят: «Здрасьте»…
Можно, конечно, еще и высунуть язык, провести им по губам справа налево и обратно, можно даже попробовать дотянуться кончиком языка до носа — зеркальные девочки в точности повторят все эти движения. Но ведь неинтересно! Вот если бы я закивала «Да, да!», а которая-нибудь из зеркальных девочек замотала бы головой «Нет-нет!» Или другая из них засмеялась бы, когда я не смеюсь, а третья вдруг вовсе взяла бы да ушла!
Гораздо интереснее та девочка, которая смотрит на меня с блестящего выпуклого бока самовара. Хотя у нее все тот же бант, сползающий на один глаз, но все-таки она одновременно и похожа на меня и — не совсем. Придвинешься к ней лицом — у самоварной девочки лицо расплывается, становится круглым, как решето, щеки распухают — очень смешно, я так не умею. Откинешь голову назад — лицо у самоварной девочки вытягивается вверх, становится худенькое-худенькое, и вдруг из ее головы начинает расти другая голова, точь-в-точь такая же, только опрокинутая волосами вниз, подбородком вверх, — это еще смешнее!
— Ты что? — говорю я самоварной девочке очень грозно. Но тут в комнату входит мама и, конечно, портит всю игру!
— Опять ты гримасничаешь перед самоваром! Как мартышка!
— Мне скучно… — обиженно бубню я под нос.
— Поди играть с фрейлейн Цецильхен.
На это я не отвечаю — я жду, пока мама выйдет из комнаты. Тогда я говорю не громко, но с громадной.убежденностью:
— Фрейлейн Цецильхен дура!
И еще раз, еще громче — мама-то ведь успела отойти далеко! — я повторяю с удовольствием:
— Цецильхен дура! Ужасная!
Конечно, мне так говорить о взрослых не следовало бы… Но фрейлейн Цецильхен, немка, живущая у нас и обучающая меня немецкому языку, в самом деле очень глупая. Вот уже полгода, как она приехала к нам из Кенигсберга; за это время я выучилась бойко сыпать по-немецки и даже читать, а Цецильхен все еще не знает самых простых русских слов: «хлеб», «вода», «к черту». В своей вязаной пелерине Цецильхен очень похожа на соседского пуделька, которого водят гулять в пальтишке с карманчиком и с помпончиками. Цецильхен только не лает, как он. У Цецильхен безмятежные голубые глаза, как у куклы, и кудрявая белокурая головка. Кудри делаются с вечера: смоченные волосы накручиваются перед сном на полоски газетной бумаги. Дело нехитрое — так раскудрявить можно кого угодно, хоть бабушку мою, хоть дворника Матвея, даже бахрому диванной подушки.
Разговаривать с Цецильхен скучно, она ничего интересного не знает! О чем ее ни спроси, она только беспомощно разводит пухлыми розовыми ручками: «Ах, боже в небе! Откуда же я должна знать такое?»
А я вот именно обожаю задавать вопросы! Папа мой говорит, что вопросы созревают в моей голове, как крыжовник на кусте. Обязательно ли все люди умирают или не обязательно? Почему зимой нет мух? Что такое громоотвод? Кто сильнее — лев или кит? Вафли делают в Африке, да? Так почему же их называют «вафли», а не «вафри»? Кто такая Брамапутра — хорошая она или плохая? Зачем людям «прибивают» оспу?
Только один человек умеет ответить на все мои вопросы или объяснить, почему тот или другой из них «дурацкий». Это папа. К сожалению, у папы для меня почти нет времени. Он врач. То он торопится к больному или в госпиталь, то он сейчас только вернулся оттуда — очень усталый…
Вот и сегодня, в воскресенье, рано утром папа приехал домой такой измученный — сделал трудную операцию, провел при больном бессонную ночь, — что мама нарезает ему завтрак на кусочки: у папы от усталости не слушаются руки.
Позавтракав, папа ложится поспать в столовой на диване, укрывшись старой енотовой шубой. Все в доме ходят на цыпочках и говорят шепотом, даже горластая Юзефа — моя старая няня, ставшая кухаркой после водворения у нас фрейлейн Цецильхен. Юзефа сидит на кухне, чистит кастрюлю и ворчит на той смеси русского языка с белорусским и польским, на какой говорит большинство населения нашего края:
— Другий доктор за такую працу (работу) в золотых подштанниках ходил бы!
В кухне сидит полотер Рафал, очень осведомленная личность с огромными связями во всех слоях общества. Даже Юзефа считается с мнением Рафала! И он тоже подтверждает, что да, за такую работу — «Я же вижу! Господи Иисусе, и когда только он спит?» — другой доктор на золоте ел бы!
Свирепо закусив губу и словно желая стереть в порошок кастрюлю — зачем она не золотая, а только медная? — Юзефа яростно шипит:
— Я скольки разов ему говорила: богатых лечить надо, богатых!
— А он? — интересуется полотер.
— Как глухой! — вздыхает Юзефа. — Никого не слушает. Ко всем бедакам, ко всем бедолагам ездит. А бедаки что платят? Вот что яны платят! — И пальцы Юзефы, выпачканные в самоварной мази, показывают здоровенный кукиш.
— Какая жаль!.. — вежливо качает головой полотер Рафал. — Богатые и бедные — это же две большие разницы!
— А то нет! — отзывается Юзефа.
Сегодня, в воскресенье, Рафал явился без щеток и без ведра с мастикой — только уговориться, когда ему прийти натирать полы. Юзефа принимает его в кухне, как гостя, и он чинно пьет чай, наливая его в блюдечко.
— А може, — говорит Рафал осторожно, — може, не умеет ваш доктор богатых лечить?
— Не умеет? Он? — Юзефа смертельно оскорблена. — А когда Дроздова, генеральша, разродиться не могла, кто помог? Все тутейшие доктора спугалися, — из Петербургу главного профессора по железной дороге привезли, так ен только головой покрутил. «Не берусь, сказал, не имею отваги!» А наш взял — раз-раз, и готово! Сделал репарацию (так Юзефа называет операцию) — родила генеральша, сама здорова, и ребеночек у ей живой!
Наступает пауза, — слышно только, как старательно полотер Рафал втягивает в себя чай.
— А за гэтых Дроздовых, — говорит он вдруг, — вы, тетечко, не ударяйтеся, пожалейте свою сердцу. Я у их мало что не десять годов подлоги (полы) натираю. У их свою заработанную копейку из горла вырывать надо!..
Папа спит часа полтора. Он накрыт шубой с головой. Рядом с диваном, на стуле, — папины очки. Поникшие дужки их — как оглобельки саней, из которых выпряжен конь.
Терпеливо, как всегда, я подкарауливаю папино пробуждение. Вот он откидывает с головы шубу, мигает невидящими, очень близорукими глазами:
— Ты тут, Пуговица?.. Стой, стой, очки раздавишь! Назрели вопросы? Ну, сыпь свой крыжовник!
Вот тут наступает мой час! Иногда это полчаса, иногда и того меньше, папу ждут больные. Но сколько бы их ни было — это самые чудесные минуты!
Папа отвечает на мои вопросы серьезно, подробно (из чего делают стекло? что такое скарлатина? и т. п.). На иные говорит просто: «Этого я не знаю» (он, оказывается, знает не все на свете!), на другие: «Ну, это глупости!» На вафли-вафри папа хохочет:
— Значит, вазелин делают в Азии? От иных вопросов папа отмахивается:
— Об этом мы с тобой поговорим, когда у тебя коса вырастет!
Вырастет она, коса моя! Через сто лет!.. Я украдкой трогаю растрепанный кудрявый мох, растущий во все стороны на моей голове, — Юзефа называет это «кудлы»… Неужели мне ждать, пока «кудлы» вырастут в косу?
Не обходится дело и без «домовладельческого вопроса», как называет его папа. У нас с ним это вроде игры.
Давно, когда я еще была совсем маленькая, я как-то спросила:
— Папа! У доктора Петрашкевича свой дом, и у доктора Малиновского, и у доктора Стембо тоже… А у тебя? Почему у тебя нет дома?
Тогда, давно, папа сказал, как всегда — не то в шутку, не то всерьез, — что и у него тоже есть собственный дом, только такой маленький, что его пока еще не видно… Почему? Да потому, что он еще не вырос, вот так, как не успевший еще проклюнуться из земли гриб масленок.
Я тогда же предлагала разные способы заставить папин дом расти побыстрее, — например, откапывать его лопатой или поливать из лейки.
— Ну, вот еще! — сказал папа. — Дом — не огурец, он от сырости пропадет!
Потом тема собственного дома как-то забылась, да и я узнала наверняка, что дома не растут, их строят.
Но тут я опять почему-то спрашиваю, будет ли у папы хоть когда-нибудь свой собственный дом.
— Здрасьте, давно не видались! — смеется папа. — Да на что он тебе нужен, этот дом? Тебе жить негде? Ты под дождем мокнешь?
Гремя посудой, в столовую входит Юзефа.
— От, Юзефо, — обращается к ней папа, — хочет моя дочка (он произносит по-белорусски: «дочкА»), чтобы у меня свой дом был.
— А что ж? И умница! — хвалит меня Юзефа. — Хоть малюсенький, да свой. Коровку бы завели, курочек, огородик еще… свое молочко, свои яички…
— Как думаете, Юзефо, будет у меня свой дом?
— У вас бу-у-удет! — словно проснувшись от мечтаний, зловеще цедит Юзефа сквозь зубы. — Вчерась опять такий файный (шикарный) пан приходил вас к больному звать, а вас и не було — у каких-то бедаков всю ночь танцевали!
— Я там не танцевал, — смеется папа. — Я сделал там очень редкую операцию, Юзефо! — И папа добавляет, словно уж для самого себя: — Красиво сделал! Как французские хирурги говорят: элегантно.
— Красивую репарацию… Алегантную… — Юзефа еле сдерживает возмущение. — А заплатили они вам?
— Они хотели заплатить, — мягко говорит папа.
— А вы руками замахали: не надо, не надо?
— Они сказали: «Нехай пан доктор подождет хвилечку — мы в ссудную кассу сбегаем, самовар заложим. И заплатим пану доктору полтинник». Что же, по-вашему, надо было взять у них этот полтинник?
— А чего ж! — не сдается Юзефа. — Як будут у них деньги, они самовар обратно из ссудной кассы выкупят. Тут папа сердится:
— Старая уж вы, Юзефо, а говорите такое глупство! Когда вы это видали, чтоб из ссудной кассы вещи обратно возвращались? Что к ростовщику в лапы попало, то уж у него и останется! А вы хотите, чтоб я у людей последнее отнимал?
Юзефа не отвечает папе. Она обращается ко мне.
— Будет у твоего батьки дом! — говорит она с горечью. — Будет у него дом, побачишь! На три аршина, хороший домик…
Что-то в ее словах мне смутно не нравится… Так не нравится, что вот — расплакалась бы… Но в эту минуту раздается пушечный выстрел: это с горы, над городом, гремит старинная пушка, ежедневно возвещающая жителям полдень.
Папа срывается с дивана:
— Двенадцать часов! Меня в госпитале ждут!
Дальше — вихрь! Голову — под кран, очки — на нос, схватил пальто и сумку с инструментами, нахлобучил шляпу — и нет папы! Улетел!
— Не человек! — говорит Юзефа. — Антипка!
Я обижаюсь: Антипкой в нашем крае зовут нечистую силу — домового, чертей.
— Ты за что моего папу Антипкой зовешь?
— А чи ж не Антипка? Был и сгинул!
Мы с мамой и Юзефой смотрим в окно, как папа садится на извозчика. Он уже занес ногу на подножку пролетки, но вдруг, пошарив в карманах пальто, почти бегом возвращается домой.
— Что-нибудь забыл, — догадывается мама. Юзефа беззвучно трясется от смеха:
— У яво завсегда: что не на ем растет — забудет!
И верно! Папа забыл палку и носовой платок. Палки дома не оказывается — видно, он оставил ее там, где провел ночь. Зато с носовым платком ложная тревога: мама положила ему по платку в оба кармана пиджака. А он искал платок — и, конечно, не нашел! — в карманах пальто.
Мы стоим в передней, улыбаясь папиной рассеянности, но уже над моей головой раздается голос фрейлейн Цецильхен:
— А теперь, чтобы наша девочка не скучала, мы будем немножко веселиться!
И Цецильхен уводит меня за руку из передней. За нашей спиной я слышу мрачный голос Юзефы:
— Ухапил волк овечку…
Приведя в нашу комнату, фрейлейн Цецильхен усаживает меня на стул, а сама садится на другой.
— Альхен, — говорит она взволнованным голосом, — вчера тебя укладывала спать Узефи (так Цецильхен называет Юзефу). Ты помолилась вчера на ночь, Альхен?
— Н-не помню… — отвечаю я и сильно краснею при этом, потому что я, конечно, не молилась.
С тех пор как к нам приехала фрейлейн Цецильхен, она завела новую моду: перед тем как заснуть, я должна стать на колени в своей кровати и сказать по-немецки молитву:
День прошел. Иду ко сну.
Крепко глазки я сомкну.
Боже! Взгляд твоих очей
Над кроваткой будь моей!
Когда меня укладывает спать сама фрейлейн Цецильхен, избежать молитвы невозможно. Когда же со мной Юзефа, она относится к этому так же критически, как ко всему, что исходит от «немкини». Незачем «болботать» на непонятном языке неизвестно что! Ну, а папа и мама сами не молятся и, конечно, не учат этому и меня.
— Та-ак… — Фрейлейн Цецильхен печально качает головой. — Значит, ты вчера не молилась на ночь… Не болтай ногами, это неприлично!.. Ну, а какой сегодня день, Альхен, это ты знаешь?
— Воскресенье.
— Да, — подтверждает фрейлейн Цецильхен торжественно, — сегодня воскресенье. Божий день! В вашем доме он, правда, не соблюдается — твой папа, да простит ему бог, работает в праздники, как в будни…
— Если папа не будет работать в праздники, его больные умрут!
Фрейлейн Цецильхен, вероятно, ради воскресенья, божьего дня, пропускает мимо ушей мою «русскую грубость».
— Да, не все соблюдают божьи дни, — говорит она, устремив глаза в потолок. — Но я соблюдаю. И я сегодня была в нашей кирхе. Ах, пастор Бринк сказал такую проповедь, такую проповедь!.. Все плакали!
Фрейлейн Цецильхен и сейчас готова заплакать. Глаза ее краснеют, нос тоже, уши тоже.
— Знаешь ли ты, дитя, про жертвоприношение Авраама? (Фрейлейн Цецильхен произносит по-немецки: «Абрахам».)
— Нет, — отвечаю я угрюмо. — Не знаю.
— Боже, прости этим людям!.. Ребенок не знает даже библии! Ну, я тебе сейчас расскажу. Жил-был человек, его звали Абрахам. У него был один-единственный сын, замечательно удачный юноша, Исаак. И Абрахам любил своего сына больше всего на свете!
Я слушаю уже почти с интересом.
— А бог, милый, добрый господь бог, любил Абрахама больше всех людей! Потому что Абрахам был очень, очень хороший и порядочный человек… И бог сказал: «Абрахам! Я возлюбил тебя больше всех людей, и я приказываю, чтобы ты принес мне в жертву своего единственного, своего возлюбленного сына Исаака!»
— Это как же — в жертву? — недоумеваю я. — Что это значит: принеси мне в жертву своего сына?
Фрейлейн Цецильхен объясняет восторженным голосом:
— Это значит: «Убей своего сына! Убей его во славу своего господа!»
— И этот Абрахам убил сына? — Я еле выговариваю эти слова, до того мне страшен их смысл.
— Да! Абрахам взял своего сына, связал его по ногам и рукам, как жертвенное животное, и уже занес было над ним нож, чтобы заколоть его, но…
— Но… — повторяю я невольно с ужасом и надеждой.
— …но бог послал своего ангела, и тот остановил руку Абрахама, занесенную над сыном! — торжествующе заключает рассказ фрейлейн Цецильхен.
Я шумно вздыхаю. Мне легче — не убил он сына! Но я не все понимаю в этом рассказе.
— А зачем это было нужно богу, чтобы Абрахам убил своего сына?
— Бог хотел проверить, как сильно предан ему Абрахам. И пастор Бринк сегодня в своей проповеди сказал нам: «Мы все должны быть готовы отдать богу самое дорогое, самое любимое…» Не дергай себя за ухо — воспитанные дети так не делают! Сложи руки на коленях.
Я молчу. Я думаю. Потом говорю с железной уверенностью:
— Никогда в жизни мой папа не связал бы мне руки и ноги, как жертвенному животному, чтобы убить меня! И мама тоже никогда!
— Твои родители, Альхен, не очень верят в бога… Но ты должна верить! Должна!
«Должна, должна»… Как я могу верить в него, когда он такой ужасный! На картинке в молитвеннике у фрейлейн Цецильхен бог нарисован сидящим посреди облаков, и бородища у него похожа на взбитые сливки: белая, густая, пышная. Глаза у этого бога пронзительные и злые.
Фрейлейн Цецильхен рассказывает мне о нем каждое воскресенье, после возвращения из кирхи, и всегда что-нибудь нехорошее! То он разрушил два города, то превратил женщину в соляной столб, то выкинул еще какую-нибудь злую шутку… Фрейлейн Цецильхен сама видела, как бог убил на месте одного парня! И, думаете, за что? Была гроза, сверкала молния, гремел гром, — в общем, самое простое дело, но Цецильхен — уверяет, будто гроза — это голос самого бога… И вот какой-то озорной парень, стоя под деревом, вдруг, вместо того чтобы смиренно молиться, громко захохотал (Цецильхен видела, как сверкали его белые зубы) и крикнул… Ох, что он крикнул!.. И сразу молния ударила в то дерево, под которым он укрывался, дерево рухнуло и придавило парня насмерть!
— А что он крикнул? За что бог его убил?
— О господи боже, что он крикнул! — И, закрыв в страхе глаза, Цецильхен говорит очень тихо: — Гремел гром, а парень крикнул со смехом: «Боженька играет в кегли!»
За такой пустяк — и смерть парню?
— Это электричество! — пытаюсь я объяснить фрейлейн Цецильхен. — Мне папа говорил: молния — это электричество… и в грозу не надо стоять под деревьями…
Но разве Цецильхен что-нибудь втолкуешь! Всяких страшных историй Цецильхен рассказывала мне много. Но такого, как с этим Абрахамом, еще ни разу! «Убей своего сына, потому что я тебя очень люблю!» Бедный Абрахам наплакался, наверно. И Исаак этот, горемычный, тоже, верно, плакал и кричал: «Не надо! Не надо меня убивать!» Хорошо еще, что ангел успел отвести Абрахаму руку с занесенным ножом! А вдруг ангел зазевался бы? Ведь даже поезда опаздывают! Часы и те отстают! Нет, нет, очень злой этот бог, очень противный! И я его терпеть не могу — вот!
Приблизительно так я выкладываю фрейлейн Цецильхен. Она печально вздыхает и гладит меня по голове:
— Бедное дитя… Бедное, бедное дитя…
Но я словно удила закусила. Почему это такое я вдруг «бедное дитя»? У меня папа — не Абрахам, он меня ни за что не убьет!
— Нет, ты бедное дитя, — говорит Цецильхен взволнованным голосом, — потому что людей, которые не верят в бога, сажают в тюрьму. И тебя тоже посадят в тюрьму, когда ты вырастешь… если только ты не поймешь, какие глупости ты говоришь… Ну, а теперь будем немножко веселиться!
И вот мы с фрейлейн Цецильхен веселимся. Мы поем песенку, весь смысл которой построен на каламбуре: по-немецки слово «фергиссмайннихт» означает и «незабудка» и «не забудь меня». Мы поем:
Фергиссмайннихт (незабудка)!
Я сказала: «Милый мой —
Фергисс-майн-нихт (не забудь меня)!»
Потом, взявшись за руки и составив хоровод из двух человек, мы кружимся и поем:
Рингель, рингель, райн!..
Цецильхен поет таким тоненьким голоском, что кажется — вот-вот он обломится, как острие иголочки! Мы кружимся сперва влево, потом вправо, потом опять и опять в обратные стороны. Конца этому веселью не предвидится. «Рингель, рингель, розенкранц! Рингель, рингель, райн!»
Наконец у Цецильхен начинает, слава богу, кружиться голова. Прикрыв глаза рукой с изящно оттопыренным мизинчиком, Цецильхен грациозно опускается в кресло. Но только я хочу воспользоваться этой удачей и исчезнуть, как Цецильхен раскрывает глаза и снова вцепляется в меня, как кошка в мышь.
— Ах, нэ-э! Ах, нэ-э! — говорит она певуче и перехватывает меня у двери. — Теперь я научу тебя говорить одно красивенькое-красивенькое стихотвореньице!
Вид у меня, вероятно, несчастный. Я явно не интересуюсь «стихотвореньицем». Поэтому Цецильхен пытается воздействовать на мое честолюбие:
— Придут гости — и ты будешь говорить это перед ними… И все скажут: «Ах, какая умная девочка!»
Я напоминаю ей, что гости были вчера и ничего я перед ними не читала. А если нужно, могла бы прочесть «Песнь о вещем Олеге»… Пожалуйста!
— Но ведь это по-русски! — не унимается Цецильхен. — А я тебя научу немецкому стихотвореньицу… Ну, будем же веселиться!
«Стихотвореньице» фрейлейн Цецильхен, если перевести его на русский язык, звучало бы примерно так:
Люби, пока хватает сил!
Ведь день настанет, день настанет —
И ты заплачешь у могил!
— Да, да, — со вздохом поясняет Цецильхен. — Когда умерли мои мама и папа, я так плакала, что все даже удивлялись! Вот увидишь, когда твои папа и мама умрут, ты тоже будешь очень сильно плакать.
Я не хочу, чтобы мои папа и мама умерли! Я соплю носом, я сейчас зареву на весь дом… Поэтому фрейлейн Цецильхен переводит веселье в другое русло.
— Хочешь, я покажу тебе фотографии в моем альбоме?.. Вот это — дядя жены моего двоюродного брата. Очень богатый господин — имеет собственное кафе в Мемеле! И кафе называется так красиво: «В зеленом саду»! И каждый день, с двенадцати часов, там играет музыка! Ах, совсем как в театре!
Это тянется долго…
— А вот фрау директор «Высшей школы дочерей», где я училась в Кенигсберге. Ах, фрау директор была такая добрая!.. Видишь, у нее брошка? Настоящие бриллианты!
Два раза я отпрашиваюсь в уборную и запираюсь там, словно за мной гонятся все эти незнакомые немцы и немки, чужие зятья и племянницы с выпученными глазами и настоящими бриллиантами.
Так проходит часа два.
И вдруг звонок у входной двери, длинный, громкий, — папин звонок. Папа входит в комнату в ту минуту, когда фрейлейн Цецильхен со слезами в голосе рассказывает, как у ее дяди в Инстербурге был пожар и в горящем доме забыли чудную, очень дорогую куклу, но добрый пожарный вынес куклу из огня! И доброму пожарному дали «на чай» целую марку!
— Едем! — говорит папа. — За мной прислали бричку от Шабановых из Броварни. Едем к Рите и Зое. Хочешь, Пуговка?
Хочу ли я прервать веселье с фрейлейн Цецильхен! Я чувствую себя той куклой, которую папа, как добрый пожарный, вызволил из огня!
Мама и Юзефа помогают мне быстро вымыть руки, надеть чистенькое платье, вдевают свежий бант в мои «кудлы».
Мама напутствует меня:
— Веди себя хорошо. Не ешь много сладкого… Яков, когда будете уезжать оттуда, посмотри, чтоб ребенок не был разгоряченный, потный.
— Ногами не тупоти, — вторит маме Юзефа, — новую обувку стопчешь… Не садись абы куда — посмотри прежде, чисто или нет…
Фрейлейн Цецильхен берется за свою шляпку:
— Должна ли я сопровождать вас, господин доктор?
Косясь краем глаза на мое перепуганное лицо, папа отвечает с такой изысканной вежливостью, словно он — тот величественный господин из альбома Цецильхен, владелец собственного кафе в Мемеле, под прелестным названием «В зеленом саду», где с двенадцати часов играет музыка:
— Благодарю вас сердечно, фрейлейн, но в бричке всего два места.
И мы уезжаем… Рингель, рингель, розенкранц!
Глава вторая. Спектакль-концерт
Броварня — пивоваренный завод верстах в восьми — десяти от города. Владельцы завода, Шабановы, давние наши знакомые и папины пациенты. Но к подружкам моим Зое и Рите Шабановым я попадаю не часто, только когда у них в доме кто заболеет: тогда за папой присылают бричку.
Мы едем втроем: папа, я и шабановский кучер Ян, которого папа называет «Ян Молчаливый». Даже с папой, которого Ян уважает, — папа вылечил его жену, — Ян ни в какие разговоры не вступает, ограничиваясь неопределенными междометиями. Он и не поворачивается к нам лицом — нам видна только спина его парусинового балахона на козлах брички.
— Как живете, Яне? Ничего? — спрашивает папа.
— Эге…
— Жена здорова?
— Ага…
— А дети? Небось большие уже?
— Ого-го!
Иногда, впрочем, по каким-то неожиданным поводам Ян вдруг произносит целые фразы. Например, у одного из прохожих на улице ветер сорвал с головы шляпу, шляпа катится по земле, а сам прохожий, как все люди в таких случаях, хватается обеими руками за голову.
— От-то дурень! — укоризненно говорит Ян. — Шляпу держал бы, не голову!..
Но обычно высказывания Яна обращены непонятно к кому. Вернее всего, он говорит сам с собой, отвечает собственным мыслям. «Эх, — вдруг говорит он в пространство, — не велики те псы, не велики и собаки!» или еще что-нибудь в этом же роде. Чаще же всего Ян негромко и однообразно напевает, монотонно, в одну дуду:
М-та, тута, тула-юла!
М-та, тута, тула-ю!..
Но это пение Ян разрешает себе лишь за городом, в городе же он песен не поет — он знает приличия. Раз как-то, проезжая по пустынной окраинной улице, папа спросил Яна, почему он сегодня не поет. На это Ян не ответил ни «еге», ни «ага», а неожиданно спросил:
— А я пьяный или что!
Мы едем. Бричку трясет на булыжной мостовой (резиновых шин мы еще не знаем). В бричке что-то стонет, скрипит, иногда екает. Но мне кажется, что мы мчимся со сказочной быстротой! Одна за другой остаются позади нас улицы, костелы, губернаторский дворец, скверы. Бессильно отстал от нас золоченый крендель турецкой булочной Чолакова, кабанья голова над колбасной Китца и огромкое изображение пенсне с синими стеклами над магазином оптика Малецкого. Вот проехали и аптеку «Под лебедем». Кажется, будто даже «риннштоки» — сточные канавы вдоль тротуаров (канализации в городе тоже еще нет) — быстрее мчат свои грязные, мутные воды нам вдогонку.
Бричка наша с грохотом несется все дальше и дальше, и вдруг наступает тишина! Бричка не остановилась, но грохот умолк — замолчала под колесами булыжная мостовая: кончился город, бричка, бесшумно подпрыгивая, катится по мягкой земле проселочной дороги.
По обеим сторонам — луга, начинающие зеленеть. Краски этой ранней зелени так чисты, так обновочно-нарядны, как платье из нестиранного еще ситца. Мир, такой тесный в городе, сразу становится огромным и сладко пахнет оживающей землей. Прямо над нашими головами плывет в небе облачко, белое, круглое, как кочешок цветной капусты, только прожилки в нем не зеленые, а голубые: из небесной синевы.
— Дыши! — командует папа. — Глубже дыши! До самого пупа!
Я дышу добросовестно, даже кладу руку на живот, чтобы проверить, доходит воздух до пупа или нет. Кругом так тихо, так солнечно и радостно, что я даже забываю задать папе неотложный вопрос: если земля вертится, то почему мы не сваливаемся с нее в те минуты, когда оказываемся повернутыми на ней головой вниз? И кстати: почему мухи ходят вниз головой по потолку и не падают?
Ян на козлах тихонько тянет: «М-та, тута, тула-юла…»
Минут десять мы стоим: в бричке что-то разладилось. Ян чинит. Бричка остановилась около чьего-то небольшого сада. Через забор лезут весенние веточки крыжовника с царапающимися, как v котенка, коготками.
И вот мы въезжаем в широкий мощеный двор Шабановых. Наш приезд вызывает, как всегда в деревне, шумный переполох и суетню. Люди выглядывают из окон, топочут, сбегая по лестнице, хлопают дверями, бегут с веранды к нашей бричке. Тут же вертятся и весело лают все броварнинские собаки. И даже издали смотрит на эту суматоху, хотя и с очень презрительным видом, броварнинский аист. Удивительная птица этот аист: совсем ручной, запросто приходит на веранду, никого не боится. По-русски он не понимает, только по-польски. Его и зовут ласковым польским словом «боцюсь», это значит «аистенок».
— Приехала! Умница! — бросается мне на шею Зоя. Рита огревает меня ладонью по спине:
— Молодчина! Я знала, что ты приедешь!
— Это гениально! Просто гениально! — тявкающим голосом надрывается Зои-Ритина тетя Женя.
В доме Шабановых, как во всех домах на свете, свой собственный запах: пахнет солодом — от пивоваренного завода, яблоками — из кладовки, свежим тестом и корицей — из кухни и немного — собаками. От одного приезда в Броварню до другого запах этот забывается, и его узнаешь, как старого знакомого. Есть, впрочем, и еще одно, что я успеваю забыть между поездками к Шабановым, а приехав, всякий раз вспоминаю с огорчением: Зоя и Рита ревнуют меня друг к другу.
Еще по дороге в дом хорошенькая, кудрявая Зоя успевает язвительно шепнуть мне:
— Ты, конечно, только к своей ненаглядной Риточке приехала!
А смуглая Рита, мрачно набычившись, словно она собирается бодаться, больно щиплет мою руку:
— Помни: или я, или Зойка!
Как будто нельзя играть всем троим вместе!
— Нет, это провиденциально! Просто провиденциально! — восторженно тявкает тетя Женя. Золотое пенсне слетает с ее носика и повисает на шнурочке.
Тетя Женя целый год училась в Петербурге на Бестужевских курсах, и наша Юзефа уверяет, будто тете Жене там «мозги спортили». Я не совсем представляю себе, как это можно испортить человеку мозги. Сломали? Сунули туда гвоздь или шпильку? Но одно несомненно: тетя Женя сыплет всегда непонятными словами, никто не говорит так, как она.
— У нас сегодня спектакль-концерт! — объясняет тетя Женя папе. — Я, знаете, написала для них маленькую пьеску — называется «Три рыцаря». Историческую. Из жизни средних веков… Рыцаря Счастливой Звезды будет играть Зоенька, Рыцаря Львиное Сердце — Риточка. А вот Рыцаря Печального Образа должна была играть соседская девочка, но она час тому назад заболела. Можете себе представить, наш спектакль оказался под угрозой! — Тетя Женя всплескивает руками и взвизгивает: — Фатально! Просто фатально!
Теперь, с моим приездом, все устраивается: Рыцаря Печального Образа буду играть я. Меня уверяют, что роль маленькая, выучить ее легко, можно даже в крайнем случае написать роль на клочке бумаги и читать ее по «шпаргалке». От этого я, конечно; гордо отказываюсь — я выучу наизусть, не бойтесь!
— А ты не испугаешься перед публикой? — волнуется тетя Женя.
— Не испугаюсь!
Откуда у меня такая нахальная уверенность, непонятно. Я ведь не только никогда до этого не играла ни в каких спектаклях, но и почти не бывала в театре. Когда я была еще совсем маленькая — мне не было пяти лет, я еще не умела читать, — меня однажды взяли в театр на праздничный утренник. Мама сказала: «Будут представлять «Бедность не порок».
Я поняла это как «Бедный Снепорок».
В театре мне больше всего понравилось, что поехали мы туда на извозчичьих санках, а в антракте мама дала мне шоколадку. Неизгладимое впечатление произвело на меня, когда стали длинной палкой зажигать газовые горелки — электричества в то время в городе еще не было, квартиры освещались керосиновыми лампами или свечами. Но в ту минуту, когда занавес — он казался мне до этого неподвижной стеной — вдруг толчками и рывками полез вверх, на меня напал какой-то восторженный столбняк, как если бы я увидела, что дома на улице пустились в пляс или люди полетели, как птицы, по воздуху! Мама потом рассказывала, что я весь спектакль просидела ошеломленная, даже вопросов не задавала никаких.
Поняла я в пьесе очень мало. Запомнилось мне, как Коршунов говорил Любе: «Я вас буду в люлечке качать! У меня жена в золоте ходила!» Дома на вопрос папы: «Ну, что было в театре?» я ответила: «Очень…» Потом попыталась рассказать ему:
«Люба там была. Она хотела на Мите жениться. А старик пришел — ужасно богатый! — и говорит ей: «Я вас буду в люлечке качать, у меня жена в золотых подштанниках ходила…»
Вот когда сказались Юзефины представления о богатстве!
Потом, пристроившись поудобнее к папиному плечу, я добавила с огорчением: «А бедного Снепорока не показали почему-то…» И заснула.
А вот сейчас мне придется самой играть на сцене! Играть Рыцаря Печального Образа в пьесе «Три рыцаря» сочинения Зои-Ритиной тети Жени. Роль в самом деле несложная, через десять минут я знаю ее назубок. Я должна выйти в отгороженную часть гостиной — это называется «на сцену» — и, поклонившись зрителям, сказать «грустным-грустным» голосом:
«Я — Рыцарь Печального Образа. Я никогда не смеюсь. Я всегда страдаю и плачу. Даже цветы при виде меня вянут и с деревьев осыпается листва. Жизнь потеряла для меня всякую цену с тех пор, как моя обожаемая супруга Изабелла безвременно сошла в могилу».
Потом опять поклониться и уйти. Вот и весь Рыцарь Печального Образа! Сказать по правде, я немножко разочарована. Я думала, что буду настоящий рыцарь: мне дадут латы и меч, я буду совершать подвиги… У нас дома есть Пушкин, и я не один раз перечитала «Скупого рыцаря». Вот бы это сыграть, как сидит отвратительный старик в подвале при свечах и считает свои страшные деньги!.. Или прочитать стихотворение «Жил на свете рыцарь бедный»! Я, правда, не очень понимаю это стихотворение, но, когда начинаю читать, мне чудится будто я плыву в лодке по реке… А тетя Женя сочинила, чтоб я «грустным-грустным» голосом сказала, что ах, ах, как печально, умерла моя Изабелла… Такое впору бы сочинить нашей фрейлейн Цецильхен! «Фергисс-майн-нихт!»
Пока идут приготовления к спектаклю, я пробираюсь в столовую, где сидит мой папа в обществе Владимира Ивановича и Серафимы Павловны Шабановых.
— Ну-с, — говорит папа, — зачем я вам сегодня понадобился?
Серафима Павловна, которая перемывает чайную посуду, отрывается от этого дела и, прижимая к груди мокрое чайное полотенце, отвечает папе грустно-грустно, как Рыцарь Печального Образа:
— Яков Ефимович… Для меня прежде всего бог, а потом — сию минуту! — вы. Сколько уж раз вы моих детей спасали, спасите и теперь. Чем хотите лечите, только вылечите!
— Да от чего их лечить, Серафима Павловна, голубушка? Здоровые дети…
Серафима Павловна .опускается на стул и начинает плакать. Не найдя своего носового платка, она вытаскивает платок из кармана мужа и горестно сморкается.
— Яков Ефимович! — говорит она с легкими всхлипываниями. — Ни-ка-ко-го аппетиту нет у детей! Не едят ни-че-го! По десять копеек плачу им за каждый стакан молока, только пусть пьют! Вот до чего дошло!
Владимир Иванович высоко поднимает плечи и ожесточенно пыхтит трубкой.
— Умалишотка! — он сердито кивает папе на жену. — Восемь стаканов молока в день выдувают дети, — по сорок копеек каждой за это. Да у меня на заводе рабочий того не получает!
Владимир Иванович очень волосатый. Такое впечатление, что волосы его уже и девать некуда, они запиханы куда попало: в нос, в уши… А сросшиеся брови — как толстая, мохнатая гусеница, изогнувшаяся над глазами.
Серафима Павловна, положив круглый, как яблоко, подбородок на круглую руку, скорбно смотрит на папу:
— Яков Ефимович!..
— Ну хорошо… — Папа достает из кармана записную книжечку и карандаш. — Прошу вас, Серафима Павловна, перечислить мне по порядку, что именно ваши дети съедают за день.
— Утречком, — старательно припоминает Серафима Павловна, — подают им в постельку парного молочка…
— Выпивают?
— По десять копеек за стакан… Это в восемь. А в девять — завтрак: какао, яички — свеженькие, из-под курочек, — сметана, творожок, сыр, ветчина… И обязательно одно горячее блюдо!
— Это в девять, — отмечает папа в книжечке. — А дальше?
— В одиннадцать опять молоко…
— По гривеннику за стакан?
— Иначе не пьют! — вздыхает Серафима Павловна. — А в час — обед. Обыкновенный: три-четыре блюда. В три — опять по стаканчику молочка. А в пять — чай… ну, булочки сладкие, печенье, варенье, фрукты свежие, летом, конечно, ягоды…
— В одиннадцать — молоко, в час — обед, в три — опять молоко, а в пять — чай, — записывает папа.
— А в семь — ужин. В девять — молоко, и спать… И все!
У папы дрожат губы и подбородок: это он удерживается от смеха.
— Итого, — заключает папа, — они у вас едят каждые два часа.
— Едят они! — Глаза Серафимы Павловны наливаются слезами. — Кусочек того, капельку этого, здесь глоточек отопьют, там вилкой поковыряют, размажут, раздрызгают по тарелке, и все!.. Яков Ефимович, дорогой, ну скажите, вы ученый человек, чего им еще нужно, детям моим?
И вдруг папа начинает хохотать. Он хохочет, нагнув голову, словно собираясь долбануть носом собственное колено. Он весь сотрясается и плачет крупными слезами, слезы застилают его очки, как дождевые капли — оконное стекло.
— Чего им еще нужно при таком питании? — переспрашивает он сквозь смех. — Второй желудок им нужен! Не может один желудок все это переварить!
— Я ж говорю: умалишотка! — хохочет и Владимир Иванович.
— Вот что, Серафима Павловна… — Папа уже серьезен, даже строг. — Вы хотите от меня совета? Так вот: уменьшить детям порции вдвое и кормить их реже. Восемь раз в сутки даже грудных детей не кормят.
Серафима Павловна внимательно слушает. Однако папино предложение ей, видно, не нравится, у нее какая-то другая мысль.
— А что, Яков Ефимович, — пододвигает она свой стул, как бы собираясь поговорить о чем-то более секретном, — что, если я буду звать к обеду, к ужину двух-трех, ну, вроде гостей… хотя бы детей наших рабочих? Понимаете, для компании, для аппетиту, а? Как вы скажете?
— А что ж! — одобрительно отзывается папа. — У тех-то ребят аппетит, наверно, хороший — может, ваши с ними вместе лучше есть будут.
— Ты придумаешь! Умалишотка! — недовольно ворчит Владимир Иванович. — Босоту рябчиками кормить!
— Зачем же рябчиками? — оправдывается Серафима Павловна. — Им простое кушанье дадут — картошку, селедку… Только за одним столом сидеть будут, вот и все.
— Ну, кончен вопрос! — Папа хлопает себя рукой по коленке. — Вы хотели, чтобы я мамашу вашу посмотрел, вот и покажите ее. А потом — видите там, за забором? — меня еще другие больные ждут.
Но тут Владимир Иванович предостерегающе поднимает мохнатый, как репейник, указательный палец:
— Яков Ефимович! Помните наш уговор: хотите моих рабочих лечить, — ваше дело! Только ваше!
— А чье ж еще? — удивляется папа.
— Не мое! — резко отрубает Владимир Иванович.
— А конечно ж, не ваше. Я врач, мне и лечить…
Брови Владимира Ивановича шевелятся, как щетки. Вот-вот смахнут моего папу, как метелка соринку.
— А платить? — грозно допытывается Владимир Иванович. — Я вам сто раз говорил: я не буду!
— А я с вас когда-нибудь за лечение ваших рабочих платы требовал? Требовал, да? — говорит папа уже с раздражением.
Серафима Павловна ласково кладет свою руку на папину и нежно заглядывает ему в глаза:
— Яков Ефимович, ну зачем вы это делаете? Такой доктор, господи… Вам бы генерал-губернатора лечить, а вы с нищими возитесь. На что они вам дались?
— Серафима Павловна! Я присягу приносил!
— Прися-а-гу? — недоверчиво переспрашивает Владимир Иванович, высоко поднимая гусеницу своих бровей.
— Присягу, да! — подтверждает папа. — Когда Военно-медицинскую академию кончал. Торжественную присягу: обещаю поступать так-то и так-то. И был в той присяге пункт. Слушайте! — Папа поднимает вверх указательный палец, заляпанный йодом палец хирурга с коротко подстриженным ногтем: — «…И не отказывать во врачебной помощи никому, кто бы ко мне за ней ни обратился». Вот!
Я все еще сижу в уголке дивана, обо мне забыли. Я смотрю на моего папу. Он стоит между супругами Шабановыми, худой, подвижный, с печальными и насмешливыми глазами, с поднятым вверх разноцветным указательным пальцем… Отличный папа!
Но Владимир Иванович не сдается:
— Ну хорошо, присяга там, пято, десято… Но ведь, говорят, вы всю Новгородскую слободку лечите, а там же одни воры живут! Во-ры! Что же, для вас и вор — человек?
— Так ведь на лбу-то у него не написано, вор он или граф, — говорит папа. — Пришел, зовет меня — я к нему еду… А нищета у него, скажу я вам, такая же, как у ваших рабочих… И знаете, Владимир Иванович, ведь если бы у него был выбор, вором быть или графом, думаете, он бы воровство выбрал?
— У него другой выбор, — упрямо настаивает Владимир Иванович, глядя в пол, — работать или воровать!
— Так ведь не для всех же есть она, работа! — почти кричит папа. — А для кого работы нет, для тех один выбор: подыхай с голоду или воруй!
— Так… — грозно говорит Владимир Иванович. — Воров, значит, жалеете?
— Нет! — твердо отвечает папа. — Если вы, Владимир Иванович, вы, богатый человек, украдете, — в тюрьму вас! Без жалости! Украду я, человек с образованием, с профессией, — и меня в тюрьму! Вот, — папа показывает на меня, — дочка моя знает: нитки чужой, копейки тронуть не смеет! Она сыта, одета, в тепле, ее воспитывают, учат… Если она украдет, я первый полицию позову! Но если темный, безграмотный человек, для которого нигде нет работы, украдет кусок хлеба для своих голодных детей…
— Ну? — рычит Владимир Иванович.
— Сам встану и собой его от полиции заслоню! Понимаете? Сам!
Серафима Павловна бестолково поворачивается то к мужу, то к папе:
— Ну что, в самом деле… Володя! Яков Ефимович! Как маленькие! Только сойдетесь — и начинаете спорить… И ведь каждый раз!
В эту минуту меня приходят звать: тетя Женя одевает участников спектакля. Сейчас она превращает в старика того мальчика, который будет читать пролог к пьеске «Три рыцаря». Тетя Женя старательно приклеивает ему яичным желтком длинную бороду из ваты. Я пока сажусь в сторонке. Думаю о том, что я только что слышала, — о папиных словах, — и вдруг мне вспоминается… Такое неприятное, такое досадное!..
Был у нас с папой случай, очень нехороший. У хозяев дачи, где мы жили летом, был огромный фруктовый сад. Хозяин сдавал сад в аренду садовнику. С самой весны садовник, его жена и все дети, кроме младшенького, грудного, работали от зари до зари, чтобы собрать за лето побольше фруктов, — они их продавали. Как-то соседские дети позвали меня с собой «воровать яблоки», то есть потихоньку от садовника собирать под яблонями зеленую подгнившую падалицу. Я принесла домой в подоле пять зеленых яблочек с гнилью на боку, твердых, как камешки. Дома папа только что приехал из города и сел на балконе обедать. Я вбежала, с торжеством показала свои яблоки.
— Это я сама! Сама украла!
Папа встал из-за стола:
— Что такое? Ты украла?
Мой восторг перед собственным молодечеством сразу обмяк.
— Пойдем! — Папа стал спускаться по ступенькам балкона.
Я поплелась за ним. Яблочки в моем подоле глухо постукивали друг о друга здоровыми половинками. Мои сандальки, легкие и быстрые, вдруг стали тяжелыми, как ведра…
Мы подошли к шалашу садовника. Вся семья уставилась на нас вопросительно и даже встревоженно: у папы был очень зловещий вид.
— Ну? — сказал мне папа. — Говори!
— А что говорить? — прошептала я.
— Сама должна знать… Ну?
Я высыпала яблочки из подола:
— Вот. Это ваши. Я взяла…
Я посмотрела на папу: все? Папа отрицательно мотнул головой: нет, не все. Я поняла, чего он хочет, но — ох, как это было трудно сказать!
— Простите, пожалуйста… Я больше никогда…
Тут я заревела, громко, в голос. Слезы бежали из глаз, в горле что-то само икало. Сейчас же за мной заплакали дети садовника — верно, очень уж я аппетитно ревела! — и даже самый маленький, дремавший на коленях у матери, заорал так, словно его положили на раскаленную сковородку!
Попрощавшись с садовником и его женой, папа пошел домой. Я шла за ним, как трусит нашкодивший цуцик с виновато опущенным хвостом.
— Папа… Папочка…
Но он не оборачивался. Как глухой.
— Вот что, — сказал он наконец, — запомни, пожалуйста, на всю жизнь: ни одной чужой копейки, нитки чужой, куска чужого никогда не смей брать! А теперь — не ходи за мной… И не попадайся мне на глаза… ну, хоть до вечера. Мне на тебя смотреть противно.
Невеселые эти воспоминания я перебираю в уме, сидя в Зои-Ритиной детской, в ожидании, пока тетя Женя станет превращать меня в Рыцаря Печального Образа.
Тетя Женя совсем не похожа на свою сестру Серафиму Павловну. Та — крупная, полная, устойчивая, как массивное, неподвижное кресло. А тетя Женя худая, стремительная, как пустая качалка, которую кто-то, идя мимо, задел ногой и она качается на холостом ходу. Все у нее валится из рук, пенсне поминутно слетает с носа, на руке звенит браслетка из серебряных гривенников. И говорят обе сестры по-разному. Серафима Павловна медленно, басовито воркует, как сытый голубь, а тетя Женя повизгивает, оглушая собеседника непонятными словами.
Но вот усилиями тети Жени мальчик превращен в глубокого старика с длинной белой бородой — как у бога в молитвеннике фрейлейн Цецильхен!
— Только, Гриша, заклинаю тебя всем святым, — просит тетя Женя, — не трогай бороду руками, чтобы не отвалилась!
Гриша божится, что не дотронется до бороды, и успокоенная тетя Женя начинает одевать Зою и Риту.
Моя очередь одеваться еще не скоро. Я сижу в кресле и думаю. Случай с ворованными яблоками почему-то приводит мне на память другую размолвку мою с папой…
Я тогда еще была совсем маленькая — лет пяти, не больше. Мне подарили ко дню рождения чудесную куклу — говорящую! Потянешь за один шнурочек на кукольном животике, кукла скрипит: «Уа! Уа!» — это значит: «Ма-ма!» Потянешь за другой шнурочек, кукла опять верещит: «Уа! Уа!» — это означает: «Па-па!» В общем, кукла говорила не очень богато, но я была в восторге, и мне казалось, что это очень похоже на человеческую речь.
Пришла я с этой куклой — я с ней не расставалась! — в гости к бабушке и дедушке, родителям моего папы. Они жили в большом старом доме, где двор всегда был переполнен детьми. С самого утра эти дети, как юркие горошины из надорванного стручка, выкатывались во двор из своих жилищ: из подвалов, из мансард под крышей, из тесных, темных каморок. Дети были босые, оборванные. Отцы их работали на фабриках, в мастерских, и когда у отцов была работа — у детей был хлеб, иногда даже с головкой лука или куском селедки. Но часто работы у отцов не было, дети голодали. Бабушка моя зазывала таких детей к себе, кормила их чем могла.
— Ребенок должен кушать… — ворчала бабушка про себя. — Есть у отца работа или нет — разве ребенок виноватый? Ребенок должен расти…
Игрушек у этих детей не было. Они играли щепками, камешками, летом — стручками акаций. Девочки нянчили и баюкали поленья дров, заботливо закутанные в тряпки.
Так вот, пришла я к бабушке и дедушке, посадила свою чудесную говорящую куклу на окно (квартира была во втором этаже) и вдруг вижу — под окном, во дворе, собралась кучка девочек. Как зачарованные, они не сводят глаз с моей куклы. Я приподняла куклу, чтобы девочки могли лучше рассмотреть ее, стала поворачивать куклу так, чтобы они могли разглядеть ее со всех сторон. Потом стала тянуть за шнурочки, чтобы кукла «заговорила». Девочки смеялись, одна захлопала в ладоши, другие подхватили. Вдруг чья-то рука резко вырвала у меня куклу. Я обернулась — позади меня стоял папа, и такой злой, рассерженный, что я обомлела. С сердцем выхватив у меня куклу, папа размахнулся, чтобы вышвырнуть ее в окно на вымощенный камнями двор.
— Яков! Разобьешь…
Это подоспела бабушка. Она крепко держала папу за руку.
Папа опомнился. Посмотрел на меня, на куклу, на девочек во дворе. И вдруг, словно обрадовавшись, крикнул в раскрытое окно:
— Девочки! Бегите сюда, скорее!
И когда девочки вбежали в комнату:
— Вот, девочки, моя дочка дарит вам куклу. У нее есть дома другая.
— Та кукла не умеет говорить! — прошептала я с отчаянием.
— Ничего, научится! — отмахнулся от меня папа. — Берите, девочки!
— Насовсем? — пискнула тоненьким голоском самая маленькая из девочек, кудрявенькая, с босыми ножками.
— Насовсем! — И папа протянул кудрявенькой куклу. Девочки опешили, даже попятились к двери.
— Бери, бери, — настаивал папа.
Кудрявенькая протянула руки, папа положил на них мою «говорящую». Девочка оглянулась на своих подружек — они не сводили с куклы восторженных глаз. Кудрявенькая посмотрела на папу пристально, словно хотела понять, не шутит ли он, можно ли ему верить.
И — поверила. Поверила и широко, как другу, улыбнулась папе. Потом она сказала, словно пропела, все тем же тоненьким голоском:
— Ой, кукла! Кукла!
И, приблизив куклу к своему лицу, кудрявенькая, выпятив губы трубочкой, неожиданно загудела басом:
— У, ты моя хорошенькая! У, ты моя золотенькая!
И убежала вместе с другими девочками, унося мою «говорящую». Быстро удалялось топанье босых пяток по полу. Потом смолкло.
Папа вышел из комнаты, даже не поглядев в мою сторону.
— За что папа на меня рассердился? — плакала я, уткнувшись в бабушкин фартук. — Что я сделала такого?
— Как «что»? — удивилась бабушка. — А зачем ты хвалилась куклой перед этими детьми? «Вот какая у меня кукла! А у вас такой нет!» Ай, как стыдно! Ай, как некрасиво! — огорчалась бабушка.
Через полчаса девочки прибежали снова. Кудрявенькая подала мне куклу:
— Вот. Спасибо. Мы уже поиграли.
— Вы не бойтесь, мы осторожненько, — вставила другая девочка, постарше. — Мы ничего не спачкали — мы руки вымыли.
Вернулись мы все-таки с папой домой без куклы. Папа настоял на том, что кукла подарена девочкам, — ну значит, она теперь ихняя, и все.
Все это проносится в моей памяти, пока я смотрю, как тетя Женя одевает Зою, и дожидаюсь своей очереди.
— Зоенька, солнышко! — умоляет тетя Женя. — Не перепутай то слово, заклинаю!
— «Атмоф-сера» — да, тетя Женя?
— Наказание мое! Не «атмофсера», а «атмосфера». Атмосфера! Не перепутай!
Зоя и Рита уже одеты. На обеих — мальчишечьи штанишки. Зоя до пояса закутана переливчатым блесточным шарфом, как кольчугой, а на кудрявых волосах надета шапочка со сверкающей елочной звездой. Ну прелесть Рыцарь Счастливой Звезды!
У Риты на голове — феска, на плечах — красная пелеринка. Нарисованы черные усы. В общем, сразу видно: кровожадная личность — Рыцарь Львиное Сердце.
Тетя Женя начинает одевать меня, и настроение у меня портится с каждой секундой. Мальчишечьих штанишек мне не дают — тетя Женя хочет, чтобы у меня был «подавляюще унылый вид», а в штанишках это, по ее мнению, не получится. Поэтому поверх моего платья на меня напяливают длиннополый черный капот тети Жени — я в нем моментально тону, как в омуте! Голову мне туго и гладко повязывают черненьким платочком — нельзя же, чтобы у Рыцаря Печального Образа торчали во все стороны «кудлы»! А в то место на затылке, где платочек стянут в узелок, тетя Женя втыкает мне длинное черное страусовое перо — такие перья колышутся на спинах коней, везущих похоронные колесницы.
— Прекрасно! — говорит тетя Женя, склонив голову набок и оглядывая меня с головы до ног. — Очень, очень стильно!
Уж не знаю, стильно или нет (надо будет спросить у папы, что это еще за «стильно» такое!), но, взглянув в большое зеркало, я себе самой ужас до чего нравлюсь! В необъятном капоте тети Жени я похожа на длинный черный восклицательный знак, а страусовое перо кажется воткнутым в мою голову, как в чернильницу! Ходить в тети Женином капоте невозможно — наступаешь сама себе на полы и спотыкаешься. Пока, в ожидании выхода на сцену, я подбираю со всех сторон фалды капота — так Юзефа подтыкает юбку перед тем, как мыть пол, — и держу этот шлейф руками.
— Когда пойдешь на сцену, — напоминает мне тетя Женя, — не забудь опустить полы капота.
Ну конечно, опущу, не забуду. Маленькая я, что ли?
Первой, сияя елочной звездой, выпархивает на сцену Зоя. Зал полон. Вся семья Шабановых, соседи, прислуга встречают хорошенького Рыцаря Счастливой Звезды аплодисментами. Стоя у чуть притворенной двери в гостиную, я бы тоже от души аплодировала, но руки у меня были заняты фалдами тети Жениного капота.
— Аплодируешь? — шипит Рита. — Зоечке своей драгоценной?
Между тем на сцене Зоя бойко, «радостно-радостно», как ее учила тетя Женя, говорит свой монолог:
— Я — Рыцарь Счастливой Звезды! В моем чудном замке царит ат-моф-се-ра счастья, все сияет и сверкает, все поет и цветет. Жизнь протекает вечным праздником в балах и рыцарских турнирах в честь моей возлюбленной графини Элеоноры!
Окончив этот монолог, Зоя раскланивается со зрителями и убегает. Ее провожают восторженные хлопки. Никто, конечно, не заметил перепутанной «атмофсеры».
— Теперь ты, Рита! — командует тетя Женя.
Рита вылетает на сцену так стремительно, словно ею выстрелили из рогатки! Это тоже производит отличное впечатление на зрителей. Слышны аплодисменты и одобрительные возгласы:
— Ого!
— Казак-девчонка!
Рита начинает грозным голосом:
— Я — Рыцарь Львиное Сердце!
Она выпаливает это оглушительно громко и с таким вызовом, словно хочет сказать:
«Да, да! Львиное Сердце! А кому не нравится, может убираться вон! Не заплачем!»
Зрители стихают. А Рита продолжает, яростно рубя воздух кулаком:
— Моя отрада — сражения и битвы! Я налетаю на врагов, как ястреб! Мой добрый меч рубит им головы, мой верный конь топчет их бездыханные тела! Так служу я моему королю и моей прекрасной даме!
Рита кончила. Гром аплодисментов!
— Иди, Сашенька! — говорит мне тетя Женя. — Теперь ты…
Я выхожу на сцену. Мое появление вызывает такой хохот зрителей, что я в недоумении останавливаюсь.
— Капот! — слышу я из-за двери трагический шепот тети Жени. — Опусти полы!
Только тут я спохватываюсь, что стою перед зрителями, подхватив со всех сторон руками полы своего злополучного капота, словно собралась переходить вброд ручей! Я поспешно опускаю полы капота и иду вперед. Но бурная веселость в зрительном зале не утихает — вероятно, моя унылая черная фигура очень смешна.
— Похоронная процессия едет!
— Нет, нет! Ксендз в черной сутане!
И тут происходит самая большая беда. Я делаю два шага, чтобы раскланяться и начать произносить «грустным-грустным» голосом свой монолог, но, наступив на свой капот, падаю, растянувшись во весь рост на полу… Смех вспыхивает еще громче! Я упрямо делаю попытку встать снова и пройти расстояние до края сцены, но снова падаю, беспомощно барахтаясь на полу, лежа на животе.
— Как жаба! — восторженно кричит кто-то из зрителей.
Тогда я решаю: не встану! Скажу свой монолог лежа, — какая разница? И, все так же распластавшись лягушкой, я начинаю говорить. Но от волнения и огорчения я перепутываю слова и говорю «грустно-грустно»:
— Я — Пецарь Рычального Образа…
Зрители уже не смеются — они стонут, они плачут от смеха!
Мне, конечно, очень хочется заплакать… Но тут я вдруг замечаю среди зрителей моего папу! Он смотрит на меня с тем лицом, с каким он обычно говорит мне: «Ненавижу плакс!» И слезы сразу высыхают на моих глазах. У меня мелькает мысль: уползти со сцены на четвереньках, тем более что иначе я все равно не могу сделать шагу, не спотыкаясь о капот и не падая все снова и снова.
Я смотрю на папу. Это длится секунду или две, но я понимаю, что уползти по-собачьи нехорошо, что раз я взялась сказать какие-то слова, я должна сказать их во что бы то ни стало. Капот мешает мне? А ну его совсем, этот капот! В один миг я расстегиваю пуговицы капота, он остается лежать на полу, я в собственном платье и с пером на голове подхожу к краю сцены, кланяюсь и начинаю говорить, слегка задыхаясь:
Молчаливый и простой,
С виду сумрачный и бледный,
Духом смелый и прямой…
Никто в зале не смеется. Пушкин — это Пушкин. И если не все понимают трагедию бедного рыцаря (я ведь и сама ее толком не понимаю!), то все чувствуют музыку пушкинского стиха.
Почему я вдруг читаю не то, что мне назначено, — не про бедную покойницу Изабеллу, а Пушкина, — не знаю. Может быть, оттого, что я боюсь опять напутать («Пецарь Рычального Образа»!), а может быть, мне невольно захотелось как бы омыться светлыми струями пушкинской поэзии от всех перенесенных неприятностей и унижений… Но зрители аплодируют так же непосредственно, как за несколько минут до этого смеялись надо мной.
Все кричат: «Автора! Автора!» Тетя Женя, автор «исторической пьески о трех рыцарях из времен средних веков», выходит на вызовы одна, без Пушкина. От скромности и смущения лицо у тети Жени красное, как борщ, который забыли заправить сметаной. Тетя Женя раскланивается, грациозно прижимая руки к сердцу, ее пенсне летает на шнурочке, как привязанный мотылек…
Потом начинаются концертные номера. Соседка-барышня поет романс. Она так напирает на буквы «ч» и «щ», словно прачка шлепает вальком по мокрому белью:
И в небе звездоЧки иШЧЭзли…
Пока певица старается, за сценой происходит бурная драма. Вовик Тележкин, который должен сейчас выйти играть на скрипке, вдруг испугался и не хочет выступать! Мама Вовика уговаривает его, умоляет, почти плачет, но Вовик, закрыв глаза и судорожно выпятив ощеренную нижнюю челюсть, упирается:
— Н-н-нет!
— Вовик, золотце, рыбка моя… — Мама осыпает его нежными словами и поцелуями.
— Н-н-нет! У меня там одно фа не выходит.
— Вовик, мама просит… Ты совсем не любишь свою маму!..
— Н-н-нет!
Зрители в зале уже прослушали романс про «веЧЭрние луЧЫ», они ждут скрипача, аплодируют и топают ногами. Но Вовик упрямо трясет головой:
— Нет!
Тогда к Вовику подходит Рита и, как всегда хмуро набычившись, говорит ему:
— Сию минуту ступай играть, идиот!
И удивительно — Вовик как миленький отправляется со своей скрипкой на сцену! Мама его вздыхает, словно ее вытащили из воды.
Вовик усердно пиликает. Но в середине пьески, очевидно дойдя до того фа, которое у него «не выходит», Вовик умолкает, беспомощно озирается и, тряся головой, кричит:
— Н-н-нет!
И опрометью бежит со сцены.
Спектакль-концерт окончен.
Глава третья. Званый ужин
Зрители все разошлись. Осталась только я — папа ходит по хатам рабочего поселка.
В детской Риты и Зои накрыт стол. Одна половина стола заставлена разнообразной едой. Тут первая бледно-розовая парниковая редиска, горшок со сметаной, сардины, отливающие жемчужно-опаловым блеском, пирожки, жареная курица, прижавшая под мышкой, как портфель, собственный пупок. На другой половине стола — несколько селедок в селедочнице и большая миска с вареной картошкой.
Мы с Зоей и Ритой усаживаемся за первой — обильной — половиной стола. Я проголодалась — ведь мы с папой выехали из дому, не успев пообедать. Рита и Зоя наперебой предлагают мне то одно, то другое, накладывая мне на тарелку всякую еду. Сами же они — правду говорила папе Серафима Павловна — есть не хотят. Зоя лениво хрупает вынутую из вазы за хвост редиску. Рита разломила пополам пирожок и не стала есть.
— С мясом… — делает она гримаску.
Только что я собралась приняться за еду, как в комнату входит Серафима Павловна, веселая, с хитроватой искринкой в глазах («Вот как я хорошо подстроила!»). За Серафимой Павловной входят два мальчика лет десяти и смущенно останавливаются у дверей, переминаясь босыми ногами.
— Девочки, принимайте гостей! — объявляет Серафима Павловна. — Если вы и сами будете кушать, они будут приходить к вам каждый день. Как тебя зовут, мальчик?
— Колька… Николай… — Мальчишка краснеет не только лицом, но и кожей на коротко выстриженной белесой голове.
Эта голова почему-то привлекает к себе тревожное внимание Серафимы Павловны.
— Что это у тебя, Коля, с волосами?
— Мамка скоблила… — объясняет он. — Звестное дело, не умеет она… Не пикирмахер…
Голова Кольки в самом деле носит следы домашних ножниц: вся в лесенках и беспорядочных просеках.
Серафима Павловна успокаивается: слава богу, не колтун у мальчика или, сохрани бог, парша!
— А как тебя звать? — обращается она ко второму мальчику, в длиннейшей, видно отцовской, рубахе с закатанными рукавами.
При взгляде на него я сразу вспоминаю, как я только что тонула в капоте тети Жени!
— Антось… — называет себя мальчик. Но тут позади раздается звонкий голосок:
— А я — Франка!
И между обоими мальчиками протискивается веселое лицо девочки лет семи. У нее круглая головка, очень подвижная, поворачивающаяся то к одному, то к другому, как у воробышка или синички. В косицу вплетен обрывок чистой тряпочки.
— Ага! Франка! — повторяет девочка.
— Да ты откуда взялась? — смеется Серафима Павловна. — Я тебя раньше не видела.
— А я с ими. С хлопчиками…
Франка стоит впереди мальчиков. От смущения и застенчивости она чешет одну босую ногу о другую и все время быстрыми «воробышковыми» движениями поворачивает круглую головку ко всем присутствующим. Что-то светлое и доверчивое есть во Франкиных глазах и веселом лице. На руках у Франки — девчушка лет полутора, очень похожая на Франку круглой головкой и глазами. Таскать ее на руках, видимо, нелегко, и Франка стоит, несколько откинувшись назад для равновесия.
— Ну, матушка, — разводит руками Серафима Павловна, — ребенка притащила! Ты бы еще козу привела… Или поросенка!
— Не, пани! Нема у нас ани козы, ани порося… — Франка докладывает это с таким счастливым, сияющим лицом, как если бы она говорила: «Есть! Есть! И коза и поросенок — все у нас есть!» — А то — моя сестра Зоська! — показывает она на девочку, которую держит на руках.
И вдруг, видимо, испугавшись, что с Зоськой ее не пустят дальше порога этой красивой комнаты, заставленной игрушками, Франка плачет. Но и слезы, брызнувшие из ее глаз, какие-то светлые, даже веселые, как солнечный дождик!
— Не гоните меня, пани! Зоська будет тихонько-тихонько!..
— Оставь ее, мама! — просит Зоя. — Мы потом будем играть с ее малышкой, наденем на нее платье и чепчик моей куклы Маргариты!
— Почему твоей Маргариты? — сердится Рита. — Почему не моей Софи?
— Ладно! — разрешает Серафима Павловна. — Садитесь все за стол. Вот сюда. — Она показывает на ту половину стола, где стоят селедки и картошка. — Только уговор: если Зоенька и Риточка хотят, чтобы к ним ходили каждый день, они тоже будут хорошо кушать… Да, девочки?
Осветив всех своей доброй улыбкой, Серафима Павловна уходит из комнаты.
Неожиданные гости — Коля, Антось и Франка со своей сестренкой — быстро садятся за стол.
— Кушайте, пожалуйста, — любезно приглашает Зоя, как дама, принимающая гостей.
Но гости и без «пожалуйста» принимаются за еду.
Антось, который у них вроде как за старшего, делит картошку и селедки по трем тарелкам. Он делает это быстро, точно, справедливо, как артельный староста, — порции совершенно равные! Оставшуюся картофелину и кусок селедки он кладет на Франкину тарелку: для Зоськи.
Мы с Зоей и Ритой не едим. Мы смотрим.
Зоя и Рита, перекормленные дети, для которых еда — надоевшее, неприятное дело, хуже наказания, во все глаза смотрят на этих ребят, весело, жадно уминающих картошку с селедкой.
И хотя я расту в семье, где нет культа еды, меня к еде не принуждают, и я нередко вижу, как едят люди, проголодавшиеся после работы, едят со здоровым аппетитом, — но вот этого, что сейчас развертывается перед моими глазами, я тоже еще никогда не видела! Это — голод, застарелый, привычный голод, вряд ли когда-либо утоляемый досыта…
Франка ест сама и с материнской нежностью кормит Зоську. Если Франка случайно замешкается, Зоська требовательно тянется ручонками и кричит: «Дай, дай, дай!» Иногда она даже пытается залезть пальчиками во Франкин рот, чтобы вырвать оттуда еду: «Дай, дай, дай!»
Картошка убывает с поразительной быстротой, селедок уже нет.
Вот уже съедено все, подобраны крошки развалившихся картофелин. Коля, Антось и Франка сидят неподвижно, не сводя глаз с еды, поставленной на нашем конце стола. Они еще не сыты.
— Что же ты не ешь? — радушно спрашивает Зоя, показывая на мою тарелку, полную еды, к которой я еще не притронулась.
— Не хочется…
Мне в самом деле больше не хочется. Расхотелось. Смутное чувство подавило мой голод. Я еще не умею ни назвать, ни понять, что это — стыд. Мне стыдно есть перед голодными…
— Можно, — шепчу я Зое, — я отдам им то, что у меня на тарелке?
— Почему ты у Зойки спрашиваешь? — запальчиво говорит Рита. — Она здесь не хозяйка!
Но, не дожидаясь ответа, я ставлю свою тарелку с едой перед Антосем — пусть он разделит между всеми остальными.
— Я отдам им пирожки? — полувопросительно говорит Зоя.
— Конечно! — пожимает плечами Рита. — С мясом же…
Пирожки мгновенно исчезают, как весенний снег, растаявший на солнце.
И тут начинается настоящий азарт! Зоя и Рита с увлечением накладывают на тарелки гостей сметану, куски курицы. Гости съедают редиску вместе с торчащими из нее хвостиками малокровной парниковой ботвы. Выражение озабоченности, бывшее ни их лицах, когда они садились за стол, сменяется сиянием удовольствия.
Колька порозовел, у него залоснился нос. Но всех ярче переживает наслаждение едой Франка. Она вся светится радостью, часто хохочет, прикрывая при этом рот кулаком, чтобы ни одна крошка не выпала из жующего рта. Зоська, наевшись сметаны, сразу приваливается дремать к плечу Франки. Она во сне сопит от удовольствия и бормочет «м-м-м», — как сытый медвежонок.
Все подъедено. Вчистую!
Зоя перекладывает с опустевших тарелок гостей на наши тарелки куриные кости и все, что говорит об участии гостей в ужине, который был предназначен не для них. Я смотрю на нее вопросительно — зачем она это делает?
— Знаешь, наша мама, она такая… Она может рассердиться, — рассудительно объясняет мне Зоя. — Она ведь хочет, чтобы ели мы с Риткой, а не чужие дети.
Ребята сыты. Может быть, в первый раз в жизни они так наелись. Они удовлетворенно откидываются на спинки стульев. Антось похлопывает себя рукой по животу:
— Сыт пуп — наел круп…
И все хохочут.
— А я могу загадку сказать, — говорит Колька. — «Хожу я босиком, хотя я в сапогах, хожу на голове, хотя я на ногах»… Кто отгадает?
Таких умных среди нас не оказывается, никто не отгадывает.
И Колька с торжеством говорит разгадку: сапожный гвоздь!
Потом мальчики веселятся, запуская какой-то особенный Ритин волчок, который поет низко, как струна контрабаса.
Поиграть с Зосенькой ребятам не удается — она спит. Уговариваются, что завтра Франка принесет ее пораньше. Зосеньку выкупают в кукольной ванночке и оденут в кукольное платье…
Вошедшая Серафима Павловна с интересом оглядывает стол. Отлично — на Зоиной и Ритиной тарелках куриные кости, следы сметаны. Очевидно, девочки ели вместе со всеми. И она рада: затея ее удалась!
— Ну, ребята, теперь ступайте домой…
Колька говорит по-русски: «Спасибо». Антось и Франка благодарят по-польски. Уходя, Антось останавливается в дверях:
— Завтра приходить?
В глазах всех троих ребят — тревога и надежда.
Глава четвертая. Мы с папой кутим!
Мы едем из Броварни в город.
Неподвижна на козлах парусиновая спина кучера Яна. Неподвижен сумеречный воздух. На светлом еще небе висит серп месяца, беленький и чистенький, как только что срезанный ножницами детский ноготок.
С болота налево от дороги доносится непрерывное гуденье, густое и жалобное как стон. Я знаю, что это вечерний хор лягушек, но мне всегда думается: не могут маленькие лягушки греметь таким трубным гласом! Нет, это стонет вся земля: «Лю-у-уди! Бегите-е-е! Беда-а-а!»
…Пятьдесят лет спустя я поеду этой же дорогой в первый вечер войны — 22 июня 1941 года. Вагон уличного автобуса, набитый женщинами и детьми, повезет меня домой, в Москву. По обочинам дороги люди будут бежать — прочь, прочь от наступающих фашистов! — в воздухе будет стоять плач уносимых матерями детей, жалобное мычание и блеянье угоняемой от врагов скотины… И трубный хор лягушек, густой, и тягучий, и земля, содрогающаяся под тысячами ног, будут предостерегать: «Лю-у-уди! Беги-и-ите! Беда-а-а!..»
Я не задаю папе никаких вопросов — я вижу, как он устал, сидит, призакрыв глаза и поклевывая носом. Ведь он не спал всю вчерашнюю ночь — оперировал тяжелую больную. Вернувшись домой, поспал часа полтора, потом уехал в госпиталь, потом в Броварню, где несколько часов ходил из хаты в хату. И даже не обедал в этот день: не успел.
Но все-таки есть один неотложный вопрос!
— Папа, почему Владимир Иванович сказал Серафиме Павловне «умалишотка»? Что это значит? Папа отвечает не очень охотно:
— Это значит «ума лишенная»… Так называют сумасшедших.
Я прислоняюсь головой к папиному плечу. От папы, как всегда, сильно пахнет карболкой и другими докторскими запахами. В минуты большой нежности я даже называю папу «карболочкой». Юзефа бранит за это — виданное ли дело, чтобы ребенок называл отца собачьей кличкой!
— Карболочка! Знаешь, мне очень хочется есть…
— Разве тебя в гостях не накормили? — удивляется папа. Я рассказываю папе, как Серафима Павловна привела Колю, Антося и Франку с Зосенькой…
— Они были голодные, папа, просто ужас! Рита и Зоя отдали им весь ужин. И знаешь, папа, Зосенька — такая малютка! — умеет селедку есть!
Тут происходит целый ряд удивительных, небывалых вещей! Бричка останавливается, неподвижная и молчаливая спина Яна делает полный поворот, и Ян, веселый, хохочущий Ян, даже перекидывает одну ногу к нам в бричку!
— Все зъели? — спрашивает Ян, с восторгом мотая головой. — Ничего панам не оставили? От лайдаки (бездельники) дети, бодай их!
— Их еще и на завтра позвали, — говорю я, — и на послезавтра.
Ян мрачнеет:
— А вот прознает барыня, что ейных детей нищие объели… Унюхает она, як бога кохам, унюхает! Она тем нищим таку баню затопит! Панским детям, известно, забавка, игрушка — голодных кормить!
Ян перекидывает ногу обратно через грядку брички и снова трогает вожжи. По своему обыкновению, он бубнит, ни к кому не обращаясь:
— Играются панские дети… Играл волк с кобылой, одни копыта от ней осталися!..
— Давай, папа, — предлагаю я, — когда въедем в город, купим чего-нибудь поесть!
Но папа приходит в смятение:
— То есть как это — купим! В магазине?
У каждого человека есть свои слабости и странности. У папы их много, и иные из них смешные, непонятные. Например, папа ненавидит, ну просто ненавидит заходить в магазины, прицениваться, покупать, он даже словно боится этого! Это, наверно, оттого, что он рассеянный, даже немного выключенный из окружающей жизни. Он всегда углублен в какие-то свои мысли — о больных, об операциях, о научных докладах в Обществе врачей. Всякую свободную минуту папа читает газеты, журналы, книги, последние новинки медицинской литературы. Пойти в магазин — значит оторваться от всего этого интересного и думать о скучнейших вещах: взять этот галстук, в полоску, или тот, в горошинку? Велеть отрезать этого сукна, черного, или того, серого? Да еще, может быть, торговаться: нет, это дорого, больше рубля семидесяти пяти копеек не дам… Как-то папа отправился покупать себе шляпу, то есть, конечно, не по собственной воле, а мама просто погнала его:
— Что у тебя за шляпа? Посмотри сам — гнездо воронье!
— А ничего! Больные мои не жалуются…
Но мама настаивала, и он пошел.
В магазине, рассказывал потом папа, приказчик выложил перед ним на прилавок чуть ли не десять шляп!
— Раскладывает, понимаешь, и раскладывает, говорит и говорит… Это — фетр, это — кастор, это — котелок, это — борсалино какое-то или бормалино, — итальянская шляпа, высший шик! Смотрю я на эти десять шляп, и такое у меня чувство, словно не одна у меня голова, а десять, и во всех головах отчаянная мигрень… Я ткнул пальцем в первую попавшуюся, — это и была борсалина или бормалина как ее там звать, — самая дорогая потом оказалась!.. «Вот эту, говорю, заверните, пожалуйста»… А приказчик все не отстает! «Разрешите примерить?» Я чуть не заплакал: «Не надо примерять, не надо, я на глаз вижу, что она мне как раз впору!..» Приказчик завернул, я схватил эту шляпу, прибежал с ней домой, — а шляпа-то, проклятая, мала оказалась! Сидит у меня на затылке, как муха на арбузе!
С того замечательного случая мама совершенно отстранила папу от всяких покупок. Что можно, покупает для него сама. Все, что надо примерять, присылают из магазина к нам домой. Под зорким глазом мамы папа терпит примерку, хотя и ворчит. Сам он ни в какие магазины не ходит и даже не знает, где и что продают.
Вот и теперь, когда я предложила купить чего-нибудь съестного, папа смотрит на меня потерянными глазами.
— В магазин? — бормочет он. — Дайте, пожалуйста, две котлеты… Или не котлеты — другое что-нибудь?
— Нет, нет, папочка! — успокаиваю я. — Зачем в магазин? Можно купить бубликов прямо на улице, у торговок. Сейчас вечером продают свежие, горячие…
Папа сразу веселеет:
— Бублики! И не в магазине? Замечательно! Горячие бублики… Кутим, Пуговка!
Город встречает нас оглушительным грохотом булыжной мостовой. Словно она, мостовая, соскучилась без нас и радостно ржет: «Ура! Воротились! Ур-р-ра!»
— Вот! Видишь, папа? Что я говорила!
На ближайшем углу, около сквера, прямо на тротуаре, — маленький торговый «толчок»: несколько торговок с корзинками. В корзинках — тепло укрытые, чтобы не остывали, бублики, пляцки, осыпанные маком. Тут же — семечки, черные, подсолнуховые, и белые, тыквенные, вареные бобы и ириски. Ириски — товар люкс: по копейке за штуку! Они бережно прикрыты бумажкой от уличной пыли.
У первой же от угла бубличницы, старухи Ханы — я ее знаю, она ходит со своим товаром по квартирам тоже, заходит и к нам, — мы с папой покупаем целую гору бубликов. Они в самом деле горячие, золотистые, пузатенькие, с крохотной круглой дырочкой, размером с куриный глаз.
— Кушайте на здоровье! — Хана смотрит на нас измученными глазами и улыбается нам усталой, грустной улыбкой. — Кушайте и живите сто двадцать лет… И вы, господин доктор, и ваши дети, и дети детей ваших…
— За что мне такой долгий век? — удивляется папа.
— За то, — серьезно отвечает Хана, — что вы мою дочку вынули из гроба — вот так, вот этими вашими руками вынули, — и велели ей: «Живи!»
— И живет она? — интересуется папа.
— А как же! Конечно, живет, лучше б ей, бедной, помереть! Каждый год — по ребенку, муж — без работы… Вот — хожу с моими бубликами с утра до ночи… А можно прокормить этим шестерых деток и троих взрослых?.. Я вас спрашиваю!
Большую часть бубликов мы отдаем щабановскому кучеру Яну: я опускаю бублики в карманы его парусинового балахона.
— Спасибо. Детям отвезу… — кланяется Ян.
Папу осеняет внезапная мысль:
— Пуговка! Кутить так уж кутить… Отпустим Яна в Броварню, а сами пойдем домой пешком! А? Подумай — прогулка! Это же замечательно!
Еще бы — прогулка с папой! Это не то что ежедневное мученье с Цецильхен… «Не вози ногами, не взрывай пыль! Не поднимай с тротуара цветок, — может быть, у того, кто его обронил, были бородавки на руках…»
Ян уезжает в Броварню. Мы чинно идем по улице.
— Папа, можно я возьму тебя под руку, как большая? «Кто это там идет?» — «Это идет доктор Яновский с какой-то незнакомой дамой!» Папа, а как же мы будем есть бублики на улице? Фрейлейн Цецильхен говорит — это неприлично.
— А бог с ней, с Цецильхен! — отмахивается папа.
— Нет, мама тоже не позволяет есть на улице.
— Гм!.. И мама тоже? — Папа беспомощно щурит близорукие глаза. — А вон там, кажется, скамейка, да? И дерево… Что это такое?
— Это Театральный сквер. Разве ты его не знаешь, папа?
— Ну, откуда мне знать! Я же всегда тороплюсь, езжу на извозчике, по сторонам не гляжу… Занимай скамейку, живо!
Ну вот, мы и в сквере. Это не улица, тут можно есть.
И мы с аппетитом уминаем свои бублики. Скамейка наша стоит под высоким деревом.
— Клен… — говорю я с полным ртом. — И цветет… Слышишь, папа, как пахнет? Кисленьким-кисленьким! Узнаешь?
— Нет… не узнаю… — признается папа словно с грустью. — Я, знаешь, редко встречаюсь с ними… с этими самыми… ну, с кленами… Я уже забыл, как они пахнут. Это я сегодня с тобой так закутил!
— А раньше? Когда ты не был доктором? Когда ты еще учился?
— Ну, тогда — сама говоришь — я учился.
— День и ночь?
— Нет, ночью я спал. Правда, ночь иногда бывала очень коротенькая… Надо было работать, много работать! Мой отец — твой дедушка — посылал мне пятнадцать рублей в месяц, шутка? Они с бабушкой отрывали их от себя с кровью… Когда я уезжал в Петербург, в Военно-медицинскую академию, отец подарил мне свой старый кошелек со сломанным замочком. Кошелек лежал у меня на столе, раззявившись, как голодный… Я иногда дразнил его: «Колбасы хочешь? Хлеба? Я тоже хочу, — потерпим оба…» И я учился. Ох, как учился! Ну, и медицина, братец ты мой, — серьезная наука, ее абы как изучить нельзя. Кончишь академию, и дадут тебе в руки не что-нибудь, не куклу, а жизни человеческие!..
Мы молча жуем бублики. Папа усталый, но довольный, Я смутно понимаю, что этот сквер, куда я каждый день прихожу с Цецильхен катать серсо или прыгать через веревочку, для папы — событие, почти не встречающееся в его трудовой жизни.
— Мы еще с тобой когда-нибудь в цирк сходим. Или в театр! — мечтает папа. — А в день твоего рождения я в этом году с утра и до вечера буду дома… Буду плясать с твоими подругами и играть в эти… как их… «Барыня прислала сто рублей»… Да?
— Да-а-а… — тяну я недоверчиво. — Каждый год ты это обещаешь! И — ни разу, ни разу…
— Да, ни разу! — грустно соглашается папа. — Все больные, понимаешь. Не бросить же их! Но, может быть, в этом году…
— Папа! А про Абрахама ты знаешь? Про то, как бог велел ему зарезать собственного сына?
— А тебе кто это наболтал?
— Цецильхен рассказывала…
— Удив-вительно! — сердится папа. — Удив-вительно, каким вздором некоторые люди набивают детские головы!..
На небе всходит вечерняя звезда. Она сидит на кресте соседнего костела, словно ее укрепили на верхушке рождественской елки. В прозрачных вечерних сумерках все кажется нарисованным на картинке: и костел со звездой на кресте, и кованая чугунная ограда сквера, и маленький «толчок» на углу с торговками, похожими на страшных ведьм и волшебниц.
— Папа! Ты Владимира Ивановича не любишь?
Думая о чем-то другом, папа рассеянно переспрашивает:
— Я Владимира Ивановича не… Какого Владимира Ивановича?
— Ну, пап, ты не слушаешь!.. Шабанова, Владимира Ивановича, Зои-Ритиного папу… Ты его не любишь?
— Почему ты так думаешь?
— А вы с ним всегда спорите, кричите друг на друга… Ты его не любишь?
— Видишь ли… — начинает папа и, вдруг оборвав, неожиданно соглашается: — А и вправду не люблю. За что его любить? Что он такое хорошее делает, чтоб его любить? Кто он такой?
— У него пивоваренный завод, — рассудительно повторяю я то, что я слыхала, говорят о Владимире Ивановиче Шабанове взрослые. — Он пивовар.
— Пи-во-вар! — насмешливо растягивает папа это слово. — Рабочие варят ему пиво! Он им за это платит гривенники и двугривенные, и только я один знаю, как они живут, его рабочие, — в нищете и болезнях… А Шабанов продает это пиво за сотни и тысячи… Пи-во-вар! — Тут папа вдруг спохватывается: — Ох, о чем я с тобой, цыпленком, говорю! В общем, Шабанов такой, как все другие. Есть и похуже, чем он!.. Ты смотри держись хороших людей. К хорошим тянись!.. Я ведь когда-нибудь умру, вот с хорошими людьми ты не будешь сиротой.
Бывает, сахар лежит на дне чашки с чаем. Отхлебнешь — не сладко. Но чуть помешаешь ложечкой, как вкус сахара наполняет весь чай, доходит до самых верхних его слоев… Так папины слова о возможной его смерти, словно помешав ложечкой в моей душе, подняли в ней то, что, видимо, лежало на дне с самого утра, а может быть, и дольше: чьи-то чужие, горькие слова, не ставшие еще моей собственной мыслью, моим собственным опасением, — нестерпимая горечь наполняет меня до краев.
— Папа, — говорю я тихонько, — какой дом, Юзефа говорит, у тебя будет… в три аршина?
— Да ну! — отмахивается папа. — Юзефины сказки!
Но я продолжаю допрос:
— Три аршина — это ведь маленький дом?
— Н-небольшой… — признает папа.
— Как же мы все там поместится?
— Нет… — неохотно роняет папа. — Я там буду один. Без вас.
— А мы?
— Вы будете приходить ко мне в гости… Вот ты придешь к этому домику и скажешь тихонько — можно даже не вслух, а мысленно: «Папа, это я твоя дочка… Пуговица.. Я живу честно, никого не обижаю, работаю, хорошие люди меня уважают…» И все. Подумаешь так — и пойдешь себе…
В моей памяти всплывают слова «стихотвореньица», которое мне утром говорила Цецильхен:
Ведь день настанет, день настанет,
И ты заплачешь у могил…
— Что-о такое? — возмущенно всматривается в меня папа. — Она сейчас начнет поливать улицы! А она помнит, что я ненавижу плакс?
— Она помнит… — Я судорожно подавляю слезы. — Только… папочка, дорогой, ты умрешь?
— Ох, какая глупая! И я тоже дурак… — сердится папа. — Не смей плакать, я еще не скоро умру: мне тридцать шесть лет.
— Ну, вот видишь! — говорю я с отчаянием. — Сам говоришь, что ты старик!
Я делаю невыразимые усилия, чтобы не плакать, чтобы папа не сказал с презрением: «Ненавижу плакс!» Сдерживаемые слезы, как люди, запертые в доме на ключ, толкаются, ищут выхода: щиплют глаза, щекочут горло, даже отдаются иголочками в пальцах, которыми я судорожно цепляюсь за папину руку.
Папа обнимает меня:
— С чего ты все это взяла? Почему ты об этом думаешь?
— Юзефа сказала про дом в три аршина…
— Юзефа — полоумная старуха.
— Фрейлейн Цецильхен научила меня стихам… — И я читаю папе «стихотвореньице».
— Ну, знаешь, — возмущается папа, — Цецильхен твоя…
— Я знаю. Она дура! — подтверждаю я.
— Гм!.. Этого я не сказал… — растерялся папа.
— Но ты это думаешь. Думаешь, думаешь, думаешь! — стараюсь я помешать папе говорить. — Ведь думаешь?
Это я спрашиваю в упор, и папа не может солгать.
— Ну, положим… иногда думаю… Но, в общем, Цецильхен сказала тебе правду: все люди умирают. Что ж тут особенного? И знаешь, смерть хватает все больше тех, которые ничего не делают, сидят на месте, как студень. А я всегда на ногах, я работаю, — ей за мной не угнаться!.. Я еще, знаешь, поживу!.. Ну, как? Она успокоилась, она не брызгает?
— Успокоилась. Не брызгает…
Но мы еще несколько минут сидим, как прежде, — папа обнимает меня, я крепко прижимаюсь к нему. Вероятно, это одна из тех минут, когда мы особенно явно чувствуем, как сильно любим друг друга.
Папа мой, папа!.. Через пятьдесят лет после этого вечера, когда мы с тобой «кутили», тебя, 85-летнего старика, расстреляли фашисты, занявшие наш город. Ты не получил даже того трехаршинного домика, который тебе сулила Юзефа, и я не знаю, где тебя схоронили. Мне некуда прийти сказать тебе, что я живу честно, никого не обижаю, что я тружусь, и хорошие люди меня уважают… Я говорю тебе это — здесь.
— Пора домой, — говорит папа, — а не хочется! Мне тоже не хочется.
И вдруг откуда-то издалека слышен негромкий приближающийся голос:
— Сах-х-харно мор-р-рожено!
Этот голос я узнаю стразу, еще даже не видя, кто кричит-выкликает. Да это и не обычный выкрик всех мороженщиков — бум! бум! тра-та-там! Этот голос словно выпевает свое «сахарно морожено», выпевает, как песню, ласковым, задушевным тенорком.
— Андрей! — вскакиваю я со скамейки. — Андрей-мороженщик приехал!
На дорожке сквера показывается человек с великаньей головой: это его кадка. Он идет, чуть подтанцовывая, чтобы удержать в равновесии на голове эту большую круглую зеленую бадью.
— Андрей! — бросаюсь я к нему. — Здравствуйте, Андрей!
Андрей неторопливо снимает с головы кадку и ставит ее на землю. Как всегда при этом, он на секунду словно разминает затекшую шею. Приложив руку щитком к глазам, он всматривается в меня:
— Никак, Сашурка-бедокурка! Она самая!
Чуть ли не всех людей в городе Андрей-мороженщик знает и зовет кличками, им самим придуманными. Меня — «Сашурка-бедокурка». Моего дядю Мишу — «Миша — серые штаны». Дачную соседку нашу, которую Андрей побаивается, он шепотом называет «Тещей», а генеральшу Щиголеву, очень шумно, сердитую даму, Андрей тоже шепотом называет «Щи кипят».
Почему-то почти все мороженщики, появляющиеся в нашем городе с первыми теплыми днями, — не местные, а пришлые, и главным образом из Тверской губернии. Андрей тоже оттуда. Он крестьянин, но лошади своей у него нет, земли — всего полнадела. «А ртов-то, ртов!» — рассказывает иногда Андрей и при этом безнадежно машет рукой. Для того, чтобы прокормить все эти рты, Андрей ежегодно приезжает в наш город на четыре-пять теплых месяцев года, шагая — или, как он говорит, «шастая» — по городским улицам и дачным местностям. В остальное время года Андрей занят каким-то другим отхожим промыслом, и тоже не в своей деревне.
Андрея в городе любят. И мороженое у него, говорят, вкуснее, чем у других мороженщиков, и человек он милый, приветливый. Я Андрея просто обожаю, и не только за мороженое, но за ласковость обращения, в особенности с детьми, за мягкий, певучий голос, за вкусно рассыпающийся говорок, какой редко услышишь в нашем крае, за смешные словечки и прибаутки.
И вот он, Андрей! Опять приехал! Как всегда, черная жилетка надета у него на линялую рубаху, некогда сшитую из розового ситца. Поддевку Андрей надевает только в конце августа, когда перед отъездом обходит своих должников. В эти дни он ходит уже без своей кадки, а из кармана у него выглядывает книжечка: в ней никому, кроме самого Андрея, не понятными иероглифами обозначено, сколько за лето наели в долг мороженого оболтусы-гимназисты, кадеты, юнкера, сыновья «Тещи» и других. В эти дни должники-оболтусы прячутся, и Андрей имеет дело только с разгневанными мамашами. Но честность Андрея настолько общеизвестна, что даже генеральша «Щи кипят» платит не споря. Записано у Андрея в книжечке — значит, столько оболтусы и наели в долг, значит, столько и платить. А сыновьям можно надрать уши и потом.
Зеленую кадку с мороженым Андрей носит на голове, поверх шляпы извозчичьего фасона, похожей на сплющенный цилиндр с твердым плоским верхом. Кадка тяжела. Из года в год Андрей все сильнее жалуется на головокружение, на то, что глаза видят хуже, а одно ухо вовсе не стало слышать.
— Чем потчевать прикажете, господин доктор?
— А что есть, Андрей? Что есть? — приплясываю я перед ним на одной ноге.
— Да почитай что и ничего… К вечеру дело, расторговался я за день. Было сливочное — кондитерское и простое — да крем-бруля. Одной только крем-бруля и осталось на донышке… Остатки сладки… Прикажете-с?
— Конечно! — говорит папа. — Мы нынче с дочкой кутим. Давайте эту самую крем-брулю!
Андрей развязывает и снимает широкое, малинового цвета полотенце, укрывающее кадку сверху. Как старые знакомые, возникают в кадке три высоких круглых медных цилиндра с крышками, обложенных обычно льдом и солью. Между цилиндрами стоит стопка блюдец и костяные ложечки. Тут же — большая ложка с полушариями на обоих концах. Ловко орудуя этой ложкой, Андрей скатывает для нас шарики мороженого.
— А мы вас бубликами угостим! — говорит папа, пододвигаясь, чтобы дать Андрею место на скамье.
Андрей садится. Уличный фонарь освещает его уже немолодое лицо, чуть тронутое следами оспы. В резких морщинах от крыльев носа ко рту блестят капельки пота. Андрей ест бублик с удовольствием — видно, устал и рад отдохнуть после трудового дня. На лице у папы то же удовольствие от отдыха, оттого, что он едва ли не в первый раз за всю мою жизнь «кутит» со мной в сквере, где никто его не теребит, не торопит, никуда не увозит.
Под уличным фонарем нам отчетливо виден маленький «толчок» на углу ;-торговки, сидящие со своими корзинками прямо на тротуаре, у края сточной канавки. Слышно, как они предлагают свои товары прохожим, как переругиваются между собой:
— Геть студа! (Вон отсюда!)
— У, яка пани пулковница! Сама геть!..
Мы сидим на своей скамеечке под кленом. Внезапно Андрей говорит негромко и задумчиво:
— А и горько ж тут народ живет, господин доктор!..
— А у вас, Андрей, в ваших местах, лучше?
Андрей смущенно улыбается:
— Кабы у нас лучше было, зачем бы я от своего дома сюда подался — за тыщу верст щи через забор шляпой хлебать?
— Значит, и у вас плохо?
— Да как бы это получше сказать… Живем, как говорится, хлеб жуем, а хлеба-то и не хватает! В два кваса живем: один — как вода, а другой и пожиже воды бывает…
Снова молчание, и снова его прерывает Андрей:
— Вот только у нас, господин доктор, все одинакие. Русские то есть… А тут — господи милостивый! — все разные, и все — друг на друга! Русские говорят: «Это все поляки мутят!» Поляки опять же: «А зачем русские к нам пришли? Здесь наше царство было!»» А литовцы обижаются: «Не польское, говорят, здесь царство было, а наше, литовское!» А уж жидов…
— Евреев, Андрей! — поправляет папа. — «Жид» — это злое слово..
— Виноват, господин доктор, — оправдывается Андрей. — Все так, и я за всеми… Так вот, евреев этих здесь вроде как и за людей не считают! Почем зря всякий обижает…
В эту минуту в другом конце сквера появляется на дорожке человек в черной форменной шинели. На плечах — там, где у военных полагается быть погонам или эполетам, — у него свитые жгутом оранжевые шнурки. На одном боку — большой револьвер, на другом — плоская шашка: Посмотреть на его бледное лицо, на его глубоко запавшие бесцветные глаза — подумаешь: больной он, бедняга, безобидный человек. Но из рукавов шинели выглядывают страшные кулачищи, за которые его ненавидит весь город. Это городовой, прозванный «Кулаком» не столько из-за фамилии «Кулакович», сколько из-за этих его кулачищ, которыми он бьет намертво. Кулак — взяточник, злой пес, грубый хам с беззащитным населением, жестокий истязатель арестованных. Он идет по дорожке медленно, крадущейся походкой хищника. Как кошка, подстерегающая мышь.
— Кулак! — первым узнает его издали Андрей и так резко вскакивает, таким рывком задвигает за скамейку свою кадку, что с клена над нашими головами какая-то пичуга, сонно бормотнув и пискнув, улетает на другое дерево.
— Побегу торговок упрежу! — соображает Андрей. — Постережешь кадку, Сашурка?
Он быстро и ловко перемахивает через невысокую сквозную ограду сквера и бежит к «толчку».
Кулак идет мимо нас с папой. Глаза его зорко всматриваются в «толчок» на углу. На секунду он останавливается.
— Четверть девятого! — орет Кулак и, придерживая плоскую шашку, бьющую на бегу по его ногам, мчится собачьей рысью к месту преступления: после восьми часов вечера всякая торговля воспрещается.
Но Андрей опередил Кулака, и его предостерегающий крик: «Кулак идет!» — вызывает на «толчке» то же смятение и кутерьму, какие возникают на вокзальной платформе при появлении поезда. Торговки, торопливо срываясь с тротуара, подхватывают свои корзинки и бегут врассыпную. Одна только Хана, старая и хромая, не успела встать на ноги и продолжает сидеть рядом со своими двумя корзинками. Одну из этих корзин быстро схватил Андрей-мороженщик и скрылся с нею за углом. Вторая корзинка осталась рядом с Ханой на краю тротуара.
На «толчке» стало совсем пустынно. Фонарь освещает только сидящую старуху, с усилием пытающуюся встать, и ее корзинку.
— Торговать? В непоказанное время? — гаркает над головой Ханы городовой Кулак.
Старуха поднимает голову. «Ну на, ударь, бей!» — говорят ее измученные глаза.
И Кулак в самом деле ударяет изо всей силы ногой по Ханиной корзинке с бубликами. Корзинка покорно опрокидывается набок, словно собираясь выплюнуть все содержимое в протекающую мимо тротуара канаву. Я невольно ахаю. Но в мутную, грязную воду канавы падают один, другой, третий золотистые бублики и плывут, как три маленькие луны, — и это все. Больше в корзине бубликов нет. А вторую корзину только что спас Андрей-мороженщик — унес ее куда-то.
Разъяренный Кулак пинает сапогом и Хану. Она успевает закрыть руками лицо — ведь с синяком под глазом она не сможет завтра выйти на улицу продавать свои бублики…
Кулак уходит, высоко поднимая плечи со жгутами из туго свитых оранжевых шнурков.
Все это происходит молниеносно и разыгрывается в течение нескольких секунд, не больше.
Тогда из-за угла осторожно выныривает Андрей-мороженщик. Унесенной им корзинки уже нет у него в руке. Он нагибается над плачущей Ханой.
— Вставай, баушк! — журчит он своим ласковым тенорком. — Чего туточка на тротуваре сидеть?
— Корзинка моя… Бублики там… — бормочет Хана. — Пропала…
— Цела она, баушк, корзинка твоя. И бублики целы. Я их тут, за углом, у добрых людей поставил. Сейчас кадку захвачу, и пойдем за бубликами твоими…
— Вы только подумайте!.. — вдруг всплескивает руками Хана. — Такое слава богу, такое слава богу — он же меня даже не оштрафовал, этот Кулак, чтоб ему сгореть!..
— Сгорит! — уверяет Андрей. И, прощаясь с нами, говорит: — Господину доктору — почтение! Сберегла кадку, Сашурка-бедокурка? Умница!
Андрей удаляется по вечерней улице, подтанцовывая под тяжестью кадки, покачивающейся на его голове. Рядом с ним, припадая на хромую ногу, плетется старуха бубличница Хана.
Оставшись одни на скамейке, мы с папой почему-то не спешим заговорить, и молчание тягостно нам. У папы лицо погрустнело, даже осунулось.
— Папа… — говорю я. — Папа, почему …почему так плохо? И эти дети у Шабановых: Антось, Колька и Франка с Зосенькой… Они ведь были голодные, да, папа?.. И Хана… И Кулак!.. Почему это, папа?
Папа отвечает не сразу. И говорит то, что я терпеть не могу слышать:
— Про это мы еще поговорим с тобой, когда у тебя коса вырастет…
Это последняя капля за весь пестрый день! Я больше не думаю о том, что папа ненавидит плакс. Я горько плачу.
— Папа, — и слезы катятся у меня по лицу, попадая в рот, еще сохранивший сладость недавно съеденного мороженного «крем-бруля», — папа, почему ты не заступился за Хану?
— А что я мог сделать, по-твоему?
— Крикнуть Кулаку: «Не смейте бить!»
— Ужасно бы меня Кулак испугался! — невесело шутит папа.
— Ну, убить его! Чтоб он помнил!
— А чем убить? Бубликом, да? И что же, Кулак, думаешь, один? Их тысячи. Одного убьешь — людям не станет легче…
Папа встает со скамейки:
— Лечить — вот все, что я могу… Ну, пойдем, Пуговка, поздно уже.
Мы идем домой, и у меня впервые рождается мысль: «папа может — не все»… Думать это очень горько.
Когда мы входим с папой домой, мама под лампой раскладывает пасьянс. Она смотрит на меня в сильнейшем удивлении, потом подводит меня к зеркалу: «Посмотри на себя!» Я вижу: по всему моему лицу — грязные подтеки от слез, пальцы слиплись от мороженого, «кудлы» всклокочены. Пальто — ни моего, ни папиного — нету: мы забыли их в бричке Яна, и он увез их обратно к Шабановым, в Броварню.
— Где вы так долго были? — спрашивает мама тихим голосом, словно мы — больные.
— Мы с папой кутили, — объясняю я.
Папа уже исчез — его сразу увезли к больному. Срочный случай!
Фрейлейн Цецильхен уже спит, она любит ложиться рано. Юзефа укладывает меня спать. Умывая и причесывая меня, она все время ворчит по адресу фрейлейн Цецильхен — она ее ненавидит!
— Привезли немкиню (немку)! Ни кудлы ребенку расчесать, ни помыть. Хоть ложись ребенок з хразными нохами в постелю, ей что?
Юзефа вносит зажженную лампу в комнату, где мы спим с Цецильхен. Я ложусь, конечно, без всякой молитвы. А Цецильхен, полупроснувшись от света, на миг приоткрывает мутные от дремы глаза и нежно, сонно бормочет: ,
— Фергисс-майн-нихт…
И тут же снова засыпает.
— А бодай тебя! — сплевывает Юзефа с сердцем и гасит лампу.
Перед моими засыпающими глазами, как каждый вечер, разворачивается, расстилается громадный ковер весь в точечку, в точечку, в точечку. Ковер плывет куда-то вверх. Потом он начинает плыть в обратную сторону, вниз, — сверкающие точечки, точечки, точечки словно несутся в пропасть. Потом… потом я засыпаю и больше ничего не вижу.
Глава пятая. В гостях у скупого рыцаря
На следующее утро, в понедельник, я просыпаюсь позже обычного: не в восемь, а в девять часов утра. Ведь я вчера легла поздно — ездила с папой в Броварню, а потом мы с ним в Театральном сквере кутили: ели бублики и крем-брюле.
Я тороплюсь одеваться, натягиваю один чулок наизнанку, путаюсь в тесемках и пуговицах. Мне очень хотелось бы не умываться — ведь поздно-то, поздно как! — но разве Юзефу переспоришь? Она стоит надо мной с полотенцем в руках и командует:
— Переверни пончошку (чулок) на другу сторону! Правое ухо в мыле, смой!
— Мы с Сонечкой Михальчук сговорились встретиться в Ботаническом саду! — взмаливаюсь я жалобно.
— Не блоха твоя Сонечка, не ускакнет!
В спешке я не сразу замечаю, что в доме что-то происходит, вернее — произошло утром, пока я спала. Но, когда я причесываю свои «кудлы», Юзефа успевает шепнуть мне с торжеством:
— Папа с немкиней промовку имел!
— Про что?
— Уж ен знаеть, про что! И немкиня тоже знаеть… Видишь?
В самом деле, фрейлейн Цецильхен, сидя у стола, что-то пишет. Глаза у нее покрасневшие, носик припух — она недавно плакала. Время от времени она задумывается, прижимая к губам платочек, — фестончики его вышиты гладью еще под руководством самой фрау директор «Высшей школы дочерей» в Кенигсберге!
Когда я подхожу к Цецильхен, чтобы поздороваться, она смотрит на меня, глаза ее наполняются слезами, она грустно шепчет:
— Ах, Зашинка… Ах, дорогая Зашинка…
Это что-то новое. Фрейлейн Цецильхен не любит моего имени «Сашенька» (язык сломать можно!) и называет меня «Альхен».
Затем Цецильхен обнимает меня и прижимает к себе мою кудлатую голову. Мне неудобно, лицо мое почти лежит на столе, и я невольно успеваю прочитать адрес на конверте — крупными буквами: МЕМЕЛЬ.
Отпустив мою голову, Цецильхен указывает мне на конверт и говорит горько:
— Вот. Пишу ему… Дяде жены моего двоюродного брата. У него в Мемеле собственное кафе… Под названием «В зеленом саду»… Когда у нас дома был семейный совет, ехать мне в Россию или не ехать, этот дядя говорил: «Не надо! Пусть сидит дома!» О, как он был прав! Теперь я пишу ему, пусть он мне что-нибудь посоветует…
У двери в столовую я немного медлю — оттуда слышен голос папы:
— Да перестань волноваться! Если ты сама не умеешь никому сказать «нет» или «вы этого не умеете», так предоставь это мне!
— Но я боюсь, что ты не так сказал, — пытается возразить мама.
— Я был вежлив, как учитель танцев… Но я сказал ей, что не надо браться за то, чего не умеешь делать, вот и все! А нам с тобой надо подумать о настоящем учителе: ребенок способный, любознательный…
Но тут в столовую вхожу я, и разговор сразу иссякает, словно самоварная струя после того, как привернули кран.
Весь день настроение у нас в доме напряженное. Цецильхен со скорбными глазами строчит письма. Гулять со мной в этот день некому. Мама занялась укладкой зимних вещей в нафталин, Юзефа на кухне рубит сечкой мясо, овощи и, по обыкновению, ворчит как нанятая:
— Чи ж я им не говорила? Смотрите, говорила, кого берете! Нет, привезли дуру ребенка учить!
Я взбираюсь на подоконник в передней — оттуда видны окна квартиры, где живет знакомая девочка, Любочка Зильберберг. Раскрываю окно настежь и зову сперва не очень громко:
— Люба! Люба! Потом громче:
— Любочка-а-а! Юбочка-а-а! Потом:
— Любка-а! Юбка-а!
И, совсем расшалившись, кричу во весь голос:
— Любочка! Юбочка! Бочка! Очка! Чка! Ка! А!
Наконец одно из окон Любочкиной квартиры чуть-чуть приоткрывается. В узенькую щель виден бледный носик Любочки Зильберберг и белокурая прядка ее волос.
— Что ты кричишь? — сердито бросает она в оконную щель.
— Мне скучно, — говорю я откровенно. — А тебе?
— Тоже.
— А что ты делаешь?
— Ничего, — грустно признается Любочка. — Сидю себе.
— Так приходи ко мне играть!
— Нельзя, — вздыхает Любочка. — И не зови меня! Мне к окошку подходить не велено: я простудюсь…
— Ну, хочешь, я к тебе приду? — предлагаю я великодушно. .
Любочка кивает: «Приходи!»
Я соскакиваю с подоконника. Но… надо еще, чтобы мне разрешили идти к Любочке в гости. Ведь я вчера ездила с папой к Шабановым, а мама считает, что ходить каждый день по гостям не к чему. И папа тоже так думает. Так что меня могут и не отпустить к Любочке.
К счастью, папы нет дома, мама тоже куда-то ушла. Значит, можно ни у кого не спрашиваться. Да ведь и иду я не на какую-нибудь другую улицу, а к Любочке, соседке, живущей на одном дворе с нами. Зайду на полчасика, поиграем во что-нибудь — и прибегу домой.
А мне, по правде сказать, интересно побывать у Любочки: я у нее еще никогда не была. Я ее вообще никогда не видела иначе, как в окне. Родители Любочки совсем недавно купили тот дом, в котором мы живем, и переселились в одну из квартир. До сих пор на воротах дома висела табличка: «ДО БР. (то есть братьев) АДАМОВИЧ». А теперь ее заменили другой: «ДОМ К-ХИ (то есть купчихи) А. ЗИЛЬБЕРБЕРГ». «К-ха» — это Любочкина мама.
На двери, ведущей с улицы к Зильбербергам, — вывеска. Белыми буквами по черному фону:
ССУДНАЯ КАССА
Мне интересно, что делается там, куда (как папа говорил Юзефе) люди несут закладывать самовары. Я храбро вхожу с улицы в ссудную кассу. Это — помещение, похожее на магазин, с аккуратно сложенными на полках самыми разнообразными предметами. Тут и в самом деле самовар — даже несколько самоваров, — и мандолина, и кастрюли, и посуда. На вешалке висят шубы, мужские костюмы, женские платья. В углу — два велосипеда и детская колясочка. Над всем этим — надпись: «Продается». Помещение перегорожено прилавками, тоже как в магазинах. В одном месте прилавка — откидная доска, чтобы можно было входить за прилавок и выходить из-за него.
За прилавком сидит человек. Я его знаю, видела из окна, это Любочкин папа. Забрав в горсть курчавую темную бороду и сосредоточенно покусывая ее, он совершенно поглощен чтением книги. Услыхав, что кто-то вошел, он неторопливо откладывает книгу в сторону, встает и, упершись обеими руками в прилавок, приветливо обращается ко мне’
— Чем могу служить, барышня?
Но в эту минуту из внутренней двери, ведущей, вероятно, в их квартиру, выбегает Любочка:
— Папа, это моя гостья…
Папа Зильберберг мгновенно теряет ко мне всякий интерес и снова садится за прерванное чтение. А Любочка, взяв мою руку, увлекает меня за собой в ту дверь, из которой она появилась. Там, оказывается, лестница, по которой мы попадаем в квартиру Зильбербергов. Прежде чем войти туда, Любочка деловито спрашивает:
— Ноги у тебя чистые? Потому что у нас паркеты…
Мы входим сперва в комнату с зелеными бархатными портьерами на окнах и дверях. Великолепный письменный стол поразительной чистоты. На нем — очень красивая чернильница: бронзовый медведь обнимает лапами древесный пень. Чернильница — без чернил. На столе — ни одного карандаша, ни одной ручки. Однако мое внимание привлекает не это, а два внушительных книжных шкафа, битком набитых книгами.
— Твои книги?
— Нет! — Любочка энергично мотает головой. — Я не люблю читать. Это папины…
— А можно посмотреть?
— Только через стекла. Шкафы заперты, а ключи у мамы. Я чувствую уважение к Любочкиному папе. Вон у него сколько книг! И, даже сидя в своей ссудной кассе, он читает! Я говорю это Любочке, но она меня разочаровывает:
— Нет, папа этих книжек не читает. А там внизу, в кассе, у него молитвенник. Папа у нас очень набожный, — добавляет Любочка с гордостью. — Всякую свободную минуту он молится!
Бог с ним, с Любочкиным папой! Он, оказывается, как Цецильхен, сидит над молитвенником. Наверно, тоже про Абрахама читает!
Эти книги, со шкафами вместе, папа достал по случаю. Немецкие, французские, английские. Найдется покупатель — папа продаст… Ну, идем дальше!
Мы входим в следующую комнату.
— Это зал! — торжественно возглашает Любочка.
Мебель в зале обита голубым шелком, выглядывающим из-под чехлов сурового цвета. Паркетный пол блестит, как ледяное поле катка. А на окнах удивительные занавеси: с вышитыми на них разноцветными попугаями — розовыми, синими, зелеными, — летающими, сидящими на ветках.
— А кто у вас играет? — спрашиваю я, показывая на большой концертный рояль с хрустальными копытцами под каждой ножкой. — Ты играешь?
Это я спрашиваю с уважением: мне музыка не дается! Мама учит меня играть на фортепьяно, и это стоит нам обеим немало слез. Мама приходит в отчаяние от моей музыкальной тупости. Сама она играет хорошо, а брат ее, мой дядя Миша, даже очень хорошо. Только я одна некудышняя в музыке.
Любочка смеется.
— Нет, — говорит она, — я играть совсем не умею. И учиться не хочу… Очень мне это нужно!
— Кто же играет на этом рояле?
— Никто. Папа его по случаю достал…
Из зала мы входим в почти темную столовую. Стены в ней заставлены массивными буфетами, полубуфетами, горками. Сквозь стеклянные их дверцы сверкает хрустальная, серебряная, вызолоченная посуда.
Любочка остановилась, следя за впечатлением, какое производит на меня это великолепие. А я стою и думаю: где я все это уже видела? Где-то в темноте… при слабом свете мерцали золото, серебро… Где это было? Или рассказывал мне кто-то об этом? Или читала я? Не могу вспомнить… Но только знаю: было это.
— Вы тут едите? — спрашиваю я почти шепотом.
— Не-е… Это парадная столовая. Если придут когда-нибудь очень важные гости, тогда стол накроют здесь. А мы тут, рядом.
И Любочка вводит меня в соседнюю небольшую комнату с обыкновенной мебелью — кушеткой, небольшим обеденным столом, венскими стульями, простым шкафчиком вместо буфета.
— Мы тут кушаем, — объясняет Любочка, — чтоб не пачкать в парадной столовой. Понимаешь?
Мы с Любочкой сидим на кушетке и разглядываем друг друга. Мы ведь, собственно, в первый раз встречаемся. До сих пор мы только переговаривались через окно.
У Любочки лицо бледненькое и какое-то кисленькое, невеселое. На шее у ней повязано что-то вроде компресса.
— У тебя горло болит?
— Да нет! — говорит Любочка с досадой. — Это все мама…
Боится, что я простужусь. Сегодня выдумала, будто я ночью так кашляла, что у нее сердце разрывалось! А я сплю и даже не слыхала, что я кашляю. Разве это может быть?
Дальше Любочка изливает передо мной свои огорчения:
— Мама всегда боится, что я простудюсь. Все дети ходят уже по улице в одних платьях, одна я ходю в драповом пальте, в вязаных рейтузах и гамашах! А уж зимой… — Любочка с отчаянием машет рукой. — И ведь подумай — ничего не помогает! Я все-таки нет-нет да и простудюсь! То горло болит, то насморк…
— Это оттого, что тебя кутают, — говорю я авторитетно. — Мой папа доктор, и он не велит, чтоб меня кутали. И велит, чтоб я бегала босиком. Даже зимой я каждый день бегаю босиком целый час!
— По снегу? — ужасается Любочка.
— Нет, дома, — смеюсь я. — По полу. А летом, если на даче, так и по земле… Целые дни! Это очень весело: земля тепленькая, трава щекотная… И, знаешь, я ведь в самом деле почти никогда не простуживаюсь.
Любочка смотрит на меня, пораженная. Подумать только: я хожу босиком! Так смотрела бы она, наверно, на людоеда: ох, он ест человечину!
— Ты нарочно… — говорит она недоверчиво. — Приличные дети не бегают босиком. Они же не нищие! — И вдруг с интересом спрашивает: — А какое мороженое ты ешь? Холодное?
— Обыкновенное… — недоумеваю я.
— А для меня, — Любочка чуть не плачет, — блюдце с мороженым ставят на край плиты.. Когда оно растает, я пью тепленькую жижицу…
В общем, у Любочки неинтересно. Ни в прятки, ни в жмурки играть нельзя — негде. В парадных комнатах это запрещено. Есть еще две тесные комнатушки — в одной спят Любочкины папа и мама, в другой — она сама. В общем, прятаться негде. У Любочки, правда, много игрушек, но чуть возьмешь которую-нибудь в руки, Любочка начинает тревожно зудить:
— Осторожно! Не урони! Не сломай! Это очень дорогая кукла! Заграничная!
Я делаю последнюю попытку поддержать разговор:
— Любочка, а ты учишься?
— Немножко. Мама боится, что я слабенькая…
— А в гимназию ты поступишь?
— Ой, нет! — даже пугается Любочка. — В гимназии много девочек, я еще от них чем-нибудь заразюсь! Корью, скарлатиной… Спаси бог!
— Как же ты будешь, без гимназии?
— Подумаешь! Мама говорит, при наших средствах можно нанять каких хочешь учителей, чтоб они приходили к нам домой.
Приблизившись ко мне, Любочка добавляет «секретным голосом»:
— Мы богатые. Папа скоро свою банкирскую контору откроет.
В общем — скучно. Я прощаюсь и ухожу.
Спустившись с лестницы, я открываю дверь в ссудную кассу, чтобы выйти через нее на улицу, но останавливаюсь и невольно вслушиваюсь.
Любочкин папа занят с посетительницей. На меня они не обращают внимания.
— За это колечко, пани, — говорит Любочкин папа, — могу вам дать максимОм два рубля. МаксимОм!
— Оно стоило пять, — тихо говорит женщина.
— Переплатили, пани! Красная цена — три рубля за новое. А ведь вы его уже не один год носили — стерлось! Предлагаю справедливую цену: два рубля. Будете платить мне по двадцать копеек проценту в месяц. Удерживаю вперед за три месяца проценту — шестьдесят копеек. Итого можете получить сейчас один рубль сорок копеек.
И Любочкин папа берется за свою конторку, чтобы взять из нее деньги.
— Пане, — просит женщина. — Это же мое венчальное кольцо. Подумайте, пане!
— А что мне думать? Это не мое, а ваше венчальное кольцо, — вы и думайте! Сейчас я вам отсчитаю один рубль сорок копеек, а через три месяца вы принесете мне два рубля и получите обратно свое колечко. А не принесете — имею право взять кольцо себе… или продать… как хочу! Моя воля!
— Получу я его, как же! — с горечью говорит женщина. — Все свои вещи я сюда к вам перетаскала! В последний раз сахарницу серебряную, вызолоченную… Вон она стоит на полке, выставлена на продажу. А что я обратно выкупила? Ничего!
— Это уж, пани, не я виноватый, что вы не могли выкупить в срок свои вещи! Все бог, его воля…
Любочкин папа выкладывает на прилавок деньги. Женщина, сосчитав, кладет их в кошелек и уходит. Любочкин папа снова углубляется в свой молитвенник. Меня он не замечает.
Я стою неподвижно и с усилием вспоминаю… Где я все-таки это уже видела? Темную комнату… золото, серебро… и женщина просила, на коленях просила, говорила, что не может отдать долг…
И вдруг в памяти встают стихи:
Вдова мне отдала его, но прежде
С тремя детьми полдня перед окном
Она стояла на коленях, воя…
Пушкин… «Скупой рыцарь»… Любочкин папа — как пушкинский барон в своем подвале! Наверно, он ходит по своим комнатам со свечой или лампой и любуется вещами, которые он «достал».
Эта женщина в ссудной кассе не плакала, не стояла на коленях, не выла… Она взяла рубль сорок копеек за вещь, которая стоила пять рублей, Любочкин папа небрежно бросил ее венчальное кольцо в ящик
Глава шестая. Еще один подвал
Тихонько выскальзываю из ссудной кассы. По улице спешат люди неизвестно куда, едут извозчичьи пролетки, под которые сохрани бог попасть, ругаются дворники. По тротуарам, элегантно поднимая шлейфы платьев, идут нарядные дамы, скользят между прохожими черные, как вороны, католические священники — ксендзы, на углах просят милостыню нищие в лохмотьях, шныряют уличные воришки, норовящие вытащить из чьего-либо кармана кошелек — портмоне… Кстати, у меня в кармане десять копеек, сумма немалая: на это можно купить целую кучу обыкновенных картинок, или переводных, или большой лист бумажных кукол для вырезывания.
В витрине писчебумажного магазина — с ума сойти, какая красота! Среди карандашей, тетрадей, пеналов — большой развернутый лист вырезных картинок. Вверху листа — заглавие: «Ромео и Джулия». Под каждой нарисованной фигуркой напечатано ее имя. Ослепительная красавица в подвенечном наряде — «Джулия». Она протягивает руки к невозможно прелестному юноше в красном костюме и черном плаще — «Ромео». Рядом нарисован молодой человек, весь в голубом, — «принц Париж». Толстая, румяная женщина — «кормилица», старая дама в темном платье и ее муж — «граф и графиня Каплет». Старый священник в коричневой рясе — «фра Лоренцо». И еще много всяких других, таких же великолепных.
Картинки напечатаны аляповато, неряшливо, краска местами выходит за пределы рисунка, отчего, например, у Джулии пальцев на руках не десять, а больше. Но я совершенно заворожена и ничего этого не замечаю. Никогда в жизни я не видела такой красоты!
Вхожу в лавку, спрашиваю, сколько стоит… А вдруг дороже, чем десять копеек?
— Последняя новость, дорогая барышня, только что получили! — И толстая лавочница, очень похожая на рисунок с подписью «Кормилица», услужливо расстилает передо мной целый рулон листов «Ромео и Джулия». — Десять копеек за лист! Это надо вырезать ножницами, наклеить на картончик — и пожалуйста!
Кто-то из покупателей замечает, что десять копеек дороговато.
— Дорого? — взвивается лавочница. — Вы понятия не имеете, что делается в высшем свете с этими картинками! Там все просто с ума посходили через это!
Я выхожу из лавки. В руках у меня свернутый в трубочку лист «Ромео и Джулии». Не могу удержаться — останавливаюсь посреди тротуара и снова любуюсь чудесными картинками… Незаметно для себя самой держу голову в том горделивом полуобороте, с каким изображена красавица Джулия. При моих «кудлах» это выглядит, вероятно, страшно смешно!
— Па-а-звольте, мармазель! Па-азвольте па-а-сматреть! — И перед моими глазами вырастает рука пьяного мужчины. Он хочет вырвать у меня лист с «Ромео и Джулией!»
Сильнее прижимаю к груди свое сокровище и невольно подаюсь назад. Но пьяный продолжает наступать, прижимая меня к воротам соседнего дома.
— Очень дивные картинки, мармазель-стриказель ди бараньи ножки… — бормочет он.
И, внезапно приблизив ко мне лицо, шипит:
— Отдавай, дура, портмонет! А не то ка-ак дам!
Впервые за свою короткую жизнь я вижу так близко пьяного! С криком отшатываюсь, проскальзываю в ворота соседнего дома, бегу через первый, потом через второй двор. Мне кажется, что я кричу страшным голосом, но это не так. Рот у меня в самом деле открыт, как у рыбы, вытащенной из воды, но из него не вырывается даже слабого писка. Крик словно замерз от ужаса в моем горле.
Юркнув за бочку, подставленную под водосточную трубу, я начинаю немного успокаиваться. От бочки пахнет плесенью и дождевой водой, — это спокойные, не враждебные запахи. Вор, вероятно, отстал, потерял мой след. Выглядываю из-за бочки — во дворе никого. Только слышу, как нежный детский голосок поет польскую песенку:
Бродят беспечно по нашим селам…
Страх мой начинает утихать. Я соображаю: это дом Гружевских, отсюда два шага до того дома, где живем мы. Постою еще немного здесь, в безопасности, за бочкой, и побегу домой,
А детский голосок поет. В песне цыган гордо говорит девушке:
Слушай, дивчина, мое ты слово:
Люби не графа, люби не пана —
С ласковым сердцем найди цыгана!»
Откуда доносится голосок? Из окон дома? Нет, он идет словно из-под земли. Я хочу узнать, кто это поет. Голосок такой легкий, светлый… Я иду туда, откуда он вытекает, как ручеек из-под земли…
Так подхожу я к темному отверстию в стене почти на уровне ног. Голосок несомненно струится оттуда! И цыган, про которого поется, кончает песню:
Но он свободный! Но он — богатый!
Над ним не свищет нагайка пана…
Куда не взглянет — земля цыгана!»
Подхожу вплотную к черному отверстию. Оно похоже на вход в звериную нору, какие я видела на картинках в детских книжках. Какой милый, какой нежный голос! Так должна петь красавица Джулия…
— Кто тут поет? — спрашиваю я, нагнувшись к темному отверстию входа.
Секунда молчания, потом детский голос говорит:
— Ну, я пою… А что, нельзя?
— Ой, нет, наверно, можно! — говорю я с жаром. — Вы так чудно поете!
Голосок, помолчав, говорит снова:
— Зачем ты говоришь «вы»? Я тут одна… А ты кто?
— Я Сашенька… Сашенька Яновская…
— А я Юлька… Заходи, — приглашает голосок. — Заходи до нас… Видишь лестницу? Только осторожно!
К. этому времени я успеваю разглядеть, что от черного отверстия входа идет вниз, в темноту погреба, лестница. Но не такая, как в обыкновенных домах — с перилами, со ступеньками, по которым люди всходят и сходят, выпрямившись во весь рост, переступая одними только ногами, — нет, это такая лестница, какую приставляют к деревьям в садах или к слуховым окнам, чердаков: две слегка наклонные стойки с поперечными перекладинами. Лазить по такой лестнице можно, только если одновременно, переступая ногами, цепляться еще и руками за верхние перекладины.
Стою в нерешительности. Мне страшно спускаться по такой лестнице, да еще куда-то в темноту, где неизвестно кто и непонятно что!
— Юлька, — прошу я робко, — а ты не можешь помочь мне сойти?
Снизу из погреба, — короткий смешок и короткий ответ:
— Нет, не могу.
Я все стою, переминаясь с ноги на ногу. Очень боязно… Но в эту минуту во двор входит мой давешний вор! Теперь он веселый, смеется, но от этого он кажется мне еще более страшным!
Не стоит и говорить, что я мгновенно, да еще так быстро, как только могу, начинаю спускаться по лестнице.
— Не так идешь! — кричит мне снизу Юлька, — Задом иди! Задом!
Это означает, что спускаться надо, повернувшись ко всему на свете спиной, а к лестнице и ее ступенькам — лицом. К сожалению, я поступаю как раз наоборот: спускаюсь боком, держась руками за одну перекладину и нашаривая ногой, на какую нижнюю перекладину стать. Страх подхлестывает меня — я боюсь, что вор тоже меня увидел и сейчас прибежит! Сердце колотится сильно, толчками, руки-ноги соскальзывают с перекладин.
Всего обиднее мне то, что Юлька ничего не делает, чтобы помочь мне спуститься по лестнице! Ведь сама звала меня… Так хорошо поет, а какая недобрая девочка!
Кончается мой спуск самым плачевным образом: поскользнувшись, я скатываюсь кубарем с последних трех перекладин. При этом я проезжаю по ним спиной и задом и пребольно об них стукаюсь.
В общем, вид не геройский. Я сижу на полу у подножья лестницы и всхлипываю.
— Ну что ты, что ты плачешь? — говорит Юлькин голосок. — Подойди ко мне.
— Не вижу в темноте… — ною я. — Помоги мне!.. А то я опять упаду…
— Я ж тебе сказала, что не могу! Встань сама с полу и подойди ко: мне…
Глаза мои уже немного привыкли к темноте, и я кое-что начинаю различать, тем более что в стакане, поставленном на ящике, плавает в лампадном масле зажженный фитилек.
Всматриваюсь… Я в погребе. В таких погребах продают фрукты, картофель. Но это погреб пустой. Потому-то он и кажется особенно большим. У стены — топчан, на котором, укрытая тряпьем, лежит Юлька. Около топчана — большой опрокинутый ящик — это стол и маленький ящик — стул. Свет от фитилька такой слабенький, что он колеблется от малейшего движения и даже от громкого слова. Потому свет ложится на все полосами — то ярче, то бледнее… В погребе какой-то странный запах. Не могу вспомнить, чем это пахнет…
— Ну как, успокоилась? — спрашивает Юлька.
И такой ласковый у нее голос, что я вот именно сразу успокаиваюсь!
Я разглядываю Юльку. Она тоже в упор и очень пристально всматривается в меня. У Юльки очень бледное лицо, такое серьезное и неулыбчивое, какое не часто увидишь даже у взрослых. Темные волосы острижены, как у мальчишки. Очень темные тоненькие, словно нарисованные, брови над серыми глазами. И очень пряменький нос, тоже какой-то серьезный и даже требовательный. На бледной щеке — большая темная родинка. Я принимаю ее за муху и даже протягиваю руку, чтобы ее согнать!
И тут Юлька в первый раз улыбается. Так весело, так светло улыбается, что и мне становится веселее.
— Это не муха! — показывает она на свою родинку. — Ее согнать нельзя: не улетит.
Юлька улыбается еще шире. Становится видно, что два передних зуба у нее надеты друг на друга «набекрень».
В общем, Юлька нравится мне страшно. Кажется, и я ей тоже довольно нравлюсь.
— Садись! — показывает она мне на маленький ящик. — Как ты сюда попала?
Я рассказываю про пьяного рыжего вора, как он кричал: «Отдавай портмонет!» (я умалчиваю о том, что он при этом называл меня еще и дурой), как я его испугалась и сейчас еще боюсь: вдруг он во дворе подкарауливает меня?
— Не… — успокаивает меня Юлька. — Это рыжий Вацек. Я его знаю, он к нам ходит. И вовсе он не вор, просто пугает, и то только когда выпьет.
Чем здесь все-таки пахнет? У Шабановых пахнет главным образом едой: «Кушайте, кушайте, самое важное в жизни — побольше кушать!» От папы пахнет лекарствами, всего сильнее карболкой: «А ну-ка, кто тут болен, я сейчас посмотрю!» От нарядных дам пахнет духами. От Юзефы — кухней… Чем же это пахнет здесь, в погребе у Юльки? Здесь пахнет затхлостью, нежилью. Вспомнила, вспомнила! Так пахнет от нового платья или белья, только что принесенного портнихой или белошвейкой. Мама всегда просит Юзефу повесить эти новые вещи на балконе, пока у них не выветрится запах.
«А чего ж там „запах“! — удивляется Юзефа. — Звестное дело, не енаральша шила: бедностью пахнет…»
В погребе, где живет Юлька, пахнет бедностью.
— Хочешь, я тебе картинки подарю? — Я протягиваю Юльке заветный лист с «Ромео и Джулией».
Юлька цепенеет от восторга.
— Матерь божия! — качает она головой, как взрослая. — Какие красивые люди! И как одеты!
Я объясняю Юльке, что это надо вырезать ножницами — осторожненько, в точности по рисунку! — наклеить фигурки на картон и играть с ними.
— Не… — Юлька отдает мне лист.
— Ты не хочешь?
— А где я тот картон возьму? И еще клей…
— Ну, хочешь, я дома все вырежу, наклею и принесу тебе… Хочешь?
Юлька смотрит мне в глаза пристально, очень грустно:
— Не… Не придешь ты… Все говорят: приду, принесу… И никто не приходит! Мама говорит: кому весело с калекой?
— С калекой? — переспрашиваю я.
— Ах да, ты не знаешь… — спохватывается Юлька. — Ну вот, смотри!
Юлька отбрасывает в сторону тряпье, которое служит ей одеялом. При неверном, полосатом свете ночника я вижу Юлькины ноги. Конечно, это ноги. На них пальцы с ногтями, подошвы, все как у людей, и все-таки — ах, что это за ноги! Никогда я таких не видела. Худые, тонкие, как макароны, на щиколотках круглые опухоли, как браслеты, а коленки выпячены вперед и в стороны, словно вывихнуты.
Я невольно подбираю ближе к себе мои собственные ноги. Как-то неловко, что они здоровые, могут бегать…
— Ты ходить нисколько не можешь? — спрашиваю я тихо, словно боюсь разбудить или потревожить горестные ноги Юльки.
— Не… Нисколько!
— Это такая болезнь, да? — догадываюсь я. Но Юлька отвечает строго, словно повторяя слова кого-то очень умного, очень уважаемого:
— Нет. Не болезнь. Ксендз Недзвецкий говорит: это бог меня наказал.
— За что?
— Не знаю. Разве люди могут понимать то, что делает бог? Ксендз Недзвецкий говорит — надо молиться утром и вечером: «Боженька, боженька, верни мне ноги!» И дома молиться и в костеле.
— Знаешь что? — предлагаю я робко. — Мой папа доктор. Я приведу его сюда, пусть он тебя вылечит.
— Э!.. — небрежно отмахивается Юлька. — Что доктор может? Ничего! Мама хочет поползти на коленях аж до самого Кальварийского костела — это много верст ползти надо, — тогда, может быть, боженька пожалеет нас и я стану здоровая… Только у мамы времени нет, — вздыхает Юлька. — То она ходит работать по людям — белье стирает, ну, всякую работу делает, — то она бегает по городу ищет работы… Вот и сегодня побежала, с самого утра!
Мы с Юлькой некоторое время молчим. Я даже подумываю о том, что мне пора уходить. Но в это время в погребе становится еще темнее — кто-то заслонил собой отверстие, выходящее во двор. Кто-то быстро, уверенно спускается по перекладинам лестницы.
— Мама! — радуется Юлька. — Мамця моя!..
Руки Юлькиной мамы обнимают Юльку, гладят ее волосы, лицо, плечи, быстрым движением проводят по ее безжизненным ногам, которые не могут ходить.
Потом Юлькина мама поворачивается ко мне и вопросительно смотрит на Юльку.
— Это Сашенька! — объясняет Юлька.
— Какая еще «Сашенька»? — Юлькина мама смотрит на меня недоверчиво, даже недружелюбно.
— Яновская… — шепчу я.
— Мама, она будет ко мне приходить. В гости! — заступается за меня Юлька.
— Ах, она будет приходить? В гости? — насмешливо переспрашивает Юлькина мама.
— Будет! — упрямо настаивает Юлька. — Она придет. И картинки принесет!
— Ах, она еще и картинки принесет? — продолжает издеваться Юлькина мама.
Этого я уже не могу вынести!
— Если я сказала: «приду и принесу», — голос мой дрожит от обиды, как фитиль в ночнике, — значит, я приду и принесу, да!
Юлькина мама испытующе смотрит на меня, потом на Юльку, которая заглядывает ей в глаза, словно прося ее быть со мной поласковее.
— Ну, посмотрим… — И Юлькина мама опускается на топчан рядом с девочкой.
Юлька благодарно трется щекой о материнскую руку.
— Нашла, мамця, работу?
— Нет… — с горечью отзывается мать. — Нигде ничего нету. У Левицких — такое огорчение! — вчера была уборка, полы мыли, окна, а я и не знала, другую наняли. У Морачевских белье недавно стирали. В одном доме велели прийти после дня святого Георгия, в другом — в день святого «Никогда»…
В подвале тихо. От слов Юлькиной мамы пахнет горем, пахнет голодом.
— Цурэчка! (Доченька!) А покушать я тебе все-таки принесла!
И Томашова (так, по мужу, зовут Юлькину мать) ставит на стол узелок, закутанный в старенький, потерявший цвет вязаный платок, с такими движениями, словно она говорит, как фокусник: «Вот-вот! Сейчас-сейчас! Раз, два, три — готово!» Томашова достает из узла черный котелок, прикрытый большой краюхой хлеба.
— Ой! — восторженно кричит Юлька. — Хлеб!
— А в котелке — борщ! — сияет Томашова. — Хороший, мясной! Кухарка Морачевских — дай боже ей здоровья! — налила больше половины котелка. И еще положила в борщ — видишь, что?
— Косточка… Мозговая! — Юлька даже порозовела от радости.
— Кушай, кушай! — Томашова дает ей ложку. Но Юлька отрицательно качает головой:
— Без тебя не буду!
— Ну, и я поем…
Мать и дочь черпают ложками борщ из котелка. Но я вижу — Томашова зачерпывает борщ реже, чем Юлька.
Борщ съеден, Томашова подносит котелок к губам Юльки:
— Выпей все, до последней капли!
Юлька обгладывает косточку — глодать, впрочем, нечего, косточка голая, как ветка, с которой содрали кору. Потом она стучит косточкой по чистой бумажке, которую мать положила на ящик, — из косточки вываливается на бумажку небольшой комок мозга.
— Пополам! — командует Юлька. — Тебе и мне.
— Да я его и на дух не терплю, этот мозг! — уверяет Томашова.
— Мамця!
— Вот як бога кохам, никогда я этот мозг не ем!
— Мамця!
— Еще когда я девчонкой была, всегда, бывало, младшему братишке мозговую кость отдавала! Кушай, кушай все…
Юлька съедает с бумажки костный мозг. Потом, приложив к губам круглое отверстие в кости и щелкая языком, она старается высосать остаток мозга, засевший в глубине кости. Это ей удается, и она с восторгом съедает все.
— Цурэчка моя… — Томашова смотрит на Юльку затуманенными глазами. — Чего бы только не дала я… чего бы не сделала… Только бы выросла ты, перепелочка моя! Только бы стала ходить…
Набравшись храбрости, я говорю:
— Надо показать ее доктору… Доктор вылечит!
— Ах, док-тор? — Томашова снова насмешлива и недружелюбна ко мне. — А где я возьму полтинник для доктора? А доктор лекарство пропишет — опять плати: аптекарю! Я за стирку двадцать копеек в день получаю. И не всякий день у меня работа есть…
— Мой папа с вас денег не возьмет! — горячо уверяю я.
— Не слыхала я, — ворчит Томашова, вымывая котелок и ложки, — не слыхала про таких докторов, чтобы даром лечили!
Юлька, послюнив худенький палец, тщательно подбирает с ящика немногие оставшиеся хлебные крошки. Ворвавшийся было ненадолго в подвал запах еды — борща, хлеба — уже испарился без остатка.
— Носила я Юльку к одному доктору, — рассказывает Томашова. — На курорт, сказал, везите, к морю. Давайте ей свежие яички, мясо и бульон… Нет уж! Я ее на днях к Острабрамской божьей матери понесу. Целый день с нею на коленях перед иконой стоять буду. Молиться буду, плакать буду!.. Ксендз Недзвецкий говорит: божия матерь сделает чудо — поправится Юлька!..
— Буду ходить, мамця? Ногами?
— Будешь ходить, цурэчка! Бегать будешь!..
Тихонько простившись с Юлькой («Завтра прибегу — с картинками!») и вежливо поклонившись ее маме (она на мой поклон не отвечает), я ухожу из погреба. Поднимаюсь по лестнице гораздо лучше, чем давеча спустилась, — без всяких неприятностей.
Выхожу на улицу — ох, какими светлыми кажутся мне весенние сумерки после темного погреба, освещаемого полосатым светом фитилька! Пахнет свежестью — только что, видно, прошел теплый, весенний дождик. Пахнет почками, распускающимися на чахлых деревцах вдоль уличного тротуара. Из открытых дверей магазинов вырываются десятки интересных запахов. Откуда-то доносится смех, где-то во дворе звучит песня. Издалека слышно, как в городском саду духовой оркестр играет вальс «Дунайские волны»… От улицы пахнет жизнью!
Толстая булочница, пани Гринцевич, бросает на тротуар горсть хлебных крошек, на них набрасываются воробьи и синицы… Мне вспоминается, как Юлька, послюнив худенький палец, собирала с ящика хлебные крошки…
Я бегу домой.
Впервые замечаю: почти во всех домах — крохотные оконца на уровне тротуара. Теперь я знаю, что это окна подвалов, где живут люди. Такие, как Юлька и ее мама.
В тот вечер, как на грех, папа возвращается домой так поздно, что я уже лежу в постели и с величайшими усилиями стараюсь не заснуть.
— Ой, папочка! Я так тебя ждала… Если у кого ссудная касса, так это Скупой Рыцарь?
— Нет. Это ростовщик.
Папа устало опускается на стул около моей кровати.
— Папа! А если у человека ноги — как макароны и он совсем нисколько не может ходить, ты такого лечишь? Чтоб он ходил, как все люди…
— Пуговка! — говорит папа с укором. — Я все-таки думал, что ты умнее. Как я могу тебе на это ответить? Я же должен сам видеть, что за человек, что за ноги, почему они не ходят… Пусть мне покажут этого человека.
— А ее мать не хочет!
— Чья мать? Чего не хочет?
— Юлькина… Девочки Юльки мать… Она не хочет, чтоб Юльку лечил доктор!
— А не хочет, так из-за чего нам с тобой волноваться?
— Юлькина мать хочет, чтоб Юльку боженька вылечил!
— Фью-у-у-у! — свистит папа и встает, чтобы идти в столовую: он сегодня еще не обедал.
— Папа… — Я удерживаю его за руку. — Посмотри Юлькины ноги! Пожалуйста!
— Нет.
— Почему, папа? Почему ты не хочешь?
— Как же я тебе объясню, когда у тебя мозги пуговичные! Ну, попробуй все-таки понять. У меня с боженькой разделение труда: или он, или я. Вместе мы не лечим. Понимаешь?
Я не очень понимаю. Неясные, смутные мысли толпятся в моей голове, беспокойные, как вода, которая вот-вот закипит в кастрюле. Вот-вот поймаю… Вот-вот пойму…
Но тут я засыпаю.
А на следующее — прохладное, туманное — утро я вбегаю во двор, где живет Юлька. В коробочке я несу ей все фигурки с листа «Ромео и Джулия», вырезанные, наклеенные на картон, и даже с картонными подставочками, чтобы они могли стоять на столе (я встала рано, чтобы успеть все это сделать). Но уже издали вижу, что отверстие, ведущее в их погреб, закрыто чем-то вроде ставня с большим висячим замком.
— Нету их! — объясняет мне соседка, высунувшаяся из соседнего оконца. — Унесла Томашова свою Юльку! К Острабрамской божией матери понесла…
Глава седьмая. Очень пестрый день
Из Юлькиного двора я возвращаюсь очень подавленная. Я хорошо знаю и живо представляю себе, — что происходит там, куда Юлькина мама понесла свою калеку-девочку.
Острабрамская (по-русски — Островоротная) улица, как река, запруженная плотиной, перерезана поперечной стеной и большими старинными воротами: стена соединяет обе стороны улицы. Это и есть Остра Брама — Острые Ворота. Узкая Острабрамская улица вливается в эти ворота, как под мост, и снова, вылившись из них, течет дальше. Ворота глубокие и двухэтажные. В верхнем их этаже, над самым проездом, помещается часовня с чудотворной католической иконой Острабрамской божией матери.
Икона почти всегда скрыта завесами. Только в часы богослужения завесы откидываются; в теплые месяцы распахиваются и большие зеркальные окна. Из часовни льются тогда глубокие звуки невидимого органа, и в мерцании множества свечей видна чудотворная икона. На иконе изображена Острабрамская божия матерь: склонив голову, украшенную драгоценным венцом, и прижимая к груди руки, божия матерь не то молится, не то прислушивается к чему-то.
Говорят, будто Острабрамская божия матерь творит чудеса: исцеляет больных — люди, разбитые параличом, начинают ходить, слепые прозревают. Правда, случаев такого исцеления никто в городе сам, своими глазами, никогда не видел, но ксендз Недзвецкий — ксендз нашего прихода, тот самый, которого так слушается Юлькина мать (и Юзефа его уважает, и полотер Рафал тоже!), — так вот этот ксендз Недзвецкий говорит, что Острабрамская божия матерь исцеляет теперь больных реже, чем в былое время, потому что сами люди стали хуже, слабо верят в бога, вообще очень испортились… Но, может быть, Острабрамская божия матерь все-таки исцелит Юльку?
Левый тротуар Острабрамской улицы начинается от костела святой Терезии. Тут, прямо на улице, стоят столики, покрытые зеленым сукном, и монахини в больших рогатых чепцах, похожие на сушеные грибы, продают здесь крестики, четки, иконки, молитвенники. А дальше, за этими столиками, — на каменных плитах тротуара стоят на коленях молящиеся. Иные из них молятся даже не на коленях, а распростершись во весь рост ничком. Юзефа говорит, это значит: «Острабрамская божия матерь, вот я лежу перед тобой на земле, — услышь, исполни мою мольбу!» Некоторые богомольцы стоят и лежат так целыми часами, глаза их устремлены на часовню с иконой. Они часто крестятся, иногда с силой ударяют себя в грудь, губы их быстро-быстро шевелятся, что-то шепчут, они не видят ничего вокруг себя, не чувствуют холода каменных плит тротуара.
Вот так, наверно, стоит сейчас Юлькина мама со своей дочкой. И может быть, лежит с нею, распростершись на каменных плитах?.. День сегодня холодный, сумрачный, небо все в облаках, таких грязно-белых, как вата, пролежавшая всю зиму между оконными рамами. Только бы не было дождя!
Юзефа как раз занимается окнами. Отскоблив ножом замазку и бумажные проклейки, она выбрасывает вату и моет окна. С самой осени они были заперты и теперь раскрываются с легким треском облегчения.
В доме тихо. Папы, конечно, нету. Цецильхен куда-то ушла, маме нездоровится, и она лежит у себя. Я расставляю на столе фигурки, вырезанные из «Ромео и Джулии», заставляю их здороваться: «Здрасте, как вы поживаете?», или расходиться в разные стороны: «Прощайте, я уезжаю в Брамапутру!»
Юзефа делает то, что вчера начала делать мама: переводит квартиру на летнее положение. Я это очень люблю! Убирают в нафталин все, что мешает жить и бегать, — ковры, занавески. Везде — самый роскошный беспорядок: в папином кабинете, где обычно сохрани бог забыть не то что куклу, а хотя бы один кубик, теперь все сдвинуто с места, и посреди комнаты нахально раззявил пасть большой обшарпанный сундук — он уже сожрал ковер, сейчас проглотит папину шубу. На мебель надеты чехлы, это тоже отлично: с них пятна отстирываются в раз-два-три, не то что с мебельной обивки! Комнаты кажутся просторнее, чем зимой, в них как-то по-весеннему гулко. Юзефа моет окна, макая тряпку в ведро в водой, и промытые стекла кажутся веселыми, как деревья после дождя…
Ох, что-то там с Юлькой!..
Ну вот, так я и знала! Ветер сдунул со стола все мои фигурки, и две из них, «графиня Каплет» и «граф Монтекки», упали в ведро с водой!
Я уношу все свое хозяйство к маме и там сосредоточенно стараюсь обсушить обоих утопленников, выловленных мною из ведра.
— Что там у тебя? — спрашивает мама.
Я показываю ей фигурки из «Ромео и Джулии». Но мама почему-то не восхищается ими.
— Какой вздор! — говорит она. — Почему «Джулия»? Почему «Каплет»? Что с нее каплет? И еще какой-то «принц Париж»!
Можно подумать, что это я придумала для них имена!
— А как же их звать?
— Во-первых, не «Джулия», а «Джульетта»…
— Разве это не все равно? — удивляюсь я.
— Нет, не все равно! — упрямо настаивает мама. — Я тебе сейчас расскажу эту историю, и ты поймешь, что в ней нельзя изменить ни одной буквы… А впрочем, ты, пожалуй, этого не поймешь… — начинает сомневаться мама.
Я клянусь, божусь, уверяю, что все пойму!
И мама рассказывает мне то, что всякий человек, однажды узнав, помнит всю жизнь до самой смерти.
— В итальянском городе Вероне жили две семьи: семья Монтекки и семья Капулетти… И они смертельно враждовали между собой!
— Как это — смертельно?
— Ну, они по всякому поводу затевали ссоры, драки, нападали друг на друга, даже убивали…
— Умалишоты? — догадываюсь я.
— Нет, просто это было очень давно, несколько сот лет тому назад, а тогда люди имели привычку решать все споры оружием. И до того они между собой враждовали, эти Монтекки и Капулетти, что даже слуги их, чуть, бывало, сойдутся, начинают драться!
— Совсем дураки какие-то!
— Слушай дальше. В семье Капулетти была дочка, Джульетта. А в семье Монтекки — сын, Ромео.
— Вот эти, да? — показываю я на фигурки. — И они тоже дрались и ссорились?
— Нет! — говорит мама очень серьезно, даже торжественно. — Нет, они полюбили друг друга. Полюбили больше всего на свете. Они хотели пожениться. Но ведь, их семьи были во вражде! Ромео и Джульетта не смели даже заикнуться о своей женитьбе — там сейчас же началась бы такая кутерьма, такая резня! Им бы не позволили пожениться…
— И они не поженились?
— Они поженились! Вот этот, — мама показывает на фигурку с подписью «фра Лоренцо», — этот был священник, и он тайком обвенчал их…
— Молодец! — говорю я бумажной фигурке. — Молодец, фра Лоренцо!
— Но в тот же вечер, — продолжает мама, — случилась страшная беда! Молодые люди из семьи Капулетти затеяли ссору с Ромео и его приятелями, пошли в ход шпаги, и Ромео, защищаясь, убил в драке двоюродного брата Джульетты!..
Я слушаю, боясь пропустить хоть одно слово.
— Тогда веронский герцог — он у них был вроде царя — повелел изгнать Ромео из города. «Уходи куда хочешь, живи где хочешь, но не смей появляться в нашем городе Вероне!»
— А Джульетта?
— А Джульетту ее родители решили выдать замуж вот за этого, за принца Париса… Что было делать Джульетте? Ведь она-то знала, что у нее есть муж — Ромео! Их обвенчал фра Лоренцо. Но она не могла бежать к Ромео, как он не смел примчаться к ней в Верону, откуда его изгнали… Ну вот, ты сломала карандаш!.. Пожалуйста, перестань портить вещи!
Я прижимаю мамины руки к своему лицу. Я не могу выговорить ни одного слова…
— И вот назначили свадьбу Джульетты с принцем Парисом… Но тут опять пришел на помощь фра Лоренцо. Он предложил Джульетте выпить такой напиток, от которого она сделается совсем как мертвая: холодная, ничего не будет слышать, видеть, чувствовать… Как мертвая!
— Но это будет «как будто»?
— Да, это будет «как будто», только на несколько часов, а потом она опять оживет. Но пока все поверят, что она умерла, ее положат в гроб и снесут в подземелье, где ставят гробы со всеми покойниками…
— Ой!
— А фра Лоренцо тем временем пошлет гонца к Ромео, чтобы тот сейчас же мчался в Верону, и поспел к той минуте, когда Джульетта оживет… Когда действие напитка прекратится, Джульетта очнется, увидит Ромео, который уже будет ждать ее пробуждения. Они скроются вместе и будут жить где-нибудь, где их никто не знает. И будут счастливы…
Я вздыхаю с таким облегчением, я так весело хлопаю в ладоши, что маме жалко разрушить мою радость.
— Все, мамочка?.. Так все и случилось?..
Мама смотрит r окно и неохотно отзывается:
— Да, в общем… Почти все…
— Почему «почти»? А что было еще?
— Так ведь фра Лоренцо только придумал это… А вышло-то не так!..
— А как? — пугаюсь я.
— Джульетта согласилась выпить напиток. Она стала как мертвая, ее положили в гроб и снесли в подземелье… Но гонец, которого фра Лоренцо послал к Ромео, чтобы все ему объяснить, этот гонец не застал Ромео!.. Потому что до Ромео еще раньше дошла весть о том, что его Джульетта умерла. Жить без Джульетты Ромео не мог. Он купил флакон яду и помчался в Верону, чтобы выпить этот яд около гроба своей Джульетты…
— А фра Лоренцо не объяснил ему?
— Ромео не встретился с фра Лоренцо. Он пришел ночью в подземелье, увидел мертвую Джульетту в гробу. Ромео не знал, что она скоро оживет, он выпил яд и умер…
— А Джульетта? — спрашиваю я «насморочным» голосом.
— Джульетта скоро очнулась. Ей было страшно ночью в подземелье среди гробов, но она думала: «Сейчас придет Ромео!» и радовалась! Но Ромео лежал мертвый около ее гроба. Тогда Джульетта взяла его кинжал и закололась… Потому что жить без Ромео она не могла так же, как он не мог жить без нее.
— А эти? Эти? — показываю я с ненавистью на супругов Монтекки и супругов Капулетти.
— Когда они прибежали в подземелье, фра Лоренцо сказал им: «Вот что наделала ваша бессмысленная вражда! Вы сами убили своих детей!»
Я долго молчу, потом говорю с огорчением:
— А я еще давеча вытащила этих проклятых дураков из ведра!
И тут же, уйдя в соседнюю комнату, яростно топлю в Юзефином ведре все четыре бумажные фигурки супругов Капулетти и Монтекки! Легкие бумажные фигурки все снова всплывают на поверхность, и я свирепо стараюсь затолкать их шваброй поглубже, на самое дно ведра. Пусть тонут! Так им и надо!
— Что это вы делаете? — раздается над моей головой мужской голос, такой густой и низкий, как будто он идет не из горла, а из-под ног своего обладателя.
Я оборачиваюсь. Надо мной стоит незнакомый человек, до того занятный, что я мгновенно забываю о злополучных родителях Ромео и Джульетты. У незнакомца совершенно круглое лицо, как луна, вышитая на спине у клоуна (я видела недавно в цирке). Это круглое незнакомое лицо без бороды и усов кажется таким мягким, ласковым, что хочется его потрогать пальцами! На этом ласковом лице словно не хватает кожи, так что всегда закрыты либо рот, либо глаза. Когда незнакомец улыбается, глаза пользуются тем, что освободилась кожа, закрывавшая рот, и закрываются. Он и сейчас, разговаривая со мной, улыбается, И такая у него приветливая, заразительная улыбка, что и у меня вдруг расплывается рот до ушей!
— А кто вы такой? — спрашиваю я.
— Я пришел к вам в гости…
— В гости? А папы нет, он в госпитале… И мама лежит..
— Знаю, — говорит незнакомец. — Но я пришел в гости к вам, Саша Яновская.
Никто никогда не говорит мне «Саша», — я даже сама говорю о себе, что я «Сашенька», и, когда пишу письмо кому-нибудь из моих дядей или теток, подписываюсь: «Твоя любящая Сашенька». А этот незнакомец называет меня «Саша Яновская!» Это звучит для меня торжественно, словно бы гость говорил мне, как денщик говорит нашему соседу-офицеру: «Ваше благородие»… И потом, этот взрослый человек пришел в гости — к кому? Ко мне!
Я важно усаживаюсь на диван и величественным жестом предлагаю незнакомцу сесть в кресло. Потом я говорю самым «взрослым голосом»:
— Как вы поживаете? Как ваше здоровье?
Однако, вместо того, чтобы ответить, как полагается взрослому человеку: «Мерси, ничего себе, а вы?», гость вдруг говорит:
— А вы бы лучше спросили, как меня зовут… Павлом Григорьевичем меня зовут.
Я делаю последнюю судорожную попытку двинуть разговор по «взрослому» руслу:
— Павел Григорьевич? Очень красивое имя!..
Но Павел Григорьевич вдруг подмигивает на ведро:
— А что это вы делали там с ведром, когда я пришел? Вы были так заняты… я даже боялся вам помешать!
— Это так… пустяки, — объясняю я, снисходительно махнув рукой. — Просто надо было утопить нескольких человек… Ужасно подлых!
— Зачем?
— А чтоб они больше не делали ничего плохого!
— Так-так-так…
Павел Григорьевич кивает одобрительно. Очевидно, он тоже считает, что подлецам нельзя позволять делать подлости.
Но тут взгляд Павла? Григорьевича падает на только что вымытое Юзефой окно, и он качает головой уже неодобрительно. Окно в самом деле вымыто плохо. Юзефа не успела протереть его как следует — ей надо было бежать на кухню, чтобы помешать супу выкипеть, жаркому — подгореть, молоку — уйти, — и окно осталось в неровных полосах.
Павел Григорьевич встает с кресла, подходит к окну, быстро достает из кармана газету и необыкновенно ловко, умело протирает этой газетой стекла. Можно подумать, что он всю жизнь только этим и занимался! Стекла сразу благодарно светлеют, как сияющие человеческие глаза.
— К-к-как вы это хорошо умеете! — восхищаюсь я.
И тут выясняется, Павел Григорьевич умеет… Ох, чего только он не умеет! Он умеет засеять поле рожью и, когда рожь поспеет, сжать ее серпом. Умеет класть заплаты на сапоги. Он умеет поставить избушку, — правда, как он сам говорит, «кривоватенькую», — и даже сложить в ней печку. Умеет ставить капкан на зверя, стрелять дичь, ловить рыбу, он умеет даже печь хлеб! Впрочем, это, по-моему, не очень нужное дело: гораздо проще купить хлеб в булочной. Услыхав это мое соображение, Павел Григорьевич смеется; на его лице, похожем на полную луну, показываются ровные белые зубы, а глаза сразу исчезают в освободившихся складках кожи.
— Ох, Саша Яновская, вы думаете, везде есть булочные?!
Оказывается, Павел Григорьевич живал в таких местах, где нет ни булочных, ни кондитерских, ни колбасных, даже почты нет! И людей тоже почти нет на много верст кругом!
— Ко мне-то все-таки люди приезжали… даже издалека.. Лечиться приезжали…
— Значит, вы доктор?
— Нет. Не совсем доктор. Я почти доктор… Учился на медицинском факультете, только доучиться мне не пришлось. Но я доучусь! Через два-три года доучусь и буду совсем настоящий доктор… Вот какая вы хитрая, Саша Яновская! — Павел Григорьевич грозит мне пальцем. — Все выспросили, что я умею, а про себя ничего не рассказали. Ну, выкладывайте, — вы-то что умеете?
Ну вот… Что я умею? Ничего я не умею… Ох, если бы я умела петь, или плавать, или еще что-нибудь выдающееся! Что же мне ответить? Что я умею, играть в крокет, прыгать через веревочку, ловить сеткой бабочек? Это всякий дурак умеет…
Я смущенно молчу, теребя бахрому диванной подушки.
— Понимаю! — серьезно говорит Павел Григорьевич. — Вы умеете ковырять диван. И — топить подлых людей в ведре с водой… Ну, а, например, читать? Писать?
Я хватаюсь за это, как утопающий за корягу.
— Умею! Конечно, умею! Очень даже умею!
— А ну, прочитайте мне что-нибудь… что-нибудь ваше любимое!
Я иду к этажерке с моими книгами. Любимое? Там много книг, и почти все — любимые. Среди них есть одна, синенькая, и называется она очень скучно: «Галерея детских портретов». Но это совсем не скучная книга, наоборот! Там описано детство разных людей из взрослых книжек: Наташа Ростова и брат ее Петя — из книги «Война и мир»; Илюша Обломов и Андрей Штольц — из «Обломова»; Марфенька и Верочка — из книги «Обрыв» и другие еще.
— Ну, прочитайте мне вслух что-нибудь очень хорошее, — просит Павел Григорьевич.
Что мне прочитать? Я очень люблю рассказ о Пете Ростове. Во время нашествия Наполеона на Россию Петя Ростов, совсем молоденький, почти мальчик, пошел добровольцем в армию. Он был добрый ко всем, ласковый, раздаривал все, что имел: перочинный ножик, кофейник, изюм. «Отличный изюм, берите, — говорил он, — без косточек». Он жалел пленного мальчишку-барабанщика… А сам какой храбрый был! Ночью, переодетый во французский мундир, поехал с другим офицером в разведку — прямо в неприятельский лагерь!.. А на следующее утро в боевой схватке с французами Петя Ростов был убит…
Об этом я и читаю Павлу Григорьевичу:
— «…Ура! — закричал Петя и, не медля ни одной минуты, поскакал к тому месту, откуда слышались выстрелы и где гуще был пороховой дым. Послышался залп, провизжали пустые и во что-то шлепнувшиеся пули… Петя скакал на своей лошади… странно и быстро махал обеими руками и все дальше и дальше сбивался с.седла на одну сторону. Лошадь, набежав на тлевший в утреннем свете костер, уперлась, и Петя тяжело упал на мокрую землю… Пуля пробила ему голову… Денисов… подъехал к Пете, слез с лошади и дрожащими руками повернул к себе запачканное грязью и кровью, уже побледневшее лицо Пети. „Я привык что-нибудь сладкое. Отличный изюм, берите весь“, — вспомнилось ему…»
Когда я читаю про себя, глазами, это описание гибели Пети, я — что таить? — всегда плачу. Но Павлу Григорьевичу я читаю это даже без дрожи в голосе: что-то подсказывает мне, что Павел Григорьевич, как папа, «ненавидит плакс».
— Ай да Саша Яновская! — Павел Григорьевич, видимо, доволен. — Читаете вы хорошо. Ну, а как пишете?
— Хуже… Неважно пишу… — признаюсь я.
Павел Григорьевич диктует мне несколько предложений. Потом смотрит, что я написала.
— Ошибок, правда, нет, но почерк! Ох, какой почерк! Как курица лапкой нашкарябала…
Павел Григорьевич задает мне несколько арифметических задач. Решаю я их не очень блестяще. В общем, Павел Григорьевич почему-то устраивает мне настоящий экзамен.
В разгар моих арифметических затруднений в комнату входит папа.
— Ну как? — спрашивает он у Павла Григорьевича. — Познакомились с моей Пуговкой?
— Даже, кажется, подружились! Правда, Саша? И знает она довольно много… Я приду завтра в десять утра — это будет наш первый урок. Думаю, что в августе ее примут в гимназию…
Так вот зачем приходил Павел Григорьевич и расспрашивал; что я умею! Какой хитрющий — я и не поняла ничего… Я очень радуюсь, что у меня будет такой учитель, с таким милым лицом, похожим на круглую луну! И столько он умеет такого, чего никто не умеет, и в стольких местах побывал, где никто не бывал!..
Но после ухода Павла Григорьевича у нас разыгрывается настоящая трагедия.
Все мы сели за стол, даже мама, накинув халат, сидит с нами. Из кухни с суповой миской в руках появляется Юзефа. Она ставит миску на обеденный стол с такой яростью, что по поверхности супа идут мелкие волны. Потом низко кланяется сперва папе, потом маме и мрачно говорит:
— Прощайте! Ухожу от вас…
— Почему? — спрашивают одновременно и папа и мама, не выражая, впрочем, никакого испуга или отчаяния, потому что Юзефа задает такие представления довольно часто.
— Ухожу, и все! Не хочу арештантов видеть!
И Юзефа начинает плакать, горестно качаясь из стороны в сторону. Я бросаюсь к ней:
— Юзенька, дорогая! Не уходи!
Обнимая меня и качаясь со мной, Юзефа причитает:
— Ох ты, моя курочка, беленькая моя, шурпатенькая моя! Я тебя берегла, я тебя растила, я тебя годовала-пестовала… Нет, плоха Юзефа — привезли немкиню: «На, немкиня, мордуй ребенка!» А теперь еще и арештанта позвали: «На, арештант, учи ребенка!» А уж арештант, ен нау-у-учит! — завывает Юзефа.
— Перестаньте, Юзефо! — стучит папа вилкой о стол. — Какой арештант? Что вы такое плетете?
— Арештант! Арештант! — кричит Юзефа с азартом. — И не стукайте на меня вилкой! Мне соседская Ольга сказала: «Наняли твои господа учителя-арештанта! Его из студентов прогнали, ен против самого царя бунтовался! Три года у Сибири держали — у самом снегу жил, арештант! И в бога не веруеть, вот какой…»
Юзефа плачет, вытирая глаза одним концом своего платка, а нос — другим концом.
А папа и мама смеются!
Я совсем теряюсь: кому же верить?
Юзефа перестает плакать так же неожиданно, как начала. Похватав со стола опустевшие тарелки и суповую миску, она уносит их на кухню. Затем возвращается и ставит на стол второе блюдо.
— Давайте расчет, ухожу!
— Глупости! — посмеивается папа. — Я вас знаю, никуда вы не уйдете…
— А може, и не уйду… — неожиданно спокойно соглашается Юзефа. — Ребенок несчастный, хиба ж я ее брошу? Но-о-о-о только! — Юзефа грозно поднимает палец. — Як себе хочете, а икону у меня в кухне снять не дам!
— Да кто ее снимать будет, вашу икону, Юзефа? — спрашивает мама.
— Тот арештант снимет, учитель ваш новый! — И Юзефа шумно убегает на кухню.
Конечно, вопросов у меня целая телега! Кто такой Павел Григорьевич, почему он все умеет, почему он жил там, где люди не живут, за что Юзефа называет его «арештант»? И еще, и еще, и еще…
Но папа ложится спать — не у кого спрашивать (мама таких вещей не знает). А главное, у меня самой нет времени: надо бежать к Юльке — наверно, Томашова уже вернулась с ней домой.
Я кладу в один карман все бумажные фигурки из «Ромео и Джульетты», за вычетом утопленных мной в ведре супругов Монтекки и Капулетти. В другой карман я прячу все лакомства, какие я накопила для Юльки со вчерашнего вечера: яблоко, три печенья, одну шоколадную конфету и несколько леденцовых «ландринок» (одну, шоколадную, я не выдержала — съела вчера сама). Мчусь к Юльке стремглав… В голове нет-нет да мелькает мысль: а вдруг Острабрамская божия матерь сотворила чудо — исцелила Юльку? Вдруг Юлька уже ходит, как все люди?
Еще со двора я вижу, что ставень над погребом, где живет Юлька, открыт: они уже дома! Очень осторожно спускаюсь по лестнице — во-первых, чтоб не упасть, а во-вторых, я все-таки побаиваюсь Юлькиной мамы: вдруг она меня прогонит?
Но Юлькина мама встречает меня неожиданно ласково. Правда, она на меня не смотрит — она не отрывает глаз от Юльки, которая лежит на топчане так же, как и вчера. Говорит Юлькина мама тоже не со мной, а с Юлькой, но говорит обо мне.
— Юлечко, сердце мое любимое! Вот и подружка твоя пришла… Весь вчерашний вечер ты ее поминала… Юлечко, коханочка моя, посмотри на свою подружку! Вот она здесь — видишь?
Но Юлька лежит неподвижно, закинув голову назад. Не шевелится, ничего не говорит.
Я протягиваю ей яблоко.
— Смотри, Юлечко, — яблоко! Какое яблоко! Хочешь? Скушай шматочек яблока, рыбка моя! — умоляет Томашова.
Рот Юльки полуоткрыт, видны передние зубки, надетые друг на друга «набекрень». Но Юлька не ест яблока, она как будто даже не видит его! Глаза ее открыты, но не узнают никого.
Где я видела такие глаза, словно затянутые пленочкой? Ах да, летом, на даче, мальчики поймали сову, и она смотрела не видя, как слепая…
— Смотри, девочка! — показывает мне Юлькина мать. — Мы с самого утра были под Острой Брамой, мы целый день молились, и вот какие у Юлечки стали розовенькие щечки… Как цветы в саду… Она выздоровеет, я тебе говорю, выздоровеет! Посмотри, какие у нее розочки на щечках!
Я дотрагиваюсь рукой до Юлькиной щеки — она горячая-горячая, от нее пышет жаром!
Вдруг Юлька поворачивает голову и говорит сипло, еле слышно:
— Пить… Мамця, пить…
Но тут же ее всю сотрясает такой лающий, хриплый кашель, что даже мне становится понятно: Юлька больна. Очень больна…
— Перепелочка моя… Попей, попей. Тут соседи, дай им боже здоровья, чаю принесли… Сладкий, тепленький… Пей , доченька…
Юлька с трудом отпивает глоток — и снова откидывается на подушку. И снова глаза ее не видят. И все снова из груди ее рвется этот страшный кашель, а голос Томашовой, словно желая потушить его огонь, льет и льет ласковые польские слова, нежное воркование материнской боли. Но и Томашова понимает, что случилась новая беда.
— Матерь божия! — говорит Томашова с отчаянием. — Матерь божия, почему ты не пожалела моего ребенка? Сколько часов лежали мы перед тобой на камнях!.. Как я молилась, как я плакала! А звездочка моя еще хуже заболела, матерь божия!..
Когда папа, проснувшись, открывает глаза, я, по обыкновению, уже сижу около дивана и жду его пробуждения. Но на этот раз я ни о чем его не спрашиваю, я только прошу:
— Карболочка… пойдем к Юльке! Юлька ужасно больна…
— А реветь зачем? — ворчит папа, привычно быстро одеваясь… — Я с утра до ночи только то и делаю, что хожу к Юлькам, Манькам, Гришкам, и незачем для этого плакать!
Когда мы подходим к погребу Томашовой, я предупреждаю:
— Осторожно, папа… Там такая странная лестница…
— Подумаешь! — огрызается пала. — Я и не по таким еще хожу! Я привык.
Погреб Томашовой полон людей. Все соседи жалеют Юльку, и все дают медицинские советы! Папа просит всех посторонних уйти. Все расходятся.
— Пане доктоже… — виновато говорит Томашова. — У нас тут не светло… — И она показывает на слабенький огонек ночника.
— А я со своей люстрой хожу. — Папа достает из сумки свечу, зажигает ее и подает Томашовой. — Посветите, пожалуйста.
Через полчаса мы с папой идем домой.
— Папа… — прошу я. — Скажи что-нибудь!
Папа отвечает не сразу.
— Если слона положить чуть ли не на целый день на холодные камни, так и слон простудится… Как бы не оказалось воспаление легких у твоей Юльки!.. Да еще крупозное.
Я не спрашиваю, что такое воспаление легких, да еще крупозное… Я понимаю: это очень плохо.
Глава восьмая. Юлька больна
Папины опасения в самом деле подтверждаются: с Юлькой плохо. У нее крупозное воспаление легких. Уже несколько дней Юлька горит огнем, температура все время около сорока градусов — то чуть-чуть ниже этого, то чуть-чуть выше.
— Свечечка моя! — горюет над Юлькой Томашова. — Догорает моя свечечка!..
Кашель продолжается, мучительный, с острым колотьем в боку. Те румяные «розочки» на Юлькиных щеках, которым Томашова так радовалась в первый день болезни, исчезли. Юлька очень бледна, почти желтая. Она ничего не говорит, только порой просит пить, иногда без слов, лишь шевеля сухими губами. Юзефа приносит Юльке от нас бульон, молоко, клюквенный морс, который Юлька пьет словно бы даже с удовольствием. Чаще всего Юлька в полусознании, порою вовсе в беспамятстве, иногда бредит: бормочет бессвязно, зовет свою «мамцю».
— Я здесь, Юлечко! — с тоской говорит Томашова. — Здесь, около тебя.
Но Юлька ее не видит и не узнает.
Папа бывает у Юльки утром и вечером. Он хотел поместить ее в больницу — ничего не вышло: нет мест. В госпиталь, где работает папа, Юльку устроить нельзя: госпиталь хирургический.
Томашова, со своей стороны, наотрез отказывается от того, чтобы Юльку положили в больницу.
— Больница! — говорит она с отвращением. — Это ж трупярня (мертвецкая). Только покойников туда складать, а не живых! Пусть при мне Юлька будет. Умрет — ну, умрет. И я с ней вместе.
Я прибегаю к Юльке каждую свободную минуту. Но свободных минут у меня теперь стало меньше. У нас дома произошло два события.
Первое — уехала фрейлейн Цецильхен! После нескольких дней, когда она, заливаясь слезами, писала письма своим богатым и знатным родственникам, фрейлейн Цецильхен получила ответ из Мемеля — и снова засияла, как радуга! В письме было написано так:
Дорогая кузина!
Получив твое письмо, мы посоветовались с дядей моей жены, господином Туpay (Паркштрассе, 8, кафе «В зеленом саду»). Он сказал так: «Я всегда был против того, чтобы Цецилия поехала в нецивилизованную страну учить маленьких дикарей немецкому языку. К сожалению, я, как всегда, оказался прав. Но я имею намерение расширить мое дело и открыть филиал моего кафе на курорте Шварцорт. Я предлагаю Цецилии место кассирши в этом новом кафе. О своем согласии пусть уведомит меня незамедлительно».
Так сказал нам уважаемый дядя моей жены, господин Эрнст Туpay. Мы с женой думаем, что это — счастье, за которое ты должна ухватиться обеими руками. Мы даже советуем тебе прислать свое согласие телеграммой: телеграфируй одно слово «согласна», это не так уж дорого и очень ускорит дело. Советуем также выехать немедленно.
Прими поклоны и поцелуй от меня и моей жены.
Твой кузен Отто Шульмейстер.
После получения этого письма фрейлейн Цецильхен бурно расцвела радостью, уложила свои вещи, назвала меня в последний раз «Зашинка, сердечко мое» — и уехала к своему знаменитому дяде. С этого самого дня я уже больше не пою «Рингель, ринтель, розенкранц» и «Фергисс-майн-нихт». Богу перед сном я тоже больше не молюсь.
Зато теперь ко мне ежедневно ходит учитель Павел Григорьевич, и я его просто ужас до чего люблю, потому что он замечательный человек.
Уже с первых дней занятий я стала допытываться у папы, почему Юзефа говорит, что Павел Григорьевич «арештант» и что это значит. После нескольких напрасных попыток отложить обсуждение этого вопроса до тех сказочных времен, когда мои «кудлы» вырастут в косу, папа объяснил мне все. Объяснил так хорошо и просто, что я сразу поняла.
Оказывается, Павел Григорьевич был студентом-медиком в Петербурге. И был «против правительства». А правительство, как я поняла со слов папы, — это царь, министры, жандармы, полиция (городовой Кулак — тоже правительство). Павел Григорьевич хотел, чтобы людям жилось лучше, чтобы Юльки не хирели в погребах, чтобы Франки, Антоси и Кольки не голодали, чтобы все были грамотные и веселые. А правительство этого не хочет! И оно исключило Павла Григорьевича из Военно-медицинской академии и посадило его в тюрьму, а потом выслало его дальше, чем в Сибирь, — в Якутскую область. Там, в Якутии, так холодно, что плюнешь — и плевок замерзает на лету! Там Павел Григорьевич пробыл несколько лет, а потом его выслали в наш город. Это называется: выслали под надзор полиции.
— И полиция следит за Павлом Григорьевичем, — говорит папа, понизив голос, — куда он ходит, что делает, с кем водится… Следит — и доносит!
— Правительству? — шепчу я.
— Да. Ты смотри, Пуговка, никому ничего о Павле Григорьевиче не рассказывай. Ты уж, слава богу, не маленькая, можешь понимать, что из-за твоей болтовни могут Павлу Григорьевичу неприятности быть.
В первый раз в моей жизни папа признает, что я уже не маленькая!
— Да, да! — повторяет он. — Ты уже большая, скоро в гимназию поступишь… Так что запомни: про Павла Григорьевича держи язык за зубами, не подведи хорошего человека.
Держать язык за зубами… Значит, не звонить про то, про что не надо, да? Я стискиваю зубы — язык лежит за зубами, как собачка, свернувшаяся позади забора. Я пробую, не раскрывая рта, не разжимая зубов, не двигая языком, сказать: «Павел Григорьевич против правительства», — ничего не выходит, одно мычание, и все. Очень хорошо! Вот так я и буду хранить Павел-Григорьевичевы секреты, чтобы никто о них не узнал.
Уроки Павла Григорьевича — одно удовольствие! Учусь я с радостью. Урок длится два часа. После первого часа (это всегда арифметика) делается перерыв. Мама приносит нам чаю с бутербродами и вареньем (Юзефа наотрез отказывается прислуживать «арештанту»). Мы с Павлом Григорьевичем завтракаем и разговариваем. Потом учимся второй час — русский язык. Мое любимое — стихи, чтение, пересказы, даже диктовка, даже грамматика, — все интересно! После второго часа урок кончается, но Павел Григорьевич почти всегда зовет меня гулять. Мы ходим по улицам, сидим на набережной, иногда поднимаемся на невысокие горы, окружавшие наш город. Павел Григорьевич рассказывает много интересного, я слушаю, и голова у меня разбухает, как губка. Я уже знаю очень много из того, что преподают не только в первом классе, куда я пойду экзаменоваться в августе, но и из того, что проходит во втором, третьем, даже четвертом классах: по географии, истории, ботанике, зоологии.
Павел Григорьевич не только хороший учитель, но хороший человек. Услыхав от меня про болезнь Юльки, Павел Григорьевич заходит к Томашовой ежедневно, иногда по два и три раза в день. Утром и вечером, перед приходом туда папы, Павел Григорьевич измеряет и записывает Юлькину температуру. Папа шутя зовет Павла Григорьевича «куратором» — так в университетских клиниках называют студентов-медиков, которым поручено наблюдение за определенными больными. Павел Григорьевич следит за Юлькиным дыханием, за ее кашлем, за тем, приходит ли Юлька в сознание и надолго ли. По назначению папы Павел Григорьевич ставит Юльке банки. А самое главное — он очень подбадривает Томашову, Юлькину мать. Перед папой она немного робеет, а Павел Григорьевич с его добрым лицом, на котором всегда открыто только что-нибудь одно — либо рот, либо глаза, — такой простой, такой свой, это очень согревает Томашову.
В первый день Павел Григорьевич сразу предложил Томашовой перебраться с Юлькой до ее выздоровления в его комнату.
— А как же вы? — удивилась Томашова.
— Ну, я на это время к товарищу перейду… Но Томашова отказалась. Ничего, идет весна, даже в их погребе становится уже тепло. И не надо трогать Юльку с места… Каждое движение причиняет ей боль, вызывает этот страшный кашель!
Теперь, когда я прихожу, Томашова уже не сердится, она даже радуется. Это оттого, что при виде меня в Юлькиных глазах ненадолго пробегают искорки сознания — такие слабенькие, словно где-то далеко, ночью, в глубине темного леса, чиркнули спичкой, — и тут же погасают.
— Узнала! Узнала тебя Юлька! Обрадовалась, что ты пришла… — шепчет Томашова.
Я принесла Юльке свою «главную» куклу (то есть самую новую). Эта кукла почему-то не имеет прочного имени. Мне подарили ее к елке, и фрейлейн Цецильхен предложила для нее имя «Зельма». Юзефа тотчас же — назло «немкине»! — пере именовала Зельму. — в «Шельму». Мне не нравится ни то, ни другое имя, — так кукла и живет безымянная. Зато у другой моей куклы есть и имя и фамилия: Люба Лимонад. Я ее очень жалею, потому что она калека: у нее только полголовы! Прежде на Любе был роскошный парик с двумя золотистыми косами. Но как-то в пылу игры парик вдруг отклеился. Я его спрятала, чтобы снести Любу в починку, а теперь вот ни за что не могу вспомнить, куда я сунула этот парик! Так и осталась у бедной Любы голова, с которой словно отпилили верхнюю половину черепа. Голова зияет, как большая пустая кружка! Папа однажды, поддразнивая меня, сказал:
— Эх, хорошо бы из такой головы пить летом холодный лимонад!
И все стали звать горемычную куклу «Люба Лимонад», но сама Люба, по-видимому, не горюет — лицо у нее такое же счастливое и глупое, каким было и под париком с золотыми косами. Я, конечно, усердно ищу, шарю — где этот проклятый парик? — но пока без толку.
Когда я принесла Юльке в подарок «Зельму-Шельму» (мама позволила подарить), Юлька на миг пришла в себя, взяла куклу, потом провела, как слепая, пальцем по ее лицу и внятно сказала:
— Личико…
И тут же снова впала в забытье.
Так тянутся один за другим длинные, тоскливые дни.
Приходят соседки, приносят Юльке кто кисленькой капустки, кто огуречного рассола. Пришла как-то старая бубличница Хана, принесла бублик:
— Совсем-совсем тепленький! Пусть девочка скушает и будет здорова!
Папа не позволяет, чтобы около Юльки скоплялось много людей с улицы. Но, когда Томашовой, надо отлучиться, кто-нибудь вместо нее сидит около Юльки. Как-то прихожу — Томашовой нет, а около Юлькиного топчана сидит… Вот так встреча! Мой «рыжий вор», тот самый, что вырывал у меня из рук картинки, называя меня «мармазель», и шипел: «Отдай, дура, портмонет!»
На этот раз я его не пугаюсь. Он сидит около Юльки, глядя на ее истаявшее лицо, и с огорчением качает головой. Я сажусь на другой ящик. И вдруг «рыжий вор» обращается ко мне:
— Говорила мне Юлька — спугались вы меня… А ведь это я тогда для смеху! Вот ей-богу, честное слово!
Я молчу. Хороший «смех»!
— Меня в тот день с фабрики прогнали. Без работы остался… Ну, выпил, конечно. И баловался на улице… А я портмонетов ни у кого не отнимаю. Ей-богу, вот вам крест!
Он оглядывает меня очень добродушно с ног до головы и добавляет:
— Да и откудова у вас будет он, тот портмонет! Ведь вы ж еще не человек, а жабка (лягушонок)…
Я оскорбленно соплю носом. Приятно это слышать, что ты лягушонок? Но я пересиливаю обиду.
— А теперь, — спрашиваю я, — вы работу получили?
— Ну, а як же! — смеется рыжий. — Каждый вечер на балу у генерал-губернатора краковяк танцую! Бывает, конечно, что и у полицмейстера, но только не ниже!.. Кулак приглашает, на коленях просит — не иду!
И вдруг он становится серьезным и говорит невесело:
— Где ее возьмешь, работу? Первое мая на носу — хозяева вовсе с ума посходили: всех добрых хлопцев — геть за ворота!
Мы молчим. Я думаю. «Сегодня же спрошу у папы — или лучше у Павла Григорьевича, — почему, когда первое мая на носу, хозяева сходят с ума и гонят всех добрых хлопцев «геть за ворота».
А рыжий уже мечтает вслух:
— Мне бы такая работа в охоту: зубным врачом! Ух, пересчитал бы я городовому Кулаку все зубы, до единого! Чтоб он, как старая бабулька, корку хлебную сосал, а разжевать не мог! Мня, мня… Пя, пя, пя…
Рыжий смеется. И я смеюсь. Ох, хорошо бы, чтоб кто-нибудь отплатил городовому Кулаку за все его издевательства над людьми!
— А хозяину моему, — мечтает рыжий, — вырвал бы я зубы изо рта и пересадил бы те зубы ему на спину. Смеху бы! А?
Неожиданно, словно разбуженная нашим разговором, приходит в себя Юлька.
— Ваць… — узнает она рыжего.
И Ваць радуется этому, как ребенок.
— Юленька!.. — Он гладит ее руку, и рядом с его здоровенной ручищей Юлькина ручонка — как обезьянья лапка. — Я зубной врач, Юленька…
Но Юлька уже снова не узнает и не слышит.
По лестнице быстро спускается Томашова.
— Спасибо, Вацек, что посидел тут. Теперь ступай. Скоро придет доктор, он не велит, чтоб тут много народу толкалось…
И Вацек покорно убирается восвояси.
Однако приходит не папа, а совсем новый для меня человек. Немолодой, с проседью, с очень рябым лицом. От папы я знаю, что, если людям не «прибивают оспу», они заболевают страшной болезнью. Очень многие умирают от этой болезни, а кто и выживает, остается чаще всего изуродованным: лицо все в светлых дырочках, как губка. Эти дырочки остаются навсегда, до самой смерти, свести их нельзя ничем. Про рябого человека, сказал мне папа, в народе говорят, что у него на лице черт горох молотил.
Пришедший к Томашовой рябой человек одет чисто, аккуратно подстрижен… У него большие, добрые руки, вызывающие доверие.
— Добрый день, Анеля Ивановна! — говорит он Томашовой.
Томашова отвечает не сразу:
— Как же вы меня нашли, Степан Антонович? — спрашивает она очень тихо.
— Искал, Анеля Ивановна… Может, и не стал бы я вам надоедать, да вот прослышал, с Юленькой беда… Надо же такому приключиться!
И Степан Антонович смотрит на Юльку с таким искренним огорчением, что я уже не замечаю уродливых оспин на его лице — оно кажется мне очень красивым!
Томашова подходит к Степану Антоновичу, смотрит на него синими глазами.
— Беда какая… беда… — И, прислонившись к его плечу, она горько всхлипывает.
— Анеля Ивановна, голубушка моя… Может, надо чего-нибудь? Так я… господи, вы только скажите!
Но Томашова уже снова овладела собой:
— Ничего не надо, Степан Антонович. Идите себе, сейчас доктор придет, идите!
— Может, денег? На лекарства.
— Доктор приносит лекарства… Идите себе!
— Ну, а приходить? Хоть наведываться можно мне?
— Можно…
Степан Антонович быстро уходит, почему-то словно обрадованный.
И сразу же после его ухода в погреб спускаются папа, Павел Григорьевич, а за ними обоими, кряхтя, ковыляет по ступенькам старичок, военный доктор Иван Константинович Рогов.
— Не лестница, — ворчит он, — цирк! Упражнение на турнике!..
Ивана Константиновича я знаю, он бывает у нас дома. Он — друг моего покойного дедушки.
Иван Константинович — низенький и очень толстый. Одна-две пуговицы на его военном сюртуке всегда расстегнуты. Как-то я спросила:
— Иван Константинович, почему у вас две пуговицы на сюртуке расстегнуты?
— Пузо не позволяет… — вздохнул Иван Константинович. — Тесно!
Мама сделала мне страшные глаза и предложила идти к моим игрушкам. Но Иван Константинович Рогов за меня заступился:
— Зачем такую распрекрасную девицу гоните, Елена Семеновна, милая вы душа? Правильно ребенок замечает: у военного человека, что сюртук, что китель, что мундир — все должно быть застегнуто! На все пуговицы! Но вот пузо мое от тесноты страдает… Так уж у добрых людей я своему пузу поблажку даю…
Папа показывает:
— Вот, Иван Константинович, это наша больная. А это ее мать.
— Что ж, — посмотрим вашу больную, — говорит Иван Константинович Рогов.
Но в эту минуту в погреб начинает спускаться еще один человек. Это ксендз Недзвецкий. Я его хорошо знаю в лицо. Юзефа много раз с восторженным уважением показывала мне его и на улице и в костеле. Ксендз Недзвецкий очень красив, он, как в книгах пишут, «картинно красив». Высокий, стройный, как крепкое дерево, серебряная голова, гордо откинутая назад, резко выделяется на фоне черной сутаны. Большие серые глаза, пронзительные и недобрые, как у бога, нарисованного в молитвеннике фрейлейн Цецильхен. На очень белой левой руке ксендза смотаны четки. Правой рукой он иногда дотрагивается до креста на своей груди.
Ксендз Недзвецкий останавливается на середине лестницы и сверху вниз оглядывает властным взглядом всех находящихся в погребе.
— Да славится Иисус Христос!.. — говорит он звучным голосом.
На это откликается одна только Томашова.
— Во веки веков… аминь… — говорит она тихо.
Папа, доктор Рогов и Павел Григорьевич молчат.
— Кто эти люди? — показывает на них ксендз, обращаясь к Томашовой.
— Проше ксендза… — шелестит Томашова. — Это доктора. Они лечат мою дочку…
Позади ксендза Недзвецкого виден до половины туловища еще один человек. Он в торжественном облачении — в стихаре, из-под которого видны спускающиеся по ступенькам ноги в заплатанных сапогах. Это причетник с колокольчиком и дарохранительницей.
Ксендз Недзвецкий спускается с двух последних ступенек лестницы и идет прямо на папу, доктора Рогова и Павла Григорьевича. Он идет так решительно и твердо, как человек, привыкший к тому, чтобы все перед ним расступались. Но даже маленький, толстенький Иван Константинович не только не отступает перед ксендзом, но решительным движением застегивает две заветные пуговицы на своем сюртуке и смотрит на ксендза почти .воинственно. О папе и Павле Григорьевиче и говорить нечего — они словно не замечают надвигающегося на них ксендза.
Откинув назад серебряную голову и гневно раздувая ноздри, ксендз Недзвецкий говорит по-польски:
— Я пришел, чтобы причастить, исповедовать умирающую! девочку и напутствовать ее в иной мир. Прошу пропустить к ней святые дары!
Услыхав слова «умирающую девочку», «напутствовать ее в иной мир», Томашова начинает судорожно ловить ртом воздух, словно вытащенная из воды рыба. Павел Григорьевич поддерживает зашатавшуюся Томашову.
— Проше ксендза… — говорит ксендзу папа тоже по-польски, говорит вежливо и очень спокойно, но рука его так крепко сжимает трубочку для выслушивания Юлькиных легких, что на всех пальцах побелели косточки суставов. — Проше ксендза, мы — врачи. Девочку еще рано напутствовать в другой мир. Мы ее лечим, и мы надеемся, что она поживет еще и в этом мире. И мы очень просим, чтобы нам не мешали делать наше дело!
Папа, Павел Григорьевич и Иван Константинович стоят стеной перед Юлькиным топчаном. Ксендз Недзвецкий чувствует себя в неловком положении — не драться же ему с этими людьми! Тогда он делает последний «выпад»: плавно и величественно опустившись на колени, он начинает молиться вслух. Слов молитвы я не понимаю: он молится по-латыни. Но голос у ксендза бархатный, жесты, с которыми он ударяет себя в грудь и осеняет крестным знамением, живописно-величавы.
Ксендз молится долго, словно испытывая терпение врачей. Затем он встает с колен и говорит Томашовой:
— Вот я помолился о твоей дочке. От всего сердца я просил бога и божию матерь исцелить больную. Если ей станет лучше — завтра или даже, может быть, сегодня ночью, — то это будет не от них, — он показывает на врачей, — не от их жалкой учености, а от божьего милосердия, услышавшего мою молитву!
И он уходит, прямой, гневный, не удостаивая Томашову даже взглядом.
Томашова делает движение, чтобы побежать вслед за ксендзом. Потом она смотрит на папу, на Павла Григорьевича, на старика Ивана Константиновича, который уже успел снова расстегнуть свои две пуговицы, и застывает на месте.
Врачи долго, очень бережно и осторожно осматривают и выслушивают Юльку. Лица у них серьезные. Понять, что они говорят, нельзя, — они говорят полусловами, да еще непонятными, докторскими.
— Что ж, — говорит наконец Иван Константинович, — подождем денька два. Подождем кризиса…
— Если бы она лежала в больнице, — с огорчением говорит папа, — было бы спокойнее. А тут — как на улице: всякий может прийти, всякий может напортить… напугать…
Мне почему-то кажется, что папа имеет в виду ксендза Недзвецкого. Очевидно, и Павел Григорьевич думает об этом и понимает папу с полуслова.
— Яков Ефимович, — говорит он, — я останусь здесь дежурить до утра. На меня-то вы полагаетесь?
Папа смотрит на Павла Григорьевича так, словно ему очень хочется ласково погладить его круглое лицо.
Павел Григорьевич провожает нас до ворот.
— До свиданья, голубчик! — говорит ему папа. — Такой вы молодчинище!
— Нет, это вы молодчинище! — возражает Павел Григорьевич. — Вы — предводитель всех молодчинищ!
— А и верно: он молодчина! — хлопает папу по плечу старичок Иван Константинович. — Другие врачи меня к платным больным зовут, и я иду без всякого удовольствия. А этот рыжеусый, — Иван Константинович трогает папу за ус, — он меня только по чердакам да подвалам таскает, где мне и пятака не платят, и я, старый болван, черт побери мои калоши с сапогами, иду за ним, как барышня за женихом!..
Ксендз Недзвецкий поторопился, когда предусмотрительно приписал своей молитве улучшение, могущее произойти у Юльки «завтра или даже сегодня ночью».
Ни ночь, ни последующий день и ночь не приносят улучшения.
Так проходят два дня, самые страшные за все время.
Прибежав к Юльке к концу второго дня, я пугаюсь ее вида.
Она так исхудала, что нос у нее заострился, руки похожи на спички, обтянутые кожей. Лицо не только бледное, а какое-то даже синеватое.
— Посмотри на ее ногти! — с ужасом говорит Томашова. — Совсем синие… как у покойника…
В это время приходит рябой Степан Антонович. Он теперь появляется в погребе часто, но всегда ненадолго, всегда куда-то спешит, и сама Томашова всегда напоминает ему, что надо уходить, что его могут «хватиться». Но, когда приходит Степан Антонович, Томашова перестает качаться от горя, она протягивает к нему руки, словно просит помочь. Степан Антонович гладит Томашову по голове, как девочку. Мимоходом он всегда быстро делает что-нибудь нужное — выносит ведро или приносит свежей воды из колодца. И уходит.
— Сегодня! — говорит Павлу Григорьевичу папа, осмотрев Юльку. — Вот увидите, сегодня надо ждать кризиса… А пока введите ей камфару.
Когда мы с папой идем домой, я, конечно, пристаю к нему: что такое кризис?
— Это перелом, — объясняет папа. — В некоторых болезнях на известный день наступает перелом: или к выздоровлению, или…
— К чему «или»? Папа, к чему?
Кризис в самом деле начинается в тот же вечер. При Юльке бессменно дежурит Павел Григорьевич. Тут же, конечно, Томашова и Степан Антонович. Последний принес с собой три полотенца и две простыни. Это очень кстати, потому что Юлька вдруг начинает так сильно потеть, что Павел Григорьевич и Томашова еле успевают вытирать ее чем-нибудь досуха. За ночь температура резко падает, Юлька спокойно спит и дышит ровно.
Кризис прошел благополучно, теперь она начнет выздоравливать.
Когда я днем прибегаю, Юлька уже не смотрит невидящими, совиными глазами. Она узнает меня и даже силится улыбнуться. Говорить она еще не может из-за слабости.
— Юлечко!.. — Томашова смотрит на Юльку и словно боится верить, что беда миновала.
В погреб спускается Степан Антонович. Он принес завязанную кисейкой кастрюльку. В ней — кисель с молоком. Сев около Юльки, он аккуратненько, не пачкая, кормит Юльку с ложечки киселем.
— Вкусно, Юленька?
Юлька слабо мигает.
— А теперь, — говорит папа, — спать! Все — и Юлька и Томашова — спать! Павел Григорьевич, сколько ночей вы не спали? Ступайте спать! Я каждый день хоть часок, да сплю! Мне ведь редко приходится ночью спать спокойно… Меня только этот дневной сон и спасает.
— Нет! — внезапно говорит Томашова. — Вас, пане доктор, другое спасает…
— Да? — смеется папа. — А что же, по-вашему, меня спасает?
— А то, — Томашова низко кланяется папе, — то, что вы людям — нужный человек…
Глава девятая. Новые люди, новые беды
Для того, чтобы я не забыла немецкого языка, ко мне ежедневно приходит на один час учительница — фрейлейн Эмма Прейзинг. С первого взгляда она почему-то кажется мне похожей на плотно забитый ящик. Гладкие стенки, крепко приколоченные планки, что в этом ящике, неизвестно, — может быть, он и вовсе пустой. Ничего не видно в пустых серых глазах. Улыбаться фрейлейн Эмма, по-видимому, не умеет или не любит. Руки у нее неласковые, как палки. Она монотонно, в одну дуду, диктует мне по-немецки:
— «Собака лает. Пчела жужжит. Кошка ловит мышей. Роза благоухает…»
Это очень скучно. Единственное, что в первый день немного оживляет диктовку, — это то, что после каждой фразы фрейлейн Эмма говорит непонятное для меня (и, по-моему, неприличное!) слово «пукт».
— «Мы учимся читать. Пукт. Моего маленького брата зовут Карл. Пукт. Я иду в сад. Пукт».
Я добросовестно пишу везде немецкими буквами это непонятное «пукт»… Но когда диктовка кончается, то оказывается, что это слово произносится «пунктум» и означает «точка»: фрейлейн Эмма диктует фразы вместе со знаками препинания.
Вошедшая в комнату мама весело смеется над моей простотой. Но фрейлейн Эмма даже глазом не моргает, бровью не шевелит. Ей ничего не смешно — ящик, заколоченный ящик, а не человек! Но вот через несколько дней ящик спрашивает меня во время урока:
— Скажи-ка, когда ты написала в диктовке двадцать раз слово «пукт», ты сделала это нарочно?
Глаза фрейлейн Эммы смотрят на меня из ящика, как пробочники, — они сверлят меня насквозь.
— Нет, я это сделала не нарочно. Я не знала слово «пунктум» и написала «пукт»: мне так послышалось.
Пробочники продолжают сверлить меня:
— Ты говоришь правду?
Тут я обижаюсь:
— Я всегда говорю правду!
— А ты знаешь, что такое «правда»?
Еще новое дело! Знаю ли я, что такое правда!
— Конечно, знаю. Правда — это когда говорят то, что есть, а неправда — это когда выдумывают из головы…
— Нет! — протестует ящик. — Такая правда — очень маленькая правда. Ее можно носить в кармане, как носовой платок. А настоящая правда — как солнце!.. Посмотри!
И повелительным жестом фрейлейн Эмма показывает мне на небо за окном. Небо в больших белых облаках, облепляющих солнце, как куски пышного теста. Вот они совсем закрыли солнце, как тесто скрывает начинку вареника, но тут же в облачном тесте открывается дырочка, и солнечный луч проливается из нее, как капелька сверкающего варенья. Еще минута — и солнце выплывает из облаков, словно отметая их прочь.
— Вот правда! Ее нельзя скрыть — она прорвется сквозь все покровы! Она проест железо, как кислота! Она уничтожит, она сожжет все, что посмеет стать на ее пути!.. Вот что такое правда!
Батюшки! Куда девался заколоченный ящик? Он раскрывается — глаза фрейлейн Эммы сверкают, они уже не тускло-серые, а карие.
— Сейчас я расскажу тебе про Ивиковых журавлей. Это баллада Шиллера… Слушай!
И я слушаю.
— В Греции жил поэт Ивик, чудный поэт, его все любили. Но однажды в глухом лесу, где не было ни одного человека — запомни: ни одного человека! — на Ивика напали убийцы. Раненый, умирающий Ивик услыхал, как в небе кричат журавли, и позвал их:
Я вас в свидетели зову!
Да грянет, привлеченный вами,
Зевесов гром на их главу!
(«А Зевес был у греков самый первый, самый главный бог», — поясняет попутно фрейлейн Эмма.)
— Ивика убили, и люди вскоре нашли его труп, — продолжает она рассказывать. — Никто не видел, не слыхал, как его убивали, никто этого не знал, никто не мог назвать убийц. Казалось, правда навеки схоронена в лесу… Но вот на большом народном празднике, куда стеклись отовсюду тысячи людей, над головами толпы проплыли стаи журавлей. И какой-то человек шутливо подмигнул своему спутнику: «Видишь? Ивиковы журавли!» Кто-то из стоявших рядом услыхал имя любимого поэта Ивика. «Ивик! Почему Ивик? Кто назвал это имя?» И у всех мелькнула мысль: «Эти люди что-то знают об убийстве. Задержите их! Допросите их!»
И тот, кем он внимаем был!
Убийц схватили, их привели к судьям.
И тщетный плач был их ответом:
И смерть была им приговор.
Видишь? Правда не осталась скрытой в лесу, — говорит фрейлейн Эмма радостно, с торжеством. И голос у нее уже не скрипит, а звенит, и руку она красиво, мягко подняла вверх. — Правда прилетела на журавлиных крыльях, журавли пропели людям правду, и в ней сознался нечаянно сам убийца! Вот что такое правда!
Несколько секунд фрейлейн Эмма молчит, а я смотрю на нее с удивлением, почти с восхищением. В заколоченном ящике оказался человек, живой, правдолюбивый и, наверно, хороший!.. Но тут же фрейлейн Эмма гасит свет в своих глазах — они уже не карие, а свинцово-серые, как шляпки гвоздей, которыми заколочен ящик. Мне даже кажется, что я слышу щелканье захлопнутой крышки… И, заканчивая урок, фрейлейн Эмма говорит прежним, чужим, скрипучим голосом:
— Вот — отсюда до сих пор — списать. Просклонять письменно слова: роза, стул, дом… До свиданья!
И ящик уходит.
Настает наконец день, когда папа приходит к Юльке в последний раз — она уже выздоровела.
— Господин доктор, — робко просит Томашова, — как вы у нас сегодня в последний раз, посмотрите Юлечкины ноги! Может, вы что-нибудь придумаете. Чтоб ходила она ногами, как все люди…
Осмотрев Юльку, папа задумывается и долго молчит. Молчим и мы все кругом. Смотрим на папу и молчим…
Томашова горько улыбается:
— Уж я вижу, господин доктор… Вы тоже думаете, что ее надо везти на курорт, к морю!
— Нет, я не об этом думаю… Конечно, ничего не скажешь, море — неплохое дело. Но что попусту говорить? А вот если бы вы могли уехать с Юлькой в деревню… на воздух, на солнце… Вы не можете получить такую работу?
Томашова отрицательно качает головой:
— В деревню?.. Значит, батрачкой? В панское имение или на фольварк… Ох, это каторга! Платят осенью, когда все работы кончены, сразу за все лето. А лето у них считается до октября, «до белых мушек», — значит, когда снег пойдет… Работать заставляют по шестнадцати часов в сутки, а когда и больше. Кормят хуже, чем собак… А с ребенком и вовсе не возьмут!
И опять все молчат. Думают.
Наконец папа встает:
— Посмотрим, Томашова, подождем… Вдруг что-нибудь… Есть такая замечательная вещь: «вдруг».
Мы идем с папой домой. Садимся в столовой, смотрим друг на друга. Папа невеселый.
— Папа, — говорю я неуверенно, — помнишь, в Театральном сквере ты говорил: «Лечить их — вот все, что я могу…» Помнишь?
— Помню.
— Так почему же ты не можешь вылечить Юлькины ноги?
— Я ж тебе не говорил, что я все могу вылечить… Всякая болезнь имеет причину, понимаешь? Если эту причину устранить, больной может выздороветь. А Юлькины ноги — это рахит…
— Рахит… — повторяю я. — А у рахита нельзя устранить причину?
Папа отвечает не сразу.
— Причина рахита — это голодная жизнь, в темном погребе, без солнца, без воздуха… Разве я, врач, могу устранить это? Помолчав, я вспоминаю:
— А Павел Григорьевич может это устранить?
— Павел Григорьевич? — удивляется папа.
— Ну да! Ты мне сам сказал, что Павел Григорьевич борется с правительством, чтобы Юльки не хирели в погребах… Ты сам так сказал, я помню! Ну, он борется, а может он это?
— Нет, — говорит папа. — Пока еще не может… Ох, растабарываю с тобой, а меня больные ждут!
И папа уходит. Уходит все такой же невеселый.
В последующие дни все идет, как всегда. Томашова ходит на работу, Юлька лежит. Я прихожу к ней играть. И нам очень весело вместе!
Степан Антонович тоже бывает у Томашовой. Иногда по нескольку раз на дню. Забегает он ненадолго, — оказывается, он служит в ресторане лакеем (или, как теперь называют, официантом). Посетители ресторана, когда им нужно подозвать лакея, стучат ножом по стакану или тарелке и кричат: «Человек!» Некоторые даже выговаривают это слово так: «Че-а-эк!»
В ресторане работа с рассвета и до поздней ночи. И по воскресеньям — как в будни. Вот почему Степан Антонович всегда торопится.
Как-то мы с Юлькой, одни в погребе, играем с куклой Зельмой-Шельмой. Юлька — будто куклина мама, а я — глупая-преглупая нянька: ничего не умею, чуть не сварила «рабенка» в ванне; чуть не утопила его в кадке с дождевой водой — «пусть рабенок поплавает». Я придумываю все новые нянькины глупости, делаю идиотское лицо, говорю, раззявив рот:
— А Зельмочка наша на завтрак мух накушалась… Вку-у-ус-ные!
Юлька хохочет, как в театре.
В самый разгар игры приходит ксендз Недзвецкий. Юлька умолкает на полуслове и смотрит на него со страхом.
Не обращая внимания на меня, словно я — веник или валяющаяся на полу бумажка, ксендз усаживается около Юльки. Он ласково гладит ее стриженую голову своей белой, красивой, холеной рукой и спрашивает по-польски:
— Ты уже выздоровела, дитя?
— Да… — шепчет Юлька.
— Господь бог — да славится имя его! — пожалел тебя… А где твоя мать?
— На работу пошла… белье стирать…
— А-а-а…
Наступает короткое молчание.
Потом ксендз Недзвецкий вдруг показывает на меня:
— Не забывают вас добрые люди… навещают? Юлька молчит.
— Ну, а тот… — голос ксендза становится вкрадчивым, — тот, рябой, из ресторана… бывает у вас?
Юлька не отвечает. Ксендз Недзвецкий повторяет свой вопрос: ходит к Томашовой рябой из ресторана, то есть Степан Антонович, или не ходит?
К великому удивлению, Юлька отвечает неправду:
— Не знаю…
— Как ты можешь не знать, кто у вас бывает? — недовольно говорит ксендз.
— Я больная когда была, ничего кругом не видела. И теперь не вижу-сплю много…
— Спишь?
— Да, да… Он приходит — а я сплю. Проснусь — он ушел!
— Ага! — торжествует ксендз. — Значит, все-таки ходит он к вам, этот осповатый!
Бедная Юлька нечаянно выболтала, чего не надо. Но почему это надо скрывать? Я ничего не понимаю.
— Ты хотела солгать — твой ангел-хранитель не допустил этого! А ты знаешь, — в голосе ксендза слышится гроза, — ты знаешь, что будет на том свете с теми, которые лгут? Черти заставят их в аду лизать языком раскаленные сковороды!
Юлька плачет навзрыд, уткнувшись носом в Зельму-Шельму. Я сижу в углу на ящике и тоже плачу. Не потому, что я боюсь чертей или раскаленных сковород, — папа уже давно сказал мне, что это глупости, что нет ни «того света», ни чертей. Я плачу оттого, что надо бы крикнуть ксендзу Недзвецкому: «Убирайтесь вон!» — а я молчу и презираю себя за трусость.
Наконец ксендз уходит.
Мы сидим с Юлькой обнявшись на ее топчане и плачем.
Я чувствую худые ребрышки Юльки — как у цыпленка! — легкость, почти невесомость ее тела, вижу ее мертвые, неподвижные ноги, едва различимые под одеялом. Как не стыдно Недзвецкому обижать Юльку!
И тут Юлька рассказывает мне все их семейные тайны.
Степан Антонович очень хороший. Невозможно даже сказать, до чего хороший! «И непьющий! Капли в рот не берет!» — добавляет Юлька тем взрослым тоном, каким говорит о таких вещах Юзефа. Жена Степана Антоновича умерла давно, детей у них не было. Степан Антонович хочет жениться на Юлькиной «мамце», он очень ее любит. Он и Юльку любит, Юлька один раз сама слыхала, как Степан Антонович говорил «мамце»: «Анеля Ивановна! Вы боитесь, я буду для Юленьки вотчим? Я буду для нее самый дорогой отец!»
— Золотой человек Степан Антонович, брильянтовый! Мамця тоже его любит… но ксендз Недзвецкий запрещает мамце выходить замуж за Степана Антоновича!
— Почему?
— Русский он, Степан Антонович. Ксендз говорит: «Как же ты, полька, католичка, пойдешь за русского, за „кацапа“? Бог тебя за это проклянет!» Ну, и вот…
— Что «вот»?
— Забоялась мамця ксендза… — говорит Юлька со вздохом. — Мы оттуда потихесеньку выехали, где раньше жили. Перебрались сюда, чтоб Степан Антонович не знал, где мы живем… Но он все-таки разыскал нас! Вот как он нас любит!
— А ты бы хотела, чтобы твоя мама женилась на Степане Антоновиче?
Юлька сидит на своем топчане, подперев голову обеими руками и качаясь из стороны в сторону, как старушка.
— Хотела бы!.. — тянет она нараспев. — Ой, хотела бы!.. Ой, как же я хотела бы!.. А только — что делать с ксендзом Недзвецким?
Я иду от Юльки и напряженно думаю: что делать с ксендзом Недзвецким? Ведь его же не утопишь в ведре, как бумажных Монтекки и Капулетти! Впервые в жизни я стою перед вопросом: что делать с плохими людьми, чтобы они не портили жизнь хорошим?
Дома я застаю переполох. Дверь из квартиры на лестницу отперта. Юзефа мчится мимо меня заплаканная и даже не спрашивает, голодная я или нет. Папины пальто и палка брошены в передней в разные стороны, словно они рассорились и не желают друг друга знать. А главное, папина кожаная сумка с инструментами — до них не разрешается дотрагиваться даже маме, папа всегда сам кипятит их! — эта сумка теперь валяется на подзеркальнике, лежа на боку, как дохлая собака… Застежка ее даже неплотно закрыта!
Иду дальше — полная комната народу! Папа лежит на кровати, около него хлопочут Иван Константинович Рогов и Павел Григорьевич. У доктора Рогова две его любимые пуговицы не расстегнуты только потому, что он вовсе снял сюртук; засучив рукава рубашки, он делает что-то с папиной ногой, которую поддерживает Павел Григорьевич. Что такое стряслось у папы с ногой?
Юзефа бестолково мечется, держа в руках таз с водой и не замечая, что вода проливается ей на ноги и на пол. Мама стоит около кровати и держит папину руку. Каждый раз, как папа; охает под руками Ивана Константиновича Рогова, мамины губы болезненно сжимаются, а прекрасные серые глаза закрываются.
— Ну-ка! — поднатуживается Иван Константинович Рогов.
Папа глухо стонет.
— Яков Ефимович! Душа моя! Больно тебе? — чуть не плачет доктор Рогов.
— А вы, Иван Константинович, не вскидывайтесь, как дамочка… — говорит папа, но видно, что ему очень больно. — Давайте делать каждый свое дело. Вы — врач, извольте делать свое дело: вправляйте вывихнутую ногу. Я — больной, и я тоже буду делать свое дело: стонать. И наплевать вам на меня, поняли, Иван Константинович?
Доктор Рогов снова поднатуживается, Павел Григорьевич помогает ему. Раздается не то хруст, не то скрежет, — папа перекашивает нижнюю губу: «Ч-ч-черт!» — и вдруг у всех становятся счастливые лица!
— Молодцы! — радуется папа. — Вправили — лучше не надо… Теперь — шину!
Доктор Рогов и Павел Григорьевич подбинтовывают папину ногу к проволочной шине. Потом кладут ногу на свернутое валиком одеяло, чтобы нога лежала в приподнятом положении.
— Готово! — говорит доктор Рогов, распрямляясь и вытирая вспотевшее лицо. — Фу ты! Всегда говорю: лечить надо чужих, незнакомых, и все. А когда свой, близкий человек стонет, больно ему, так уж это, черт побери мои калоши с сапогами, впору самому взвыть и убежать!..
— Вот не знал я, Иван Константинович, что вы меня так обожаете! — поддразнивает папа.
И тут он видит меня. Я стою на пороге комнаты, окаменев от ужаса. Видеть папу не на ходу, не на бегу, неподвижным на кровати, с ногой, которая в шине и бинтах похожа на березовую чурку, — это очень страшно…
— Пуговица! — шутливо рычит на меня папа. — Не смей реветь! Мне уже не больно, нисколько… Ты радоваться должна, нам с тобой страшно повезло — я буду лежать дома целых три дня! То-то мы наговоримся…
Папины слова приводят Ивана Константиновича в совершенную ярость.
— Извольте радоваться, он через три дня вставать собирается! Развеселился: вправили ему вывих сустава — и пустите меня, я плясать пойду! А что у тебя и растяжение, и разрывы есть, и внутреннее кровоизлияние большое, — про это ты не думаешь?
Папа делает испуганное лицо:
— Леночка, уведи этого старого крокодила в столовую. Корми его завтраком, а не то он меня живьем сожрет!
Не проходит после этого и часа, как к нам неожиданно приезжает все семейство Шабановых — Владимир Иванович, Серафима Павловна, Рита, Зоя и тетя Женя со своим пенсне, порхающим на шнурочке, как привязанный за лапку мотылек.
Зоя и Рита, по своему обыкновению переругиваясь и шпыняя друг дружку, объясняют мне, что они приехали всей семьей в город за покупками, а потом пойдут смотреть зверей в приезжем зверинце и хотят взять с собой и меня.
— Я не могу с вами идти, — отвечаю я сурово. — У меня папа больной, я при нем сидеть буду.
— Непременно ступай в зверинец, Пуговка! — приказывает папа. — Я очень давно не видал никаких зверей, кроме одной кудлатой обезьяны. — Он шутливо дергает меня за нос. — Пойди в зверинец, погляди, а потом расскажешь мне, что ты там видела.
Несчастный случай — папа повредил ногу — поражает всех. Впечатлительная тетя Женя и сердобольная Серафима Павловна смотрят на папу глазами, распухшими от слез, и бурно обнимают маму.
— Бедная, бедная моя Леночка… — шепчет Серафима Павловна (она училась вместе с мамой в гимназии).
— Боже мой! — взвизгивает тетя Женя. — Видеть такое воплощение энергии, как Яков Ефимович, — и вдруг в полной прострации!.. Это трагедия!
Тетя Женя, по-видимому, совсем не знает простых человеческих слов — только какие-то непонятные.
— Женечка! — вспоминает Серафима Павловна. — Поезжай с девочками по магазинам, сделайте все покупки и возвращайтесь. А мы с Володей здесь побудем.
Тетя Женя, Зоя и Рита уезжают.
Владимир Иванович садится около папиной кровати:
— Ну, как же мне, Яков Ефимович, сегодня с вами разговаривать? Я привык с вами ругаться, но ведь вы больной… нельзя!
— Сделайте одолжение! — предлагает папа. — Я вам и больной сдачи дам. Не стесняйтесь, пожалуйста! Но Серафима Павловна протестует:
— Нет, нет, не надо! Давайте хоть один раз мирно поболтаем… Расскажите нам, дорогой Яков Ефимович, что это с вами приключилось? Почему?
— Да вот… — притворно вздыхает папа, и я вижу, что глаза у него хитрые-прехитрые. — Вы ведь уже давно меня упрекаете за то, что я лечу бедняков, воров, а не приличных людей… Ну, и вот…
— Ах, вот оно что! — оживляется Владимир Иванович. — Так это вас, значит, босота ваша — воры и нищие так отделали?
— Не совсем… — продолжает вздыхать папа. — Помещик Забего, по-вашему, приличный человек?
— Еще бы! Конечно, приличный… И даже всеми уважаемый человек! Граф!
— Вчера ночью, — рассказывает папа, — этот помещик Забего присылает за мной пароконный экипаж, просит приехать: жена у него рожает. Я думаю: пожалуй, пора послушаться друзей и начать лечить одних только приличных людей. Время идет, подрастает у меня дочь, а я все еще как студент, пустяками занимаюсь… Пора поумнеть! Пора обзаводиться солидной врачебной практикой.
— Очень хорошо! — почти в один голос выражают свое одобрение супруги Шабановы.
— Ну вот, еду это я, значит, ночью за город. На полпути, в поле чей-то голос кричит кучеру: «Стах! Стах!» Кучер Стах останавливает коней, — в чем дело? Тот же голос кричит из темноты: «Родила пани! Сама родила! Не надо доктора — акушерка и без доктора справится!» Тут Стах — отлично выдрессировал его пан помещик! — вежливенько говорит мне: «Будьте ласковы, пан доктор, выйдите из экипажа!..» Я, дурак, думаю — наверно, с колесом что-нибудь или с упряжью. Вылезаю из экипажа, а Стах — хлесть по коням! — и умчался!.. Стою один на дороге, темень кругом, как в чернильнице. Покричал разок, другой — никто не откликается… Ну, что тут делать?
— Ох, и артист этот Забего! — вырывается у Владимира Ивановича не то порицание, не то восторг. — Это он, Забего, для того устроил, чтоб не платить доктору… Ох, артист!
— Да, но я, как вы понимаете, не артист, а всего-навсего только очень близорукий врач. Я пошел обратно в город пешком, в темноте, несколько раз падал то в яму, то в канаву. Потерял золотые очки и никак не мог нашарить их в траве. Потерял шляпу, порвал брюки — в общем, я, вероятно, был прехорошенький… Наконец споткнулся о бревно, да так ловко, что вывихнул ногу и уже не мог идти дальше.
— Господи! — стонет Серафима Павловна. — Да как же вы домой-то попали?
— А вот тут начинается самое интересное! Кучер Стах, как ему было приказано, отвез экипаж в имение Забеги без меня. А сам пошел пешком обратно по дороге — искать меня. Этого уж ему помещик Забего не приказывал, но Стах оказался много приличнее своего барина! С ним пошли еще двое крестьян, батраков Забеги. Они меня нашли, подняли и понесли на руках до города. А уж там Стах сел со мной на извозчика и привел меня сюда, домой. Сейчас, перед вашим приходом, доктор Рогов вправил мне вывихнутый голеностопный сустав… Так-то, Серафима Павловна, лечить «приличных» людей иногда — дорогое удовольствие!
— Видите ли, Яков Ефимович… — начинает Владимир Иванович, шевеля бровями-щетками.
Но папа перебивает его:
— Да что мне видеть-то? Вы меня попрекаете тем, что я «нищих» лечу… Так ведь именно они, бедняки мои, — они и есть приличные люди! Бывает, сделаешь операцию в крестьянской избе, денег они, конечно, не платят, нету ведь у них денег, бог с ними! А через полгода приезжает незнакомый мужик — не могу я их всех упомнить, да с иными из них я и сговориться-то не могу: литовцы, а я по-литовски говорить не умею! — так вот, приезжает незнакомый мужик и протягивает мне курицу или горшок с медом… И я беру. Да, беру, хотя и курицу терпеть не могу, а меду и на дух не переношу. Беру и думаю: полгода — иногда больше! — помнил человек сделанное ему добро и мечтал сказать за это добро «спасибо»!
Владимир Иванович сердито сопит. У него шевелятся не только брови и усы, но, кажется, колеблются даже волосы в носу и ушах. Владимир Иванович очень разозлен и сдерживается только потому, что Серафима Павловна умоляющими глазами указывает на папину больную ногу.
— Ну ладно! — изрекает он. — Нищие так нищие.
Но папа словно на салазках под раскат поехал!
— И вовсе они не нищие! На паперти не стоят, милостыни не просят… Они работают!
— Да уж ладно, говорю… — пытается отвести ссору Владимир Иванович, но вдруг взрывается: — Работают они! Рабочие! Пожалуйста, лечите их, целуйтесь с ними, зовите их к себе на блины. Ну, а воры? Воры-то ведь не работают!
— А работа для всех есть? — кипятится папа. — А что делать тому, для кого работы не хватает? Бывает, что и вору перепадет работа, тогда он не ворует! Но ведь сами понимаете, — развращает человека воровская жизнь, легкие деньги, отвыкает он от труда… Вот так и втягиваются люди, и уж не вытащишь их из этого болота… Аминь!
— В общем, «вполне приличные люди»! — ехидно говорит Владимир Иванович.
В передней раздается звонок. Слышно, как Юзефа отпирает дверь, впускает кого-то, смутно слышен доносящийся оттуда разговор. Наконец появляется Юзефа и мрачно докладывает:
— Якийсь там Забега… до вас пришел.
— Ага!
— Вот видите!
Это торжествуют Владимир Иванович и Серафима Павловна.
— Граф Забего приехал извиниться перед вами! А вы говорили!
— Павел Григорьевич, — просит папа, — выясните, голубчик, в чем там дело…
Павел Григорьевич уходит в переднюю и через несколько минут возвращается, держа в руках конвертик.
— Там лакей от графа Забего… Привез письмецо…
— Ага! — радуются Шабановы. — В конвертике, наверно, деньги за визит… Ясно, недоразумение вышло… А вы говорили бог знает что!
В конверте оказывается визитная карточка. На белом глянцевитом кусочке картона напечатано по-польски:
Граф КАРОЛЬ ЗАБЕГО
и приписано от руки тоже по-польски: «Извиняется за происшедшее недоразумение».
Папа читает это вслух.
— Ничего не скажешь! — изрекает Владимир Иванович. — Забего — джентльмен!
Папа переглядывается с Павлом Григорьевичем.
— Павел Григорьевич, скажите лакею Забеги, чтобы он передал своему барину… Да нет, не передаст он, побоится… Пусть подождет несколько минут! Пуговка, дай мне перо и чернила.
И папа пишет поперек графской визитной карточки, сообщающей, что «граф Кароль Забего извиняется»:
«Доктор медицины Яков Яновский в ваших извинениях не нуждается».
Этот папин ответ кладут в конверт и передают графскому лакею.
Супруги Шабановы сидят, окаменев от изумления.
— Умрете… — говорит Владимир Иванович. — Помяните мое слово: умрете…
— А вы — нет? — хохочет папа. — Вы такое средство придумали, чтоб не умереть?
— На соломе помрете, вот что!
— Знаете, Владимир Иванович, что на соломе помирать, что на бархате — все одно, удовольствие слабенькое…
— Леночка, — шепчет Серафима Ивановна, обнимая маму, — Леночка, он у тебя все-таки с сумасшедшинкой!
Владимир Иванович смотрит на папу с сожалением:
— Я вам торжественно заявляю, Яков Ефимович: если бы вы не такой превосходнейший доктор были, я бы… я бы…
— Вы бы меня к себе и на порог не пускали! — серьезно подхватывает папа.
Тут вдруг на всех нападает неудержимый хохот! Первым заливается сам папа. Хохочет Павел Григорьевич, открыв свои великолепные зубы и спрятав глаза в складках кожи. Хохочут все остальные.
— Над чем вы смеетесь? — прорывается у папы сквозь хохот. — Сами не знаете! — Папа вытирает слезы. — А я вот знаю, над чем я смеюсь… Был у меня такой случай. Пришел за мной ночью человек: «Ради бога, доктор, скорее, скорее, жена рожает». Ну, одним словом, знакомая музыка. Едем мы с ним на извозчичьих санях, везет он меня на Новгородскую слободку, которую вы так не любите, Владимир Иванович…
— Ясно: вор. Все они там, на этой слободке, живут.
— Вор ли, нет ли, этого я в точности сказать не могу, но было в этом человеке что-то… В глаза не глядит, часто озирается… Ну, одним словом, это был не граф Забего! Я, впрочем, тогда об этом не задумывался: ехал полусонный — сами понимаете, морозной ночью в теплой постели веселее…
— Ну, а дальше что?
— А дальше прыгает на ходу кто-то на задний полоз саней — и хвать с меня меховую шапку! И ищи-свищи — нет его! И шапки нет!
— Вот-вот! — злорадствует Владимир Иванович. — Так вам и надо! И что же вы?
— Рассердился. Очень. Ведь мороз градусов двадцать! Кричу извозчику: «Заворачивай обратно, не поеду! У меня шапка не краденая, за нее трудовые деньги плачены!..» И что бы вы думали? Выскакивает мой спутник из саней, становится на колени в снег — и ка-а-ак заплачет: «Доктор, доктор дорогой! Что шапка, найдем мы вашу шапку… А жена-то моя, а ребеночек ведь помру-у-ут!»
— И вы размякли и поехали к нему?! — спрашивает с ужасом Серафима Павловна.
— Конечно, поехал. Закутал голову вязаным шарфом и поехал. А что было дальше, пусть Леночка вам расскажет.
Мама кончает папин рассказ:
— Уехал Яков в ту ночь к этой больной. Мы все спим. Вдруг тихонько скребутся у входной двери. Часа в два ночи. Юзефа не впускает, спрашивает через цепочку: «Кто?» А там какие-то двое просовывают под цепочку меховую шапку, «Возьмите, докторово шапка!» — и убежали!
— Это они, воры эти, — у них ведь круговая порука! — у кого-нибудь украли и вам принесли… вместо вашей… — брезгливо роняет Владимир Иванович.
— Нет-с! У них хоть, вероятно, и существует круговая порука, но шапка эта была моя собственная! Рассказывай дальше, Леночка!
— Его вещи подменить нельзя, — продолжает мама. — Вы же знаете, какой он рассеянный, — я, где можно, с изнанки вышиваю красными нитками: «Доктор Я. Я.». И на шапке эта метка была. Юзефа побежала было за этими людьми — где там! И след замело… Стоим мы с Юзефой друг против друга, смотрим на эту шапку, и вдруг Юзефа как заголосит: «Убили нашего доктора! Убили и шапку домой принесли!» Побежали мы обе в полицию, носимся по полицейским участкам, требуем, чтоб сию минуту искали они Якова!.. Ну, в полиции не торопятся. Пока протрут глаза, пока все запишут в протокол… Юзефа их поливает: «Лайдаки вы, бодай вас! Разбойников покрываете! Сию минуту ищите нашего доктора, а не то я тут у вас все разнесу!..» Приходим наконец утром домой, уже часов восемь-девять было, а Яков, оказывается, уже вернулся и спит в столовой!..
— Да-с! — Папа весело подмигивает. — А вот граф Забего мне ни шляпу, ни золотых очков не вернул и не вернет!
— Папа, — вдруг спрашиваю я (обо мне все забыли), — а жена этого человека, к которому ты тогда поехал, — она выздоровела?
— Ох, эти дети! — смеется Серафима Павловна. — Чем Сашенька интересуется!
— Нет, она права… — И папа подзывает меня к себе. — Правильно, Пуговка! Не в шапке дело, пропади она совсем, а в жизни человеческой. Эта женщина родила при мне великолепного мальчишку, и больше я их никогда не видал, — значит, они живы и здоровы, не то прибежали бы ко мне…
Павел Григорьевич прощается — он идет в госпиталь. Папа говорит ему все, что надо передать в госпитале, и Павел Григорьевич уходит. Пока мама и Серафима Павловна отходят к платяному шкафу и обсуждают мамино новое платье, Владимир Иванович негромко спрашивает:
— Яков Ефимович, этот молодой человек, что сейчас ушел, — кто он такой?
— Учитель. Сашурку нашу в гимназию готовит.
— Из поднадзорных?
— Да. Студент-медик. В госпитале помогает мне. Очень дельный.
— Уж вы и выберете учителя для девочки!.. Каторжник бывший?
— Нет. Сослан был в Якутскую область, отбыл срок и вернулся… А чем он, собственно, интересует вас, Владимир Иванович?
— Что-то я его несколько раз у нас в Броварне видел… То около завода, то около хат, где мои рабочие живут…
Папа объясняет Владимиру Ивановичу, что Павел Григорьевич недурно рисует, — бродит по окрестностям, зарисовывает пейзажи…
— Скажите этому господину… — Голос Владимира Ивановича звучит почти угрожающе. — Скажите ему, чтобы ко мне в Броварню не шатался! А не то я на нем так-к-кой пейзаж раз рисую!..
— А вы это ему сами скажите! — предлагает папа. — И не задавайте мне загадок. Что вы всем этим хотите сказать?
— А то, что все эти ваши ссыльные, поднадзорные, ну, одним словом, господа революционеры, — они рабочих мутят Желательно им почему-то, чтобы первого мая все рабочие бастовали! А мне всякий день забастовки — просто нож в горло: пасха скоро, сколько людям пива нужно, представляете? Эта ихняя забастовка мне пасхальное пиво зарежет. Убытки — представляете? Рабочему день бастовать — ну, не получит он за этот день свои двадцать — тридцать копеек, не поест один день, что ему, он привык! А мне это — сотни, тысячи рублей, шутите?
Папа не успевает ответить — в комнату с веселым щебетом влетают Рита, Зоя и тетя Женя. На Зое и Рите новенькие, только что купленные шляпки из светлой соломки, вокруг тульи изящно выложены гирляндой искусственные ветки, листья — как живые! На ногах у девочек «бронзовые» туфельки, тоже новенькие. Рита и Зоя скользят, кружатся по полу, чувствуя себя нарядными, хорошенькими. Все мы любуемся ими.
— Весна… — с умилением глядит на них тетя Женя. — Примавэра… Боттичелли…
Уж эта тетя Женя! Не может сказать попросту: «Ах, какая прелесть! Ужасно красиво!»
— Едем! Едем в зверинец!
По папиному настоянию мама тоже едет со мной в зверинец. Мы там пробудем часа два-три, а папа пока поспит. Ох и отоспится он, бедный, в эти несколько дней!
Когда мы спускаемся с лестницы, тетя Женя говорит Серафиме Павловне:
— Я нарочно не купила девочкам шляпок с цветами или с лентами. Бантики, васильки, ромашки — это банально, это носят жук и жаба. А эти гирлянды листьев — посмотри, как изысканно!
По дороге в зверинец я спрашиваю у Риты и Зои:
— А как те дети, которые приходили тогда к вам ужинать? Ну, Франка с Зосенькой, Антось, Колька…
— Ax, эти… — вспоминает Зоя.
— Ходят они к вам?
— Нет! — отрезает Рита. — Больше не ходят.
— Почему?
Сестры переглядываются, и Зоя, скорчив смешную гримаску, отвечает:
— Надоели.
Глава десятая. Зверинец
На краю большой пустой базарной площади, среди непролазной весенней грязи, навозных куч, оброненной с возов соломы, поставлена громадная палатка. Словно зверолов, накинув этот брезент, накрыл им множество зверей. Из-под брезента доносятся звуки шарманки, рычание хищников, визг и крики обезьян. На боках палатки, словно отпотевших от пятен, разводов грязи и сырости, налеплены яркие афиши: «Африканские львы» прыгают через обручи, затянутые бумагой, «Бенгальские тигры» стоят на задних лапах, «Индийский слон» с высоко поднятым хоботом, «Самая большая в мире змея-удав», обвивающая ствол пальмы. Перед афишами толпятся мальчишки, зеваки.
Большая толпа посетителей сразу оттирает нас от Шабановых.
При входе в зверинец словно погружаешься в густое, душное облако почти невыносимой вони. Я стараюсь не дышать носом и думаю: «Ох, как же, должно быть, воняет в Африке или в индийских джунглях — ведь там зверей еще гораздо больше!..»
Звери — в клетках, поставленных друг к другу очень близко; и самые клетки очень тесные. Некоторые звери явно томятся в этой тесноте — например, белый медведь (ближе к выходу, где холодно, стоят клетки с северными зверями; звери из жарких стран занимают середину палатки). Белый медведь, кстати, почти не белый, до того он грязный, словно валялся во всех лужах, его шерсть прямо побурела от грязи. В клетке белого медведя стоит что-то похожее на большую цинковую ванну с грязной водой. Эта ванна занимает три четверти клетки, а сам медведь неподвижно стоит рядом, тоскливо качаясь из стороны в сторону, как маятник. В ванную он при нас не полез ни разу — что за удовольствие, если не только плавать, но даже двигаться в ней для него, вероятно, невозможно! Глаз белого медведя не видно, они теряются, как в траве, в его грязно-белой шерсти. Зато у соседа его, северного оленя, глаза большие, выпуклые, смотрят печально и даже, как мне кажется, укоризненно: «Вот, ходите вы все мимо моей клетки, а я стой, как дурак!» А неподвижен он оттого, что клетка тесная и огромные ветвистые его рога не позволяют ему двигаться, — он и стоит, как дама в слишком большой шляпе!
Очень смешные обыкновенные медведи — они борются друг с другом, неуклюже перекувыркиваются через голову, протягивают сквозь прутья лапы, как бы прося подачки. Кто-то дал одному из медведей бутылку с молоком, и он, осторожно держа ее обеими лапами, сосет молоко. Молоко в бутылке убывает — медведь запрокидывает назад голову и высасывает все до последней капли, аккуратненько, не облившись!
А вот — очень большая клетка, самая большая во всем зверинце. Перед ней — толпа ребят и взрослых, смех, крик. Это обезьянья клетка. В нее выходят дверцы нескольких десятков маленьких, тесных клеток, в которых сидят обезьянки, подогнув под себя ноги, что-то жуя, часто мигая полузакрытыми веками глаз. А в большой клетке спит крупная коричневая обезьяна.
— Это Кларочка! — объясняет старый лысый служитель. — Она у нас вроде няньки или учительницы. Очень любит маленьких обезьянков нянчить. Даже бывает, если в публике женщина с дитем на руках, наша Кларочка тянет к ней лапы: дай, мол, покачаю я твое дите!
Лысый служитель заводит беседу с обезьянками:
— Морковочку жуете, Петенька? Ну, жуйте, жуйте, приятного вам аппетиту! А вы, Сонечка, — обращается он к маленькой мартышке, у которой в руках блестит осколок зеркальца, — ох и кокетка же! Все в зеркало глядитесь, все красотой своей не налюбуетесь!
Толпа ребят около обезьяньих клеток радостно смеется на каждую остроту лысого служителя.
— А это вот наш красавец Чарля. Поздоровайся, Чарля, поручкайся с почтеннейшей публикой!
И большой сонный гамадрил с шерстью, стоящей венцом вокруг головы, равнодушно протягивает, не вставая с места, черную лапу сквозь прутья клетки: нате, мол, пожмите, поздоровайтесь со мной, если уж вам так приспичило, а мне все равно!
Я невольно прижимаюсь к маме, мне ужасно не хочется пожимать черную Чарлину лапу! Мы с мамой облюбовали маленькую темненькую мартышечку; мама просовывает в ее клетку морковку. Увидев это, другая обезьянка, из соседней клетки, быстро вытягивает лапку и старается перехватить морковку.
— Э, нет, Манечка! — отгоняет ее служитель. — Непорядок-с; не тебе дадено, а Катюше. Большой зверь, замуж пора, а маленькую Катюшку обижаешь! Стыдно-с!
Две крошки уистити заняты очень серьезным делом: одна ищет на другой блох.
— Это у них самое главное уважение! — объясняет лысый служитель. — Они и человека, если полюбят, обязательно на нем блох ищут. Вот глядите!
Отперев одну из клеток, служитель выпускает обезьянку резуса, которая одним прыжком садится к нему на плечо.
— Вот! Имею честь представить: обезьяна резус, зовут. Марья Ивановна! Марья Ивановна, благодетельница, спасите, заедают меня блохи.
Марья Ивановна внимательно разглядывает глазками и быстро обшаривает лапкой лысую голову служителя. Секунду она растерянно смотрит по сторонам: что же это за существо, у которого нет шерсти на голове? Но тут же она осторожно расстегивает на служителе рубаху, обнажая его сильно волосатую грудь, и спокойно шарит лапкой, ища там блох! Публика в восторге аплодирует.
— А теперь, — заявляет служитель, — внимание! Сбор всех частей! Всеобщая мобилизация! Проснитесь, Кларочка, будет вам сейчас работа! Эй, эй, обезьянья нация, сюда!
И он отпирает дверцы всех обезьяньих клеток. Обезьянки весело прыгают в большую клетку, где спит обезьяна «няня» Клара, начинают возиться, прыгать, кататься по земле, драться, визжать так, что в голове звенит.
Тут начинается «работа» обезьяны Клары! Неторопливо, с достоинством она ходит среди обезьянок, как воспитатель. Она разнимает дерущихся, без всякого раздражения раздает затрещины и зуботычины, иногда такие сильные, что пострадавшие зверюшки с визгом катятся на пол кувырком. При этом Клара, как ребенка, качает на руках самую маленькую из всех обезьянок. Публика в восхищении от замечательных педагогических способностей «няни» Клары.
— Ай да Клара!
— Браво, Клара!
Лысый служитель показывает последний «номер». Страшно выпучив глаза, он кричит диким голосом:
— Кузьма Иваныч идет! Кузьма! Кузьма! — и открывает в глубине еще одну дверцу, до сих пор запертую.
Мгновенно все стадо обезьянок, даже та, маленькая, которую Клара качала на руках, побросав свои обезьяньи дела, прекратив драки, стремглав улепетывает в свои маленькие клетки! Служитель быстро запирает их на задвижку. А из открытой им в глубине дверцы входит в большую клетку Кузьма Иваныч-обезьяна павиан с задом, красным, как клюква. Выйдя на середину клетки, Кузьма Иваныч ударяет ногой в пол и рычит страшно и картаво:
«Р-ра-а-а-а-а!»
Все обезьянки в своих клетках с ужасом прислушиваются к этому злобному воинственному крику. Две маленькие уистити уже не ищут друг на друге блох — страшно испуганные, они прижимаются одна к другой, зарывая мордочки друг другу в шерстку.
— Что, Кузьма Иваныч? — спрашивает лысый служитель. — Опоздал, брат, а? Народ-то весь — тю-тю! Ну, покажи почтеннейшей публике свою злость!
Кузьма Иваныч, вцепившись обеими лапами в прутья клетки, трясет их так, что они содрогаются сверху донизу. При этом Кузьма Иваныч снова ожесточенно орет свое:
«Р-ра-а-а-а-а!»
«Няня» Клара смотрит на Кузьму сурово, неодобрительно. Вероятно, она сердится на него, зачем он разогнал и распугал маленьких обезьянок. Спокойно и неторопливо, как она делает все, Клара подходит к, Кузьме, берет его за плечи, отрывает от прутьев клетки и с самым невозмутимым видом отпускает ему здоровенную оплеуху!
Все вокруг замирает — сейчас начнется страшный поединок между Кузьмой Иванычем и.Кларай! Но Кузьма уклоняется от боя, он явно боится Клары. Он поворачивается к ней спиной и уходит в свою клетку, продолжая глухо рычать. Но теперь его картавое «р-ра-а-а-а» никого не пугает. Публика восторженно аплодирует Кларе:
— Молодец, Клара! Брава-а-а!
Лысый служитель запирает за Кузьмой Иванычем дверцу его клетки.
— И труслив же ты, Кузьма! Смотреть противно… А Клара — ничего не скажешь — справедливая дамочка!
И вот мы с мамой стоим перед клетками хищных зверей. Африканский лев какой-то нескладный. Из-за большущей гривы, похожей на свалявшуюся желтую паклю в рваном диване, голова его выглядит гораздо большей, чем туловище. Вместе со львом сидит львица, на конце ее хвоста «помпончик», как на моей туфле.
Тигр, полосатый, как желтый арбуз, кажется гораздо более причесанным, и трехцветная шерсть его блестит — наверное, он, как кошка, вылизывает каждое утро всю шкуру языком. Пантера и леопард почему-то так мечутся в своих клетках, что их трудно рассмотреть.
От клетки льва и тигра я долго не отхожу. Ни тот, ни другой ни на кого не смотрят, поймать их взгляд невозможно. Наверно, все мы, публика, представляемся им чем-то чепуховым, вроде мух. Я все время ощущаю: они — чужие, они — враги. Скажем, если бы могли говорить обыкновенные животные — собаки, кошки, , лошади, коровы, даже куры и воробьи, — они бы, наверно, говорили по-русски. Даже грязно-белый медведь и печальный северный олень тоже, вероятно, говорили бы по-русски — ну, разве что немного с иностранным акцентом — или если уж не по-русски, то на каком-нибудь таком иностранном языке, которому можно научиться. Но если бы заговорили лев, тигр, пантера, леопард, — ох, наверно, они заорали бы что-нибудь нечеловеческое, страшное. Они — чужие людям, они — враги!
— Дедушка-а-а… — хнычет рядом с нами маленький мальчугашка, — дедушка, я хочу покормить булочкой этого тигеря…
Дедушка, маленький старый еврей в картузе, по виду ремесленник, схватывает внука на руки и шипит на него:
— Не лезь к тигерю! Он тебе голову откусит!
Но самое великолепное — это слон! Вот, говорят, «неуклюжий, как слон», «громоздкий, как слон». Однако, этот слон, первый живой слон, увиденный мною в жизни, кажется мне невыразимо грациозным! Он покачивается, словно в такт какой-то мелодии, которую он один слышит, а хоботом своим он помахивает, как гигантским цветком. Я протягиваю ему булку, слон осторожно опускает ко мне хобот, на конце хобота — круглая вмятина, похожая на чашечку, и какой-то присосок, вроде пальца. Честно говоря, мне немножко страшно, но слон так осторожно берет булку, прижимая ее пальцевидным присоском, чтобы не выронить, что я не успеваю даже испугаться — хобот уже поднял мою булку высоко и направляет ее в треугольный рот слона.
Около клетки с зеброй мы снова встречаемся с тем стареньким дедушкой в картузе, который только что грозил внуку, что «тигерь» откусит ему голову.
— Видишь это полосатое? — говорит он внуку. — Так это зеберь… — И, обращаясь уже к моей маме, старичок добавляет: — Этот зеберь, я вам скажу, мадам, — это пункт в пункт человеческая жизня… Черная полоса — горе, а за ней белая полоса — радость, и так до самой смерти! И потому, когда начинается белая полоса, надо идти по ней медленно, тупу-тупу-тупочки, надо пить ее маленькими глотками, как вино…
— А когда потом приходит черная полоса, — с улыбкой спрашивает мама, — что делать тогда?
— Тогда, — очень решительно отвечает старичок в картузе, — надо нахлобучить шапку поглубже, на самые глаза, поднять воротник повыше ушей, застегнуться на все пуговицы, — и фью-ю-ю! — бегом по черной полосе, чтоб скорей пробежать ее! И самое главное, мадам, — старичок наставительно поднимает узловатый палец, — когда бежишь по черной полосе, надо все время помнить: за нею придет светлая полоса… Непременно придет!
Старичок, вероятно, говорил бы еще долго, но его прерывает отчаянный рев, слышный во всем зверинце. Это не «р-ра-а-а-а» обезьяны Кузьмы Иваныча и не львиный рык, — это кричит Рита Шабанова:
— Шляпка-а-а! Шляпка-а-а!
И тут же крики Риты покрываются хохотом публики и аплодисментами… Опять хохот, аплодисменты — и рев Риты.
Толкаясь, извиняясь, проскальзывая между людьми, мы с мамой бежим на крики Риты и застаем необыкновенную картину. Плача и крича: «Шляпка-а-а!», Рита топает ногами и грозит слону кулаком. Польстившись на гирлянду искусственных листьев на тулье шляпы, слон («Он любит зелень», — объясняет лысый служитель), протянув хобот, сорвал с Ритиной головы шляпку и засунул было ее в свой треугольный рот. Почувствовав что-то несъедобное, он бросил шляпку на землю, и ее подают Рите. Но боже мой, какой вид имеет злополучная шляпка: измятая, изжеванная, вся в слюне…
— Паршивый слон! — плачет Рита, яростно топая ногами. — Я тебя в полицию посажу!
— Золотце мое… — унимает Риту Серафима Павловна, вытирая ей слезы, обнимая и целуя ее. — Сейчас поедем в магазин, купим точь-в-точь такую же шляпку! Еще лучше купим!
— Лучше, чем у Зойки? — спрашивает Рита, переставая плакать.
Серафима Павловна и тетя Женя сулят ей шляпку, «лучшую, чем у Зойки», и Рита успокаивается.
Пронзительный звонок возвещает начало «кормления зверей». Хищники — львы, тигры, леопард, пантера — высоко подскакивая, хватают подаваемые им на вилах кровавые куски мяса. Рыча друг на друга, они разрывают мясо в клочья, сокрушают кости так легко, словно грызут леденцы! Не видно, чтобы еда доставляла им удовольствие, — морды их насуплены и свирепы…
«Враги!» — опять думаю я.
Бедный северный олень скучно жует данную ему еду, и глаза его говорят: «Какая гадость!» Зато белый медведь, получив порцию свежей рыбы, пожирает ее, даже урча от удовольствия.
После кормления зверей наступает самое интересное. Лысый служитель звонит в колокольчик и зычно объявляет, что сейчас начнется представление. Для начала господин Чхупхутчхинду (служитель выговаривает это имя неразборчиво), знаменитейший дрессировщик из города Бомбея, покажет чудеса дрессировки слона.
На маленькую эстрадку под торжественную музыку выходит уже знакомый нам слон. На нем — богато расшитое золотом седло с домиком. В этом домике на спине слона выезжает на эстрадку старичок в восточной одежде, с лицом и руками коричневого цвета. Это тот самый дрессировщик из города Бомбея, о котором объявлял лысый служитель.
При его появлении среди публики слышны реплики:
— Негр!
— Чего там негр? Эфиоп это!
— Какой там эфиоп? Не видишь — индеец!
Рядом с нами старушка крестится, говоря негромко:
— Какой ни есть, а нехристь…
Все эти разговоры очень возмущают уже знакомого нам старичка в картузе.
— Вот люди! Непременно им надо знать, чи это индеец, чи это индейский петух! А я смотрю на него и думаю: это приличный человек — он не крадет, он работает как умеет. А что он черный, или желтый, или фейолетовый, или полосатый, или стрекатый, — какое мое дело?
Слон опускается на колени, и старик из Бомбея, выйдя из домика, раскланивается с публикой. Наверно, он индиец, иначе зачем бы ему забираться в город Бомбей? Он не черный и не «фейолетовый» — он смугло-кофейного цвета и, по-моему, очень славный старичок. Приложив к губам дудочку, он играет что-то протяжно-грустное, и. слон медленно приплясывает в такт, осторожно переставляя огромные ноги. Индиец все ускоряет свою песенку, переводя ее в веселое звучание, и слон все быстрее переступает ногами и поводит хоботом.
Потом кофейный старичок воздевает руки к небу, из горла его льются гортанные звуки — похоже, что он молится. И слон тоже поднимает вверх голову и хобот, но делает он это не очень охотно, и мне вспоминается, как фрейлейн Цецильхен по вечерам заставляла меня молиться. «День прошел, иду ко сну, крепко глазки я сомкну…»
— И какому же это он богу молится? — интересуется дама в шляпке.
— Ну, «какому, какому»!.. — пожимает плечами акцизный чиновник. — Своему, конечно, басурманскому богу…
Дрессировщик показывает все новое искусство своего слона.
Слон бьет в барабан, звонит в колокольчик, жонглирует стулом и проделывает еще много других номеров. Наконец кофейный старичок подходит к краю эстрадки и обращается к зрителям на ломаном русском языке, сильно наперченном буквой «х». Он просит, чтобы одна дама (он произносит «одхин дхама» — «не муж-ч-хин, нет, нет, — дхама, женчин», — чтобы женщина взошла на эстраду, и тогда слон скажет ей «один прекр-х-асный слов»…
Легким движением смуглых рук дрессировщик делает приглашающий жест:
— Сюда, сюда!.. Один женчин!, .
Но проходит секунда, две, три — и ни одна «женчин» не выражает желания идти на эстраду. Глаза индийского старика с кофейной кожей становятся грустные, испуганные, в них почти отчаяние. Он беспомощно оглядывается. Ведь срывается, срывается номер!
— Один дама… Один женчин… Сюда!
Это он просит упавшим голосом, почти тихо. Мы с мамой стоим около самой эстрады. И вдруг неожиданно для самой себя я говорю громко, протягивая руки:
— Я… я пойду!
Мама обомлела, она даже не успевает удержать меня хоть за рукав. Старый индиец, просияв, поднимает меня под мышки на эстраду и ставит на стул:
— Нич-х-его… Мерси… Не надо боисся…
Он отдает короткий приказ слону и вкладывает ему что-то в хобот… Слон опускается на передние колени — и протягивает ко мне хобот с букетиком весенних цветов.
Публика аплодирует — ей понравилось.
Старый индиец говорит мне с улыбкой:
— Мой с-х-лон говорить: вы есть самый прек-х-расный дама!
Надо что-то сказать ему — поблагодарить за цветы, — наконец, попрощаться, что ли. Взрослые это умеют — мама бы сказала очень мило все, что нужно… Но я, конечно, этого не умею! Я привстаю и от души целую его в щеку кофейного цвета. И, как всегда, когда волнуюсь, говорю одно вместо другого: не «спасибо за цветы», а «с добрым утром»!
Публика смеется и аплодирует.
Слон и старик уходят с эстрады.
Тут всеобщее внимание переключается на другое: лысый служитель объявляет, что сейчас знаменитая укротительница «мадмазель» Ирма войдет в клетку и покажет высшую школу дрессировки хищных зверей. В заключение чего «мадмазель» Ирма исполнит «смертный номер»: вложит свою голову в пасть льва Альфреда.
Публика спешит к клеткам хищников, чтобы увидеть эти чудеса. Около пустой эстрады остаемся только мы с мамой, да Шабановы, да тот старенький дедушка с внучком, объяснявший маме, что такое «зеберь».
— Леночка… — говорит маме потрясенная, перепуганная Серафима Павловна, — это же… Дорогая моя, это же просто не знаю что! Такая послушная, скромная девочка, и вдруг… Это она в отца, Якова Ефимовича, такая отчаянная растет!
Рита пренебрежительно вздергивает плечом:
— Подумаешь, какая смелая! Я бы тоже пошла на эстраду, но я этого паршивого слона ненавижу: он мою шляпку сжевал! Не хочу иметь с ним дела!
Зоя увлекает мать, тетю Женю и Риту к клеткам хищников: смотреть «смертный номер».
Мама от волнения не может вымолвить ни слова. Она только непрерывно расстегивает и застегивает пуговицу на своей левой перчатке.
— Зачем ты это сделала? — спрашивает она наконец. — Я чуть не умерла от страха! Ну зачем ты это сделала?
— Не знаю… — признаюсь я от души. — Мамочка, не сердись… Такой умный слон! И старичок этот, индиец, стоит, просит: «Один дама… один женчин!», а никто не идет к нему…
Старичок в картузе, держа за руку внука, подходит к маме:
— Вы, мадам, не огорчайтесь.. У вас неплохой ребенок растет! Я, знаете, не ученый человек, но я — переплетчик, я читаю много книг, и я кое-что понимаю в жизни! Вот — все тут говорили: «эфиоп», «басурман», а кто его пожалел? Ребенок…
— Дедушка-а-а… — ноет мальчугашка, — Пойдем… Там главный лев кому-то голову откусит! Пойдем!
Мы с мамой остались одни.
— Я уже и не знаю — может, нам лучше домой пойти! Ты еще полезешь в клетку ко льву и будешь с ним целоваться…
— Ой, нет, нет! Я этих львов и тигров ужасно боюсь! Идем смотреть…
Клетка львов ярко освещена несколькими керосиновыми лампами. В клетке появляется «мадмазель» Ирма. Она одета в такой ослепительный костюм, что поначалу кажется мне самой прекрасной красавицей. На голове ее, на белокурых волосах, сверкает яркий султан из золотых нитей. Все ее платье обшито блестками, свет их дрожит и переливается как река на солнце. Только постепенно я начинаю прозревать, что укротительница не такая уж красавица, каких изображают на конфетных коробках. Под великолепно молодыми белокурыми волосами у нее староватое, в складках и морщинах лицо, желтое, как шафран! Женщина, видимо, больна желтухой. Из сильно открытого платья выглядывают тощие желтые-желтые ключицы, такого же цвета и руки, видные до плеч.
— А и же-о-олтая же немка! — раздается в толпе.
В руках укротительницы, сильных, мускулистых, хлыст, и она щелкает им, словно стреляет. Она не бьет зверей, но, вероятно, они знают вкус этого хлыста, потому что недоверчиво и чуть боязливо косятся на него. Выкрикивая какие-то непонятные короткие слова, вроде «Ап!», «Па!», укротительница заставляет хищников бегать вокруг нее, прыгать сквозь обруч. Ни на одну секунду не спускает она с них глаз и ни на одну секунду не поворачивается к ним спиной. Но бесстрашие ее изумительно! Она треплет косматые головы хищников, таскает их за хвосты, играет с ними, как с котятами.
Наконец наступает «смертный номер»: сняв с головы золотой султан, укротительница обеими руками раскрывает страшную пасть льва Альфреда… Сейчас она вложит в эту пасть свою бесшабашную голову!..
Дальше я уже ничего не вижу: я закрываю глаза и прижимаю их к маминой руке. Я слышу, как в мертвой тишине замирает вся публика — ни звука, ни слова, ни шороха! Затем, словно освободившись от тревоги, зрители аплодируют!
— Не съел! — радостно кричит кто-то рядом с нами.
Я открываю глаза. «Смертный номер» окончен. Сверкая снова надетым золотым султаном, кивая головой на желтой шее, укротительница, уже вышедшая из клетки, раскланивается с публикой.
— Мама… — шепчу я. — Как это было? Я ведь не видела… Я, знаешь, закрыла глаза…
Это я говорю с чувством виноватости: все-таки я трусиха!
— Как это было, мамочка?
И мама отвечает мне шепотом:
— Не знаю. Я тоже закрыла глаза…
Когда мы выходим из зверинца, позади нас — певучий женский голос:
— Ну, станет лев этакие желтые кости глотать, когда ему только что перед тем мало-мало что не десять фунтов мяса отвалили. И какого мяса! Кострец первый сорт!
Домой мы приезжаем вместе с Шабановыми. Они у нас обедают. И Рита и Зоя отлично едят вместе со всеми, без гримас и капризов.
— Леночка! — восхищается. Серафима Павловна. — Ты смотри, как мои девочки у тебя славно кушают! Просто чудо!
— Никакого чуда нет! — кричит папа из другой комнаты. — Просто проголодались дети, и у них появился естественный аппетит… Вы, Серафима Павловна, продержали бы их денек на голодной диете, они бы у вас гвозди ели, без всякой горчицы!
— Бог знает что вы говорите, Яков Ефимович! — смеется и ужасается Серафима Павловна.
Обед проходит весело и оживленно. Только я молчу, словно разучилась говорить. Я молчу и думаю, думаю…
— Пуговка! — снова кричит папа. — Почему я твоего голоса не слышу?
— Не трогайте ее, Яков Ефимович! — И Серафима Павловна ласково гладит меня своей теплой, толстой рукой. — Она все-таки, наверно, испугалась слона… Да, Сашуня?
Ну как мне объяснить, что я уже забыла думать и о слоне и о кофейном старичке из города Бомбея! Все мои мысли, все мои восторги — с укротительницей львов и тигров. Вот это смелость, вот это геройство! Я уж не помню, какой на ней был попугайный наряд, как смешно и жалобно торчали ее тощие, желтые ключицы. Я думаю только о том, что никто из тех, кого я знаю, не полез бы в клетку к диким зверям, где одно лишь неловкое движение укротительницы — и смерть ей! Укротительница Ирма кажется мне ослепительной, прекрасной героиней… Мысли бегут у меня в голове быстрей, чем крупинки соли из солонки, которую я нечаянно опрокинула на колени Серафимы Павловны. В моей душе зреют решения, от которых у меня самой замирает сердце… Я не могу дождаться, когда кончится этот несносный обед!
После обеда взрослые Шабановы уезжают за последними покупками, Рита и Зоя остаются у нас. Мама сидит около папы. Мы, три девочки, забрались с ногами на диван в столовой и сумерничаем.
— Рита… — говорю я неуверенно. — Зоя… Я сейчас скажу вам одну страшную тайну…
— Ой! — И обе девочки с любопытством пододвигаются ко мне. — Честное слово, тайну?
— Да. Но только если вы мне настоящие, самые настоящие друзья! А если нет, не скажу: вы разболтаете.
Зоя и Рита божатся, клянутся («Как я маму люблю!»), крестятся — они настоящие, самые настоящие друзья, они не разболтают.
Меня вдруг осеняет:
— Знаете, что? Мы должны доказать друг другу нашу дружбу! Вот, я читала, Наташа Ростова доказала другой девочке, Соне, свою любовь: она накалила на огне линейку и приложила к руке. Остался знак на всю жизнь! Вот какие они были друзья! Настоящие!
— Ну-у-у… — разочарованно тянет Зоя. — Еще жечься… живьем!
Но Рите этот план нравится. Она только хочет уточнить подробности:
— А чем мы будем жечься? Линейка-то ведь у тебя, наверно, деревянная?
— Деревянная, да.
— Ну, вот видишь… — Зоя рассудительно качает головой. — Одни глупости у тебя в голове… К слону зачем-то полезла… Полоумная!
Но Рита радостно бьет в ладоши:
— Нет, нет! Я придумала!.. Мы положим в ложечку кусок сахару, нагреем его на лампе, а когда сахар закипит, приложим эту жижу к руке. Вот!
План в самом деле такой простой и доступный, что даже Зоя соглашается принять в этом участие. Захватив чайную ложку и кусок сахару, мы бежим в переднюю, где можно растопить сахар, держа ложку над настольной керосиновой лампой.
— Только, чур, ты первая придумала, тебе первой жечься! — говорят они мне.
Очень хорошо! Сейчас я им докажу, что я настоящий друг и мне для друзей ничего не страшно и ничего не жалко!
Мы стоим вокруг лампы, Зоя держит на огне ложку с сахаром.
— Кажется, уже горячо… — говорит она.
— Нет, нет! — азартно возражает Рита. — Сахар должен закипеть! Чтобы от него пар шел!
Наконец сахар закипает, от него идет пар. Я засучиваю левый рукав и храбро прикладываю руку — ниже запястья, тем местом, где мы теперь носим ручные часы, — к кипящей сахарной жиже… В ту же минуту меня пронизывает нестерпимая боль, мне даже чудится, будто запахло горелым мясом! Хочется закричать в голос и отдернуть руку, но я стоически выдерживаю еще несколько секунд. Потом, тихонько застонав, отдергиваю руку.
— Больно тебе? — Зоя чуть не плачет от сочувствия.
— Н-н-нет… Не очень…
Это неправда. Мне так больно, как еще никогда в жизни! Мы разглядываем ранку — слезла кожа, видно что-то красное, рука сразу вспухает.
— Теперь ты, Рита!
Мы снова нагреваем над лампой сахар в ложке. Когда над сахаром показывается легкий пар, Рита прикладывает к горячей жиже руку, но не той стороной, что я, не там, где кожа нежная и чувствительная, а самой загрубелой частью: краем ладони.
— Вовсе не так уж больно! Все ты врешь! — говорит Рита, разглядывая легкое покраснение на месте своего ожога.
— Вот что! — говорит Зоя хмуро. — Больше сахар не разогревайте, потому что я жечься не буду. Не буду, и все!
— Ах, та-ак? — взвизгивает Рита. — Мне — жечься, а ты не хочешь?
— Не хочу!
— Так я маме скажу! — грозится Рита.
— Говори! Мама тебя уложит в постельку и будет тебя две недели лекарствами пичкать: «Ах, бедная Риточка, ручку обожгла!» Ты этого хочешь? — спрашивает Зоя с насмешкой.
Нет, Рита этого, конечно, не хочет.
— Ну, Зойка, подожди ты у меня! — шипит она. — Я тебе это припомню!
Чтобы переменить неприятный разговор, Зоя спрашивает, какую же это тайну я обещала им рассказать.
Я молчу.
— Наверно, глупости какие-нибудь! — подзадоривает меня Рита.
— Да, глупости, — соглашаюсь я.
— А может, серьезное что-нибудь? — допытывается Зоя.
— Да, серьезное… — подтверждаю я снова.
Не могу же я им сказать, что у меня сильно ноет обожженная рука, что мне очень горько их вероломство (обе согласились «доказать дружбу» — и одна чуть дотронулась до горячей жижи, а другая вовсе уклонилась!) и что меня буквально распирает моя тайна: хочется рассказать, а некому!
— Так не расскажешь тайну?
— Нет, — говорю я твердо. — Потому что вы — не настоящие друзья.
Когда Шабановы наконец уезжают в Броварню, я прощаюсь с Ритой и Зоей холодно. Кончена дружба, как отрезана.
Я хочу пойти к папе и рассказать все ему. Но мама говорит, что папа заснул и его не надо будить. Кстати, мама заявляет, что мне тоже надо лечь пораньше — день был очень утомительный. Когда Юзефа укладывает меня спать, она обнаруживает ожог на моей руке и приходит в ужас. Она готова бежать к маме, будить папу, звать доктора Рогова, бить в набат…
— Юзенька, — умоляю я ее, — Юзенька, не поднимай скандала, не пугай папу и маму! Мне совсем не больно.
— Брешешь! От — вся рука вспухла! Матерь божия, и что это за ребенок такой, что это за паскудство такое, почему она, бодай ее, лезет куда не надо!..
Мы сторговываемся на том, что она приложит мне к руке содовый компресс — до утра, а там будет видно. Но тайна моя так и рвется из души!
— Юзенька, я тебе расскажу один большой секрет…
— Разбила что-нибудь? Платок носовой потеряла?
— Да нет же! Юзенька, дорогая, я решила: когда я вырасту большая, я буду укротительницей зверей…
Юзефа понимает это по-своему:
— А чего ж? И умница! Купим с тобой земли кусочек, хату поставим, заведем коня, коровку, свинку, ну, птицу всякую… Свое молочко, свои яички…
Под эти Юзефины мечтания я засыпаю. Сплю я плохо — болит обожженная рука. Засыпаю на короткие минуты, и мне снится все одно и то же: за мной гонится огненный султан укротительницы Ирмы и, догнав, больно впивается мне в руку.
Шрам от этого ожога сохранился у меня на всю жизнь. Еле различимый, виден он на моей руке и сегодня.
Глава одиннадцатая. «Поговорим о геройстве!»
Я все время думаю об укротительнице Ирме. В мире, думается мне, живут два сорта людей. Одни — их, вероятно, очень немного! — как Ирма, не боятся даже львов и тигров. Другие — их большинство — на это не способны. Среди них есть очень хорошие люди, например, такие, как мой папа или Павел Григорьевич. Но все-таки они живут, думаю я, серенькой жизнью: утром встают, моются мылом, чистят зубы порошком, целый день делают свои скучноватые дела (например, папа лечит больных), потом обедают, посыпают суп укропом, помнят, в какой руке надо держать вилку, а в какой нож, потом ужинают и ложатся спать… Нет, я так жить не хочу. Я хочу жить, как укротительница Ирма. Потому что это — настоящая героическая жизнь, полная опасностей и страшных приключений. В общем, укротительница Ирма представляется мне орлицей, а остальные люди — букашками.
С папой мне на следующее утро поговорить об этом не удается — у него полна комната его товарищей, врачей. Все они разглядывают его ногу, и все говорят одно и то же — то, что папа и сам знает: что у него вывих голеностопного сустава и надо полежать. Папе, наверно, скучно это слушать, но что поделаешь? Нельзя же показывать людям, что они надоели своим участием и вниманием!
И подумать только, что еще два дня тому назад я сама мечтала быть когда-нибудь врачом! Нечего сказать, интересное занятие! «Раскройте рот, скажите «а-а-а…», «Дышите, не дышите…», «Что вы ели вчера вечером?», «Какая была утренняя температура?» Неужели мне всерьез хотелось заниматься такой скукой? Да, хотелось. Но золотой султан укротительницы Ирмы заслонил это желание, и ее щелкающий бич перечеркнул все мои серенькие мечты.
Пока папа и мама заняты с врачами, я бегу к Юльке. Вот кому надо рассказать обо всем!
Но у Юльки жизнь оказывается повернутой по-новому, и я успеваю только проститься с нею: ее увозят! Во дворе, у входа в их погреб, стоит ручная тележка, на которую складывают вещи Томашовой… Рыжий Вацек занят этой укладкой и очень озабочен — хоть и мало у них вещей, но надо уложить все так, чтобы не вывалить по дороге, тем более что среди вещей будет сидеть и сама Юлька. В ожидании, пока Вацек кончит укладку вещей в тележку, Юлька, одетая, закутанная в платок, сидит во дворе, на завалинке у одной из дверей, крепко прижимая к себе куклу Зельму-Шельму.
— Переезжаем! — сияет Юлька. — В Ботаническом саду будем жить. Мамця там работать будет.
Оказывается, ресторан, где служит Степан Антонович, переезжает на весну и лето в Городской ботанический сад. Томашова нанялась в ресторан судомойкой. При этом летнем ресторане есть каморка, где можно жить. Юльку будут с утра выносить в сад, и она будет до вечера на воздухе, на солнце, — «помнишь, твой отец говорил мамце, что мне это нужно, — я тогда ходить начну». Но осуществил все это, придумал, устроил, конечно, Степан Антонович.
— Там нам будет хорошо-о-о! — радуется Юлька. — Степан Антонович говорит: там будет у нас много чего кушать! Приходят люди в ресторан, обедают и не все съедают, а хлеб всегда остается и суп тоже… И знаешь, — шепчет мне Юлька, открывая в счастливой улыбке милые передние, зубки, надетые «набекрень», — мамця и Степан Антонович уже решили: они оженятся.
Но вот Вацек окончил укладку вещей. Как раз в эту минуту во двор, как всегда торопливо, почти вбегает Степан Антонович. Он берет Юльку на руки, сажает на тележку меж двух подушек, заботливо подтыкает со всех сторон одеяло, чтоб не дуло.
Вацек берется за ручки тележки…
— Н-ну!.. — говорит он решительно и делает страшное лицо, словно собирается кувырнуть тележку вместе с. Юлькой. Потом он запевает приятным голосом:
Карету скорей!
Гони, брат, живее
Серых лошадей!
Вацек катит «почтовую карету» к воротам на улицу. Между подушками видно счастливое, порозовевшее лицо Юльки. Она машет мне сковородкой.
— Приходи до нас! — кричит она. — В Ботанический сад приходи!
— Счастливо! — машет ей вслед Степан Антонович.
Томашова крепко обнимает меня:
— Скажи, девочка, отцу и тому, другому, молодому, что ходил за Юлькой, когда она была больна… Скажи им, что я, Томашова, — их вечная слуга!
Домой я прихожу невеселая. Вот я и осталась без друзей. Зоя и Рита?.. Об их вероломстве я и вспоминать не хочу. Это не настоящие друзья. А теперь уехала и Юлька…
Дома меня уже дожидается Павел Григорьевич, который пришел заниматься со мной.
Входя, я слышу, как папа говорит Павлу Григорьевичу:
— Смотрите, будьте осторожней. Я вас предупредил…
— Спасибо…
— Не будете вы осторожны, не будете! Знаю я вас! — вздыхает папа.
— А вот и ошиблись: буду!
При моем приходе разговор обрывается.
Папа просит, чтобы урок происходил у него в комнате, так как ему скучно лежать.
— Вот мы вас сейчас повеселим! — обещает Павел Григорьевич.
Ох и веселим же мы папу этим уроком! Вернее, я одна веселю его, потому что Павел Григорьевич только смотрит на меня в сильнейшем удивлении, словно видит меня первый раз в жизни!
Начинаем мы, как обычно, с арифметики. С этой наукой у меня всегда-то не слишком дружественные отношения, но сегодня… На вопросы я отвечаю или неверно, или невпопад. Я не могу решить ни одной самой пустой задачки, и все ответы на примеры у меня ошибочны. Павел Григорьевич наконец не выдерживает:
— Да что с ней сегодня? Какая муха ее укусила?
И тут, словно и вправду меня укусила какая-нибудь из тех противных мух, блестящих, зеленоватых или цвета мыльных пузырей, какие летают летом, я говорю Павлу Григорьевичу — и папе! — что мне совершенно ни к чему заниматься арифметикой, мне не нужна эта арифметика, я прекрасно проживу без всякой арифметики. То, что я собираюсь делать в жизни, не имеет никакого отношения к арифметике, со встречными поездами, с бассейнами и трубами, с купцами, которые купили семьдесят аршин сукна или восемь ящиков мыла…
— А можно у тебя спросить, — очень серьезно говорит папа, — что же это такое ты собираешься делать в жизни? Это не секрет?
— От мамы пока секрет: она взволнуется, заплачет. Ну, понимаешь, женщина… Но от тебя не секрет. И от Павла Григорьевича тоже не секрет. Я бы вам раньше сказала, да тут с утра были твои доктора.
— Так что же ты собираешься делать?
Я не смотрю ни на папу, ни на Павла Григорьевича. Я смотрю мимо них, в пустой угол комнаты, где нечего видеть. Перед моими глазами сверкает золотой султан и переливающееся блестками платье — среди львов и тигров.
— Я хочу, — и, пожалуйста, не отговаривайте меня, это не поможет! — я хочу быть укротительницей диких зверей… — Это я выпаливаю очень твердо.
Папа и Павел Григорьевич не переглядываются, не смеются.
Папа тихонько барабанит пальцами по одеялу.
— Так… А почему, собственно, тебе это хочется?
— Потому что укротительница смелая. Она — герой!
— Смелая? Да, конечно. Даже очень смелая, это я признаю. И восхищаюсь ее смелостью. И всякий признает и восхищается. Но герой? Нет, она не герой.
Я смотрю на папу пораженная — я не понимаю: что он, шутит?
— Укротительница зверей — не герой?
— Нет. Не герой.
— Ой, папа, что ты говоришь! Ты вошел бы в клетку со львами и тиграми?
— Нет. Не вошел бы.
Я торжествую:
— Вот видишь! А говоришь: она не герой! А сам не вошел бы! Значит, боишься?
— Конечно, боюсь. Разве я тебе сказал, что я такой же смелый человек, как эта укротительница? Я этого не говорил. Таких бесстрашных людей, может быть, только одного на тысячи и найдешь. Но ведь кому нужна эта смелость? Зачем укротительница три раза в день входит в клетку с хищниками? Если бы она, рискуя жизнью, спасла этим кого-нибудь — безоружного человека, ребенка, ну, хоть корову, что ли, — это было бы геройство! А так — бросать свое мужество на ветер, на потеху ротозеев… Ну подумай сама: в чем тут геройство?
Павел Григорьевич молчит, но я чувствую, что он тоже согласен с папой.
— Знаете что, друзья мои? — вдруг начинает папа. — Если уж зашел у нас этот разговор, то давайте поговорим о геройстве. Об этом нужно поговорить, нужно… Павел Григорьевич, бог с ней, с арифметикой! Она от нас не уйдет… Вы разрешаете занять урок под этот разговор?
Павел Григорьевич молча кивает.
— Так вот, пусть каждый из нас расскажет о каком-нибудь герое, которого он сам знал. Кто первый? Ты, Леночка?
В пылу разговора я и не заметила, как в комнату вошла мама и слушала все, что мы говорили. Она берет со своего столика небольшую фотографию в рамочке и подает ее мне. Я не понимаю, зачем мама мне это показывает: я отлично знаю эту фотографию и изображенного на ней военного, его грустные глаза и грудь, увешанную орденами и медалями. Под стеклом рамки фотография обклеена бледными, выцветшими засушенными фиалками.
— Знаешь, кто это? — спрашивает мама.
— Конечно! Это мой покойный дедушка…
— Да. И мой отец… — Мама любовно протирает стекло и рамочку. — Видишь, у него на груди четыре «Георгия» — «за храбрость»…
— Ты мне никогда не говорила…
— Думала: подрастешь — скажу.
— А за что дедушке дали это?
— Он был военный врач. Наградили его в турецкую кампанию — с турками мы тогда воевали… И в приказе военного командования было сказано: «Наградить штабс-лекаря (врачей тогда лекарями звали) Семена Михайловича Яблонкина за самоотверженную подачу помощи раненым под сильным огнем неприятеля». И так четыре раза — после четырех сражений — награждали моего папу, твоего дедушку!
— «Под сильным огнем неприятеля»? — переспрашиваю я. — Это что значит?
— А то, — поясняет папа, — неприятель палил из пушек, раненые падали, а дедушка твой не сидел поодаль в безопасности, не ждал, пока их принесут к нему. Он был хирург, и знал, что важно оказать раненому помощь как можно скорее. Он лез в самый огонь, выносил раненых из боя, перевязывал их тут же, на месте… Смелый был человек дедушка твой Семен Михайлович и герой: сотни жизней спас! Не о себе думал — о людях…
Проходит несколько секунд молчания. Потом я говорю, ни к кому не обращаясь:
— Я вчера руку растопленным сахаром прижгла… Я хотела Рите и Зое свою дружбу доказать… Это глупо, да?
— Очень, — подтверждает папа. — Павел Григорьевич, дорогой, поглядите, что у этой дурынды на руке.
Пока Павел Григорьевич снимает Юзефин бинт, очищает ранку и присыпает ее ксероформом (очень вонючее сухое лекарство!), я вспоминаю:
— Папа, а ты когда-нибудь видел героя?
— А как же! Вот недалеко вспоминать — три дня тому назад к нам в госпиталь обожженного человека привезли. Пожарного, топорника. Трех человек из горящего дома вынес. И тогда вдруг оказалось, что в запертой квартире осталось двое ребят. Дом уже весь пламенем охватило, вот-вот рухнет… Пожарный снова полез в дом, нашел детей — они почти уже задохлись. Выбраться с ними было трудно — внутренняя лестница уже обвалилась, — пожарный выбросил детей из окна, а внизу люди их на тюфяк подхватили. А вслед за детьми и пожарный выбросился. Очень тяжелые ожоги у него, не знаю, выживет ли… Вы к нему сегодня в госпитале заходили, Павел Григорьевич?
— Заходил, конечно. Немного получше ему, но положение очень тяжелое…
— Что ж? — обращается папа ко мне. — Вот тебе герой, которого я видел три дня тому назад. Не герой, нет?
— Герой… — соглашаюсь я тихонько. — Герой, да… А вы, Павел Григорьевич, вы когда-нибудь видели? Сами, своими глазами живого героя, да?
Павел Григорьевич отвечает не сразу. Он словно и не слыхал моего вопроса. Глаза его смотрят поверх наших голов, лицо задумчиво и строго.
— Ты спрашиваешь (он уже давно не говорит мне «вы»), видел ли я героев? Ох и как много! Я расскажу тебе только о троих. Они погибли на моих глазах. И любил я их больше, чем всех других, и помню их всегда…
С чего же бы это мне начать? Давай с самого простого. Ночью, часа этак в три, в квартире раздается звонок. Когда ночью звонят к вам, никто не беспокоится: ясно, пришли звать Якова Ефимовича к больному, так? Но когда в Петербурге звонят ночью в квартиру, где хозяйка сдает комнату студенту (а студент этот — я), это тревожно! Хозяйка квартиры спрашивает через запертую дверь: «Кто там?» — и чей-то голос отвечает: «Телеграмма»… А это уже совсем плохо! Это значит: пришли с обыском.
Хозяйка отпирает, и ко мне вваливаются околоточный, городовые, дворники. Топот в комнате, как на свадьбе! Нижние жильцы сердито стучат ко мне в пол: «Спать не даете!»
А свадьба в моей комнате пышная, жаль, плясать некому! Правда, не «с генералом» свадьба, а только с жандармским офицером, но все-таки веселье — пыль столбом! По всему полу раскиданы мои вещи и книги, постель перерыта, тюфяк вспорот, обои со стен содраны, приподняты половицы… Старались, не гуляли!
Старания полиции оказываются не напрасными: у меня найдена революционная литература. «Следуйте за нами!» И вот я уже заперт в петербургской тюрьме, которая называется «Кресты»…
Тут давай, Сашенька, пропустим несколько страниц. Тюрьма как тюрьма, об этом я тебе расскажу в другой раз. Сижу я в ней довольно долго, пока в один непрелестный день выходит решение моей судьбы: сослать Розанова Павла Григорьевича на пять лет в Среднеколымск, Якутской области.
Что такое Среднеколымск? Об этом мы, ссылаемые туда, знали гораздо меньше, чем, например, о каком-нибудь Рио-де-Жанейро. Да что — мы! Не знало об этом даже правительство. Мать одного из ссылаемых добилась в Петербурге приема у какого-то высокого начальника и спросила у него, что такое Среднеколымск. Начальник этот ответил ей с любезной улыбкой:
— «О Среднеколымске нам, сударыня, известно только одно: что там людям жить невозможно. — И добавил уже без улыбки: — Поэтому-то мы и ссылаем туда революционеров».
И вот мы, группа из нескольких десятков ссыльных, идем из Петербурга в Якутск. Идем по этапу, то есть почти исключительно пешком. Путь не близкий, десять — пятнадцать тысяч верст… Мы идем и смотрим не на небо, не на то, мимо чего лежит наш путь, а под ноги себе. Под ногами у нас зимой — снег, летом — пыль и песок, осенью и весной мы месим ногами такую грязь, такую раскисшую глину, что порою наше пешее следование на время прерывается — в ожидании, пока дороги подмерзнут или, наоборот, высохнут. Рядом с нами едут телеги — «фуры» — с нашими вещами. Заболевшим или вконец измученным ссыльным иногда разрешается присесть на такую фуру. Так идем мы не дни, а месяцы, много месяцев, почти год…
Дошагаем до какого-нибудь города — нас размещают в местной тюрьме. Грязь, вонь, холод, клопы, а все-таки хоть крыша над головой, хоть отдых ноющим от ходьбы ногам… Отдохнем в этом райском уголке — нас гонят дальше, шагаем снова до следующего города, до следующей тюрьмы.
На фурах ехали рядом с нами не только вещи, на них следовали за мужьями в ссылку жены с детьми, невесты… Вот когда я понял, какое чудо, какая радость — дети! Наверное, никто так не радуется детям, как ссыльный революционер, шагающий по этапу! Ты только вообрази: снег, мороз, грязь, дождь, размытая глина, по которой разъезжаются, ноги, загаженные тюремные нары с клопами, хамство и ругань конвойных, а весной по обочинам дороги из-под тающего снега возникают человеческие трупы беглых и бродяг, и называются эти трупы страшным именем «подснежники»… Ну как тут не лепиться сердцем к едущим на фурах детям, как не смотреть в их ясные глаза, как не отогреваться милой чистотой этих глаз! Возьму, бывало, на руки которого-нибудь из ребятенков, — мать не хочет давать: «Вам и без него тяжело шагать!»
Запахну его в свою шубу, прижму к себе тепло-тепло… Иду и думаю:
«Когда мы победим — а мы победим! — когда мы будем строить новый мир — а мы его построим! — тогда самое драгоценное богатство наше будут дети и им — самая щедрая наша забота…»
Павел Григорьевич ненадолго замолкает. Он — не с нами, он далеко в прошлом, он несет по снежной дороге ребенка и думает о будущем.
— Тебе хочется услышать про героев? Потерпи, скоро будут и герои. А пока — о друзьях, о тех, кого я полюбил больше всех.
Первый из них — Зотов. Коля Зотов… Вот был парень! Студент, как и я, веселый, шутник, придумщик! Пригонят нас, бывало, в какой-нибудь город, запрут в нетопленой, насквозь выстуженной тюрьме, — нет, мол, дров, и баста! Но не пройдет и получаса, как Коля Зотов, подбив товарищей, с песнями лихо разбирает деревянные тюремные нары, топит печь, — тепло, весело. За таким парнем хоть на луну пойдешь, не оглянешься! С Колей Зотовым следовала в ссылку его невеста Женя, такая же революционерка, такая же сосланная, как он. Все мы полюбили ее, как родную.
Вторым другом был Альберт Львович Гаусман. Взглянешь в его глаза, ласковые, теплые, заботливые, — и на душе как-то светлее. Альберт Львович Гаусман был среди нас одним из самых образованных. Каждую свободную минуту, иногда в самой неожиданной, неподходящей обстановке — на этапе, в пересыльной тюрьме, — Гаусман доставал книгу и говорил фразу, которую ему в детстве говаривал каждый день его учитель: «Открой книгу на том месте, где ты вчера заложил закладку, и читай дальше»! Мы, молодые, получили от Альберта Львовича очень много. «Читать, хлопцы, читать! — говорил он нам, — Революционер должен быть самым образованным человеком!»
За Гаусманом следовали в ссылку жена с дочуркой Наденькой.
И третьего друга-товарища запомнил я на всю жизнь: Льва Матвеевича Когана-Бернштейна. С виду совсем молодой, с чуть сонными глазами, с детским складом слегка оттопыренных добрых губ. Но выскажи неправильную мысль — и Коган-Бернштейн налетит на тебя, как коршун, перья полетят! А через минуту снова весело смеется над шутками Коли Зотова, играет со своим сынишкой Митюшкой. И не поверишь, что у этого молодого человека за плечами уже более пяти лет тюрьмы, что его уже ссылали в Сибирь, сдавали в солдаты за революционную работу! Так вот и шли мы по дорогам и трактам — от Петербурга до Якутска — почти целый год!
— И все время пешком? — с ужасом спрашивает мама.
— Да, почти все время… Ну конечно, через реки — через Волгу, Обь, Енисей — пешком не пройдешь, тут нас перевозили на особых баржах. Иногда удавалось делать небольшие перегоны и по железной дороге. Но короткие. И не часто.
Ну вот, прибыли мы наконец в Якутск. Разрешили нам поселиться на вольных квартирах. Ожили — обрадовались чистоте, человеческому жилью, возможности дать отдых истерзанным ногам…
— Но ведь вы могли убежать! — удивляется папа.
Павел Григорьевич покачал головой:
— Нет, не могли… Оттуда убежать можно только на верную смерть в непроходимых лесах, болотах… Оттуда поистине «хоть три года скачи — ни до какого государства не доскачешь», не добежишь, не доползешь!
Надеялись мы, что нам разрешат пожить в Якутске хоть месяц, два. Ведь нам предстояло шагать еще дальше — больше двух тысяч верст, то есть не меньше двух с половиной месяцев! Надо было также закупить в Якутске полушубки, пимы, белье. Этот последний отрезок пути — от Якутска до Среднеколымска — пролегал по местам почти ненаселенным. Надо было взять с собою из Якутска на каждого из нас по два с половиной пуда хлеба, сколько-то мяса, масла, кирпичного чаю, сахару и по столько же на каждого из наших конвойных: кормить их в пути любезно предоставляли нам.
Однако нам не разрешили ни задержаться в Якутске, ни сделать те покупки, без которых нас ожидала в пути верная смерть! Через несколько дней объявили, что нас отправляют дальше.
Что было делать? Мы решили подать якутскому губернатору Осташкину заявление: так, мол, и так, — если отправка наша не будет отсрочена, то мы (в особенности женщины и дети) не доедем до места назначения: погибнем в пути от голода и холода.
«Зря мы подаем это прошение, товарищи!.. — говорил Коля Зотов. — Зря кланяемся губернатору!.. Я мальчишкой в Крыму тем баловался, что поймаю, бывало, змею и вырву у нее ядовитые зубы! Так вот верьте мне: царский губернатор — это такая змея, у которой зубов все равно не вырвешь!»
Против подачи прошения губернатору возражали и Гаусман и Коган-Бернштейн, хотя за обоими следовали жены и дети. Они тоже считали, что никаких результатов, кроме унижения, это обращение к губернатору не даст.
Однако бумагу мы все-таки подали — уж очень было жаль женщин и детей!
Правы оказались наши товарищи — зря подали мы прошение: губернатору не было жалко ни женщин, ни детей… Он приказал передать нам, ссыльным, что ответ мы получим от него на следующий день. Пусть, мол, все ссыльные соберутся у кого-нибудь одного, туда и будет послан ответ.
Тревожно было на душе у всех нас… Но того, что случилось на следующий день, никто даже и предвидеть не мог!
Мы собрались на квартире у одного из ссыльных. Нам приказали выйти всем во двор перед домом и ждать ответа там. И тут пришел ответ! Вооруженный отряд под командой двух офицеров налетел на нас и стал в нас, безоружных, стрелять. Шестеро ссыльных были убиты на месте, многие были ранены. Нет, неверно я сказал — не все мы были безоружны: кое у кого оказалось оружие, они отстреливались яростно, но, к сожалению, неудачно…
Всех оставшихся в живых погнали в тюрьму, раненых — в тюремную больницу. Среди них был Коган-Бернштейн, которому прострелили ногу. В ту же ночь в тюремной больнице скончалась одна из ссыльных женщин, получившая тяжелую штыковую рану в живот.
Из Петербурга прислали приказ: судить нас за «бунт» со всей строгостью — военным судом.
А в чем был «бунт»? Мы просили отсрочить наш отъезд! Суд был — одна комедия… Людей судили на основании лживых показаний полупьяных тюремщиков. Почти все мы получили удлинение срока ссылки. А трех человек приговорили к смертной казни через повешение: Гаусмана, Когана-Бернштейна и… Колю Зотова.
Павел Григорьевич, помолчав, продолжает с болью:
— Ночью под окнами наших тюремных камер начали строить виселицу. Маленькой дочке Гаусмана, Наденьке, нездоровилось, она капризничала и плакала:
«Мама! Скажи, чтобы перестали стучать…»
А Митюшка, сынок Когана-Бернштейна, спал, как наигравшийся котенок, и ничего не слышал…
Утром я зашел в камеру Гаусмана. Он посмотрел на меня своими удивительно добрыми глазами, улыбнулся и сказал:
«Ну, вспомним в последний раз завет старого учителя моего детства… „Вынь закладку из книги там, где ты заложил ее вчера, — и закрой книгу. Навсегда“… А вы, молодые, помните: учиться и учиться!»
Мы крепко обнялись. Молча. Без слов.
В ночь на восьмое августа их повесили. Мы стояли у окон наших камер и смотрели на них — в последний раз. И каждый из них поклонился нашим окнам в последний раз. Когана-Бернштейна несли к виселице на кровати: прострелянная нога еще не зажила, и он не мог ходить. Кровать поставили под виселицей, и Когана-Бернштейна приподняли, чтобы продеть его голову в петлю.
— И вы смотрели на это? — спрашивает мама шепотом.
— Да. Смотрели. Чтобы запомнить. Чтобы никогда не забывать…
— Как страшно, господи!.. — Это вырывается у мамы, как вздох.
— Так страшно, что даже тюремщики наши не остались безучастными к этой зверской расправе! — говорит Павел Григорьевич. — Смотритель тюрьмы Николаев, здоровенный мужчина, вошел после казни в одну из наших камер, вошел как-то боком, он шатался, как пьяный, и рухнул на пол. Мы думали: что такое с ним? Это был обморок…
Ну, теперь осталось досказать последнее… Я прочитаю вам (правда, на память, — уж вы простите, если будут какие-нибудь мелкие неточности) отрывки из тех писем, которые эти люди написали перед казнью… Я помню их наизусть.
Лев Матвеевич Коган-Бернштейн написал нам, своим товарищам: «Простимся заочно, дорогие друзья и товарищи, и пусть наше последнее прощание будет озарено надеждой на лучшее будущее нашей бедной, бедной, горячо любимой родины… Оставьте мертвых мертвецам, — кто знает, может быть, вы доживете до той счастливой минуты, когда освобожденная родина вместе с вами отпразднует великий праздник свободы!.. Тогда, друзья, помяните добрым словом и нас… Что до меня, то я умру на том месте, на котором в наше время пристойно умирать честному человеку. Я умру с чистой совестью и с сознанием, что до конца оставался верен своему долгу и своим убеждениям… А может ли быть лучшая, более счастливая смерть?»
Павел Григорьевич молчит, но мы все смотрим на него, все ждем, не расскажет ли он еще чего-нибудь. И он в самом деле продолжает:
— Это были железные, несокрушимые люди. Они умерли, не дрогнув, как настоящие революционеры… А как нежно писали своим родным! Коля Зотов оставил письмо отцу: «Папа, дорогой мой папа, обними меня, прости меня, в чем я был неправ, поцелуй меня! Ты самый дорогой, мой папа! Не у многих есть такие отцы-друзья, такие папы!.. Поклонись от меня могилке мамы!»
Невесте своей, Жене, Коля Зотов письма не оставил: все слова любви и ласки, какие перед смертью можно сказать любимой девушке, товарищу, революционерке, он сказал ей устно в последние часы, которые им разрешили провести вместе.
А Коган-Бернштейн написал письмо своему маленькому сыну, где называл его: «Дорогой мой, родной, голубенький сынишка Митюшка»… Ну вот… Все!
Помолчав, Павел Григорьевич добавляет:
— Всем нам, оставшимся в живых, разрешили купить теплую одежду и продукты… Все-таки разрешили…
Я подхожу к нему, беру его за руку. Смотрю на него, словно в первый раз вижу!
— Павел Григорьевич… — бормочу я. — Ох, Павел Григорьевич…
Папа всматривается в меня:
— Пуговка! Ты не плачешь?
— Нет. Не плачу.
Сейчас, вспоминая свое детство, я не могу вспомнить, чтобы после этого случая папа хоть раз сказал мне: «Ненавижу плакс!» Рассказ Павла Григорьевича, словно горячее дыхание костра, навсегда опалил мое сердце и высушил дешевые слезы ребячьих обид, пустяковых огорчений…
Глава двенадцатая. «Поль». Юлькино новоселье
С этого памятного дня я заболеваю мечтой о геройстве!
Теперь, более шестидесяти лет спустя, я уже очень хорошо знаю, что в детстве и юности это болезнь — почти неизбежная. Как корь! Но у одних она проходит, даже бесследно проходит: уголок души, где жила тяга к героическому, с годами зарастает, как тот «родничок» на темени у грудных детей, — мяконький пятачок между черепными костями, — где, дотронувшись рукой, ощущаешь, как под пальцами бьется пульс. К годовалому возрасту этот «родничок» на голове обычно затвердевает, закостеневает, как и весь череп. Вот совершенно так же зарастает с возрастом у юных людей и «родничок» героики в душе. Но, вероятно, у всякого человека сохраняется на всю жизнь память о том, как в детстве и юности его манила мечта совершить что-нибудь прекрасное, героическое — подвиг! Ну, если не самому совершить, то хоть увидеть, как это делают другие. Хоть услышать о чьем-нибудь подвиге, хоть прочитать в книге о том, как совершают подвиги те редкие люди, которые сохраняют в душе «родничок» героики навсегда, до самой смерти!
После памятного разговора о героическом — о дедушке Семене Михайловиче, о пожарном, спасшем людей из огня, — и в особенности после рассказа Павла Григорьевича о героях-революционерах — «родничок» героики в моей душе начинает бурлить, как ручей, размытый ливнем. Я с утра до вечера только о том и мечтаю, как бы мне заступиться за кого-нибудь, кого обижают, или спасти кого-нибудь, кто погибает…
Мне, конечно, хочется быть всем сразу: и врачом на поле боя, и пожарным среди пламени и дыма, и в особенности — революционером!
Мама читает мне вслух из «Войны и мира» не только о Пете Ростове, о котором я читала в моей синенькой книжечке, но и о других героях, о боях и сражениях с Наполеоном. Еще читает мне мама вслух из книги, которой ее наградили, когда она кончила гимназию: «Записки о севастопольской обороне»… У меня мурашки бегают по спине, когда я слышу, как однажды адмирал Нахимов, защитник Севастополя, прибыл на береговые позиции. Его надо было проводить в какое-то место, и это хотели сделать так, чтобы он шел под укрытием, в глубоких траншеях. Но Нахимов насупился и сказал своим провожатым: «Вы что, в первый раз меня видите? Так извольте запомнить: я Нахимов-с! И по трущобам не хожу-с!» И пошел, выпрямившись во весь рост, со спокойно и уверенно поднятой головой. А кругом падали снаряды, свистели пули…
Папа рассказывает мне много о героях науки. О том, как наука боролась против религии, как религия старалась задушить науку. Религия доказывала, что наука не нужна человеку: знает все один бог, а человек должен лишь верить в бога и молиться ему. Папа рассказывает, как католические священники и монахи преследовали итальянского ученого Джордано Бруно. За то, что Джордано Бруно утверждал: Земля вертится вокруг Солнца, а не наоборот, как учила религия, смелого ученого сожгли живым на костре.
Я не только слушаю то, что мне читают и рассказывают, — я читаю сама, читаю запоем, с жадностью. Почти ежедневно я беру новые книги в библиотеке, куда меня записала мама. Читаю все, что попадается под руку дома из книг мамы и папы. Они сердятся на меня за это, но я не могу удержаться! Все это, как хворост, брошенный в костер, поддерживает и разжигает во мне героические мечты. В это время в нашу семью входит новый человек.
Для того чтобы я научилась французскому языку, мама приглашает приходящую учительницу, француженку мадемуазель Полину Пикар.
Мадемуазель Полина Пикар не хочет быть приходящей учительницей: она предлагает заниматься со мной по-французски три часа ежедневно за стол и комнату. Мама на это соглашается.
Юзефа относится к этой затее резко враждебно:
— Немкиня! Французинка! Нужны они нам, как нарыв в пупке… У ребенка голова, а не бочка! Лопнет голова — от помяните Юзефино слово!
Когда Юзефа впервые видит француженку Полину Пикар, она уходит на кухню и там яростно сплевывает:
— Сухой компот!
Надо признать, что это очень метко. Полина Пикар удивительно напоминает сухие фрукты для компота: сморщенные вишни и чернослив, свернувшиеся спиралью тонкие полоски яблока, чуть ссохшуюся курагу. Но так же, как сухие фрукты при варке компота разглаживаются, наливаются соком, так и Полина Пикар, стоит ей только почувствовать себя уютно, становится совсем другой! Черные глазки ее блестят, зубы весело скалятся, нос задорно и насмешливо двигается, как у кролика, и вся Полина Пикар становится удивительно милой!
Вскоре она перебирается к нам. Вещей у нее оказывается совсем немного — один чемодан. Но зато у нее есть то, что она сразу представляет Юзефе:
— Моя семейства!
«Семейства» Полины Пикар — это, во-первых, большая пальма, высокая, раскидистая, очень хорошо ухоженная. Полина Пикар вырастила ее из посаженной много лет назад в землю финиковой косточки. А во-вторых, — маленький попугайчик, которого зовут Кики. Попугайчик — пожилой, тихий, голоса не подает. Он тусклого, блеклого серо-зеленого цвета и слепой на один глаз: на этом глазу у него катаракта. У людей такую слепоту оперируют легко — мой дядя Гриша, врач-окулист, делает это ежедневно, — но у птиц это невозможно, потому что, объясняет Полина Пикар, у врачей нет таких крохотных инструментов, годных для маленьких птичьих глаз. Из-за слепоты попугайчик Кики держит головку как-то странно, словно ему продуло шею, — это оттого, что он поворачивается ко всему своим зрячим глазом. Живет он в комнате на свободе, перелетая, куда хочет, — все в пределах этой одной комнаты. Когда его хозяйка зачем-либо выходит, она поет попугайчику первую фразу «Марсельезы»: «Вперед, вперед, сыны отчизны!» И Кики послушно влетает в свою клетку в углу комнаты.
В первый же день я узнаю от Полины Пикар, что у нее есть брат-близнец, которого назвали при рождении Поль. Но впоследствии оказалось, что Поль — нежный и робкий, как девочка, в то время как Полина — озорная и смелая, как мальчишка. Поэтому родные стали звать Поля — Полиной, а Полину — Полем.
— Если ты мне понравишься, — говорит Полина, — я позволю тебе называть меня «Поль». А тебя зовут «Саш»? Это мне очень удобно: мою любимую воспитанницу звали «Маш»… Теперь она уже замужем!..
Я влюбляюсь в Полину Пикар с первого часа: все у нее — не как у всех людей! У нее есть зонтик, который одновременно и стульчик. Есть у нее и мандолина. Играть на ней Полина не умеет, но когда она проводит рукой по струнам, то дрожащий, переливающийся звук напоминает ей родину — у них это очень распространенный инструмент. На дне чемодана лежат книги Полины, но не божественные, как у Цецильхен (и про Абрахама и бога Полина тоже никогда не говорит!).
— Я тебе почитаю из этих книжек, — говорит Полина. — Это стихи. Человек должен любить стихи, если он — не верблюд и не корова…
Потом она рассказывает мне разные удивительные истории. У нее нет родителей, они умерли в раннем ее детстве, она их даже не помнит. Полину и Поля вырастили две старые тетушки: Анни и Мари. Но так как («Ты понимаешь, Саш, не правда ли?») каждый человек хочет иметь маму и папу, то Поль и Полина называли тетушку Мари мамой, а тетушку Анни — папой. Теперь и мама-Мари и папа-Анни уже умерли…
Но когда оказывается, что Полина в детстве пошла в снежную бурю искать в горах, заблудившегося Поля, нашла его и вместе с ним еле добралась потом до дому, где обе тетушки — тетушка-мама и тетушка-папа — совсем ошалели от страха, тут, конечно, мое сердце завоевано Полиной окончательно! Вот какой она герой, эта компотная старушка!
Затем Полина неожиданно меняет тему разговора, и я чуть не теряю возможность добиться ее расположения.
— Скажи, пожалуйста, Саш, кто чистит твою обувь?
— Юзефа. Моя няня.
— И платье, да?
— Да. И платье.
— А кто пришивает тебе пуговицы, штопает чулки? Тоже Жозефин? (Так Полина называет Юзефу.)
— Нет. Это делает мама.
— А кто стелет твою постель? Кто моет тебе спину в ванне?
— Тоже мама… или Юзефа…
Полина смотрит на меня с отвращением:
— Это ужасно! Это стыдно! Человек должен все делать для себя сам. Иначе он не человек, а глупая кукла… Пойдем!
Полина заставляет меня тут же принести ваксу, щетки и при ней, на ее глазах, вычистить мои черные ботинки. Это очень трудно. Щетки выскальзывают из рук, ботинки падают на пол, но Полина очень терпелива и подбадривает меня:
— Ничего, ничего… Никто не рождается с умными руками. У тебя они еще глуповатые, но не беда, поумнеют…
Потом я чищу платяной щеткой свое пальто, которое висит в передней. Конечно, я сразу отрываю вешалку, и Полина заставляет меня ее пришить.
Юзефа демонстративно уходит в кухню. Слышно, как она там бубнит:
— Обрыдливо мне на это глядеть!
Но я очень довольна! Правда, пальто и ботинки вычищены, вероятно, не бог весть как и руки у меня в ваксе, немножко ваксы попало каким-то образом на щеку, но все-таки я начинаю входить во вкус самостоятельности, самообслуживания. Я очень стараюсь, Полина поощрительно гладит меня по голове.
А когда вечером я рассказываю ей, что я буду врачом, или пожарным, или еще кем-нибудь, кто нужен людям, Полина кладет мне руку на плечо и зовет:
— Кики!
Кики немедленно прилетает и садится на другое мое плечо. Повернув голову, он очень серьезно смотрит на меня своим единственным зрячим глазом.
— Кажется, ты хорошая девочка, Саш… Я буду тебя любить. И Кики тоже будет тебя любить… Можешь называть меня «Поль» и говорить мне «ты»…
Милый Поль! Сколько она знает замечательных героических историй своего народа! Она рассказывает мне о рыцаре Роланде. Враги предали его, и он оказался с горсточкой своих воинов в Ронсевальском ущелье, где на них напали враги. Роланд и его воины дрались, как львы, но врагов было гораздо больше, они были сильнее. Трижды трубил Роланд в свой рог «Олифант» и все надеялся, что король услышит звук его рога и пришлет подмогу. Роланд трубил с такой силой, с таким напряжением, что кровь хлынула у него из носа и ушей, но король не услыхал. Роланд продолжал биться с врагами, и, только смертельно раненный, чувствуя, что конец его близок, он раздробил свою шпагу о камни — не доставайся врагу! — и погиб вместе со всеми своими воинами.
И еще рассказывает мне Поль о Жанне д’Арк. Она была простая французская пастушка из деревни Домреми. Когда на Францию напали англичане, Жанна д’Арк повела французские войска в бой, они разбили врагов и изгнали их из Франции. Сама Жанна умерла геройски — ее сожгли на костре, — но она спасла свою страну и свой народ!
Есть только одна вещь — я не делюсь ею даже с Полем: это история, которую рассказывал нам Павел Григорьевич. Папа мне сказал, что я не должна никому говорить об этом, чтобы не наделать неприятностей Павлу Григорьевичу.
— Знаешь что, Поль? — говорю я как-то вечером, когда обе мы лежим в своих постелях и Поль уже потушила лампу. — Знаешь, все-таки очень грустно, что я не могу сделать ничего геройского!..
Поль ворчливо напоминает мне, что я все еще очень неуклюже мою перед сном собственные ноги — опрокидываю таз, плохо вытираю ноги полотенцем.
— Вот что значит привычка, чтоб твоя няня все еще чуть ли не пеленала тебя!
Я молчу. Поль, конечно, права. Но все-таки…
— Поль, а сколько лет было тебе, когда ты спасла своего брата в горах… во время снежной бури?
— Допустим, мне было тогда столько лет, сколько теперь тебе, — ну, что из этого? У тебя нет брата, ты живешь в местности, где нет гор, и здесь не бывает снежных ураганов!
Да, это тоже правда, конечно. Но все-таки…
— Вот что я тебе скажу, дурачок! — Поль говорит очень серьезно. — Не ходи по улицам с таким лицом, будто ты ищешь, где тот костер, на котором тебя могут сжечь, или где тот ребенок, которого ты можешь выловить из реки! На кострах сейчас никого не сжигают, а плавать ты ведь не умеешь?
— Не умею…
Поль тихонько смеется:
— Надо начинать с малого. Маленькое геройство — думаешь, это легко? Например, у тебя болят зубы или живот, или тебя ужалила оса, или даже просто у тебя тесные ботинки, жмут… Можно захныкать и испортить всем настроение, а ты улыбайся! Думаешь, это пустяк? О-ля-ля! Попробуй!
— Ну, такое… — фыркаю я с пренебрежением.
— А что, слишком легко? Ты хочешь потруднее? Так исполняй свой долг — это самое трудное в жизни. У нас, французов, есть поговорка: «Делай что должен, и будь что будет!» Этому человек учится смолоду, даже с детства, — начинает с малых дел и доходит до подвига. Пожарный выносит людей из огня — он исполняет свой долг. Твой дедушка перевязывал раненых под выстрелами — он тоже исполнял свой долг… В общем, вот тебе мое последнее слово: по дороге на костер смотри себе под ноги — не толкни старую женщину, не урони на землю ребенка, не отдави лапу собаке… Поняла? Ну, спать, спать, спать!
Я слышу скрип матрацных пружин: Поль повернулась лицом к стене.
На следующее утро Поль уходит — по утрам она дает уроки в городе. Приходит Павел Григорьевич, мы занимаемся, а после урока он предлагает мне идти с ним в Ботанический сад — искать Юльку. Я шумно радуюсь — я не видала Юльку с тех пор, как они переехали, да и Павел Григорьевич в последнее время все занят, не ходит со мной гулять после уроков, и я без него очень соскучилась. Двойная радость: с Павлом Григорьевичем — к Юльке!
Ботанический сад — очень красивый, тенистый городской сад, но почему его прозвали «Ботаническим», никому не известно. Жители нашего города называют его сокращенно «Ботаникой»: «Пойдем в Ботанику», «В Ботанике сегодня гулянье с музыкой!» Никакой ученой ботаники, никаких растений, ни редкостных, ни даже самых обыкновенных, в Ботаническом саду нет. В нем растут одни только каштановые деревья, очень старые, огромные, разросшиеся так густо, что каждое дерево похоже на корабль. Весной каштановые деревья цветут: их покрывают сотни, тысячи цветочных гроздьев, но не висячих, а стоящих прямо, тянущихся вверх, как зажженные свечи на рождественских елках. Осенью на этих деревьях созревают каштаны. Есть их нельзя, они несъедобные, но красивы они удивительно! Каждый плод каштана заключен в зеленую коробочку — кожуру, утыканную мелкими, мягкими, неколющимися иголочками. Созревшие каштаны падают с деревьев на землю, при этом зеленые их коробочки лопаются. В каждой коробочке лежат один-два каштана, крупных, влажных, матовых, как лошадиные глаза. Падая и разбиваясь о землю, коробочки каштанов издают глухой звук, словно где-то далеко-далеко стреляют из пушек.
Мы с Павлом Григорьевичем обходим весь сад, все аллеи, все дорожки — Юльки нигде не видно!
Тогда мы выходим на реку. Юркая извилистая речка Вилейка огибает сад, делая около него петлю, перед тем как впасть в реку Вилию. Между садом и рекой тянется песчаная береговая отмель. Здесь, среди беспорядочно растущих кустов, ветел и ив, сорной травы, брошенного кое-где хлама, полулежит неподалеку от воды Юлька на разостланном под ней одеяле. С нею — Зельма-Шельма. Юлька загорела, порозовела, Зельма-Шельма слиняла на солнце. Обеим это на пользу: Юлька выглядит поздоровевшей, а Зельма-Шельма как бы возмужала и повзрослела. У нее уже не прежнее безмятежно-глупое розовое лицо, которое ничего не выражало. Теперь она имеет вид постаревший, усталый, словно долго шла пешком или очень огорчена чем-то. Хочется спросить у нее, как у человека: «Где ты была? Что с тобой случилось? Что ты видела нового?»
Юлька радуется нашему приходу чуть не до слез. Взяв мою руку и руку Павла Григорьевича, прикладывает их к своим щекам. Она усаживает нас рядом с собой на одеяло и спешит выложить нам все свои новости.
Прежде всего — вот: река! Юлька никогда прежде не видела реки. И какая река! То она золотая, то она серебряная, то — в плохую погоду — она словно подергивается гусиной кожей… А кругом что растет! Смотрите!
Юлька видит это тоже в первый раз в жизни.
— Тут есть травинки — смотри, смотри, Сашенька, — такие нежные, как шелк, ими можно было бы вышивать! И есть вон там, — Юлька боязливо показывает на заросли крапивы, — злая трава, жжется, как огонь! А это — видишь? — травка, с нее свисают шарики, похожие на капельки воды…
— Это называется «божьи слезки», — объясняю я.
— А вокруг — лопухи. Видишь, сколько?
Когда солнце начинает слишком припекать, Юлька срывает несколько листьев лопуха, скрепляет их прутиками — это ее Степан Антонович научил! — и пожалуйста: это зеленая шляпа! Или зонтик! Радостно смеясь, Юлька показывает нам свою лопуховую шляпу-зонтик.
— И, знаешь, эта шляпа по нескольку дней не вянет!
С восхищением показывает мне Юлька чистотел с желтыми цветочками. Из надломленных его стеблей выступают густые капли желтого сока. Степан Антонович говорит, что чистотел начисто сводит бородавки. Только ни у него, ни у мамци, ни у Юльки нет бородавок.
— У тебя есть бородавки, Сашенька?
— Нет… — говорю я с огорчением.
Так было бы интересно мазать бородавку чистотелом, пока она не сойдет!
Живут они с мамцей, рассказывает Юлька, чудно! Им дали комнатку с окном! Еды вволю: и хлеб, и суп, и мясо из супа. Бывают в ресторане такие посетители, что даже вот по этакому куску пирожного оставляют, не доевши! Лакеи в ресторане — хорошие люди. Они очень уважают Степана Антоновича и к мамце тоже хорошо относятся. Некоторые из них даже сами отдают мамце для Юльки то, что остается от посетителей на тарелках! Не все, конечно, так делают, только холостые. Потому что у кого дома свои дети есть, сама понимаешь, они, конечно, о своих детях думают. А старший повар дал на днях мамце для Юльки пирожок: (Юлька произносит «пуружок»). Вкусный!
Юлька перескакивает с предмета на предмет — ведь мы давно не виделись, почти целую неделю, накопилось много новостей.
— Ох, совсем забыла! — вспоминает Юлька. — Вчера я видела в траве живую жабочку… Да, да, живую, и она ка-а-ак вскокнет!
— Значит, все хорошо? — спрашивает Павел Григорьевич.
Тут Юлька почему-то вянет.
— Хорошо… — говорит она негромко и боязливо косится на группу прибрежных кустов.
Там что-то шевелится.
Павел Григорьевич берет обеими руками Юлькину голову и смотрит ей в глаза:
— А ну, всю правду! Что нехорошо?
— Мальчишки иногда прибегают… Не каждый день, не каждый день!
— Какие мальчишки?
— Нехорошие… Ругаются… Грозятся: бросим в воду, как лягуху!
Ох, вот оно! Обижают Юльку — надо заступиться. Я вскакиваю на ноги так стремительно, словно села на муравейник. Сорвав целый куст крапивы — сразу больно обстрекало обе руки, — я размахиваю им над головой и кричу:
— А ну! А ну! Пусть только сунутся!
Но Павел Григорьевич не разделяет моего воинственного пыла:
— Сядь и не горлань без толку. — Затем он громко окликает: — Э-эй! Хлопцы! Эй!
Из прибрежных кустов выглядывают три мальчишеские головы, очень растрепанные, с замурзанными лицами. Два мальчика постарше, один маленький. Они смотрят на Павла Григорьевича с неопределенным выражением — не то хотят подойти, не то не хотят, но вернее, что не подойдут.
Достав из кармана горсть семечек, Павел Григорьевич спокойно пересыпает их из одной руки в другую:
— Кто хочет семечек? Кому семечек?
Это, видимо, разрешает сомнения мальчиков. Пугливо, настороженно — может, подойдут, а может, порх, и улетят, — они медленно приближаются к нам.
Спокойно и приветливо, как все, что он делает, Павел Григорьевич оделяет их семечками, которые они тут же принимаются лузгать. Лузгают и молчаливо соревнуются: кто доплюнет шелухой до реки.
— Ну, кто у вас главный? — спрашивает Павел Григорьевич.
— Я! — вскидывает на него дерзкие глаза мальчишка лет двенадцати с копной спутанных светлых, почти белых волос.
— Ты главный?
— Я!
— Он, он! — подтверждают остальные двое.
— Так вот, — Павел Григорьевич резко отчеканивает каждое слово, — ты полковник, понимаешь?.. Как стоишь! — рявкает вдруг Павел Григорьевич так грозно, что мы с Юлькой, испугавшись, хватаем друг друга за руки. — Стань как следует, когда с тобой говорит старший в чине!.. Ну!
Мальчик озадачен, но приказание выполняет: вытягивается по-военному, руки по швам.
— Отдай честь как полагается! Что ты, военный или старая баба?
Мальчику очень нравится этот разговор. Он лихо и четко отдает честь, Павел Григорьевич тоже козыряет ему в ответ.
— Итак, ты полковник. — Это Павел Григорьевич говорит строго и деловито.
Конечно, мальчик понимает, что это игра. Но как увлекательно!
Ту же церемонию Павел Григорьевич повторяет со вторым мальчиком, которого производит в ротмистры.
Приходит очередь третьего. Он еще маленький, лет шести, но стоит перед Павлом Григорьевичем вытянувшись и смотрит ему прямо в глаза. Павел Григорьевич молча разглядывает малыша и, видимо, старается подыскать для него подходящее воинское звание.
Желая помочь Павлу Григорьевичу, малыш негромко подсказывает ему:
— Я хочу — анаралом!
Двое старших улыбаются. Они бы расхохотались во все горло, но они уже чувствуют себя не простыми, обыкновенными людьми, а военными: это требует сдержанности, выправки. Только один снисходительно говорит малышу:
— Сопли утри, анарал!
— Да… — по-прежнему серьезно, без улыбки подтверждает Павел Григорьевич. — С соплями под носом я в армию принять не могу. Вытри нос — будешь подпоручиком.
Малыш доволен. Все-таки — воинское звание!
— А теперь — слушать мою команду: охранять эту девочку! Павел Григорьевич показывает на Юльку. — Твой отец что делает? — обращается он к «полковнику».
— Работает. На лесопилке…
— А твой?
— Тоже на лесопилке, — отвечает «ротмистр».
— А мой нигде… — огорченно докладывает «подпоручик». — Работал, работал на щиколадной фабрике, а онегдысь пришел домой: нету, говорит, работы, рассчитали… — И, помолчав, добавляет: — И хлеба тоже нету…
Все молчат. Все знают, какая это беда, когда нет работы, когда отец приходит домой и говорит: «Рассчитали»…
Юлька деловито роется в своих пожитках, сложенных на одеяле, что-то нашаривает в них.
— Кушать хочешь? — говорит она «подпоручику».
— Ага…
— На, ешь… — Юлька протягивает ему кусок хлеба. — Ешь, у меня еще кусочек остался. И вот еще — возьми… — дает она мальчику маленький кусок вываренной в супе говядины.
Мальчик протянул было руку — и тут же отдернул. Он смотрит на Павла Григорьевича:
— А можно?
Невыразимая грусть проходит по веселому, похожему на круглую луну лицу Павла Григорьевича. Но он спокойно отвечает:
— Можно. Только сперва утри нос.
Пока «подпоручик» ест хлеб и осторожно, медленно наслаждается, разделяя мясо на волокна, Павел Григорьевич снова обращается к мальчикам:
— Мать этой девочки тоже работает. И тоже, бывает, сидит без хлеба… А Юлька больная, не может ходить. И бывают такие злыдни, что им и больную не жалко обидеть… Ведь бывают?
Мальчики скромно молчат.
— Значит, я даю вам приказ: охраняйте Юльку, не давайте ее в обиду.
— Ладно, — отвечает старший («полковник»). Павел Григорьевич хмурится:
— Что это за ответ «ладно»? Чтоб я этого штатского слова и не слыхал от вас! Надо говорить: «Рады стараться, ваше превосходительство!» И не вразброд, а все разом, в один голос!
— Рады стараться, ваше превосходительство! — гаркают мальчишки не очень стройно.
— А теперь, — командует Павел Григорьевич, — налево кругом, шагом марш!
«Полковник», «ротмистр» и «подпоручик» делают не слишком слаженный поворот и, браво шагая не в ногу, скрываются в кустах…
Юлька смотрит на Павла Григорьевича с восхищением:
— Ох, как вы!..
— А откуда вы все это знаете? — интересуюсь я. — Как их называть, как они должны вам отвечать и все?
— А я и не знаю! — смеется Павел Григорьевич. — Так, приблизительно, слыхал… Ты, Юля, теперь живи спокойно: они тебя больше обижать не будут.
Забегая вперед, скажу — Павел Григорьевич оказался прав: Юльку больше не обижали. Обижать стало некому — обидчики превратились в защитников. Мы приходили то с Павлом Григорьевичем, то с Полем почти каждый день — Юлька рассказывала нам, что мальчики остругали из щепок «сабли», повесили их через плечо. Они приходили к Юльке по нескольку раз в день и спрашивали, не обижает ли ее кто. После ухода мальчиков собираемся уходить и мы с Павлом Григорьевичем. Но Юлька вдруг вспоминает:
— А посмотрите, какие у меня теперь стали ноги!
Павел Григорьевич осматривает Юлькины ноги.
— Потолстели, правда? — радуется Юлька.
— Да, потолстели. Потому что окрепли. Старайся побольше подставлять их под солнечные лучи. Солнце, чистый воздух — это твое лечение!
— А еду забыли? — напоминает Юлька. — Я же теперь всякий день сыта. И знаете, я уже могу немно-о-жечко, на одну секундочку, упираться ногами, когда мамця меня держит или Степан Антонович!
Внезапно Юлька хватает меня за руку:
— Смотри! Смотри!
Я таращусь, пытаюсь увидеть — и ничего не вижу.
— Да нет, не туда! По траве… Смотри, прыгает, прыгает!
По траве в самом деле что-то прыгает: прыгнет — и остановится, прыгнет — и припадет на одну ногу. Совсем как хромая бубличница Хана… Нет, это птица! Большая черная птица…
— Ворона!.. — соображаю я. — Но почему она бежит вприпрыжку, а не летит?
Непонятно подскакивая, останавливаясь, ковыляя, ворона движется прямо на нас!
— Ой, Саша, я боюсь этой черной птицы! — чуть не плачет Юлька.
Едва я успеваю подобрать с земли прут, чтобы отогнать ворону, как Юлька, более зоркая, чем я, удерживает мою руку:
— Нет, нет, не трогай ее! Она сама от кого-то убегает… И мы совершенно явственно видим, что за вороной, припадая к земле, крадется большая кошка, полосатая, как тигр.
— Кипрейская кошка… — шепчет Юлька. — Я знаю, такая у наших соседей была.
Кошка делает прыжок и почти настигает ворону. Но та, в свою очередь, делает отчаянный прыжок и оказывается около моих ног. Юлька вскрикивает. Кошка останавливается в нескольких шагах. Она вся изогнулась и так явно нацеливается на ворону, что нет сомнения: она хочет схватить ее и съесть! Да, но почему ворона не улетает? Ведь самое, казалось бы, простое — оторвалась от земли, полетела и села на высокое дерево! Лови тогда, кошка!
Нет, ворона какая-то странная. Она не улетает, она жмется к моей ноге, словно хочет укрыться, спрятаться от проклятой «кипрейской» кошки.
Надо сказать правду: я тоже боюсь этой вороны. Ужасно, до смерти боюсь… И вместе с тем что-то не позволяет мне отогнать ее прутом, который я продолжаю сжимать в руке!
— Кошку! — кричит Юлька. — Кошку гони! Я взмахиваю прутом — кошка отпрыгивает. Но мы видим, что она, отбежав, останавливается, не спуская глаз с вороны.
— Что у вас тут? — подходит к нам Павел Григорьевич, ходивший по берегу и любовавшийся рекой.
— Кошка… — бормочу я в смятении,
— Кипрейская кошка! — поправляет Юлька. — Они ужасно злые!
— Гонится за вороной… Наверно, хочет съесть!
— А ворона почему не улетает? Она и сама хочет, чтоб кошка откусила ей голову?
— Нет, она не хочет, она убегает… Только это какая-то сумасшедшая ворона… Бегает, прыгает, а не летает!
Павел Григорьевич берет злополучную ворону в руки. Самое странное, что ворона — ей бы радоваться, ведь Павел Григорьевич спасает ее от кошки! — отчаянно трепыхается и даже пытается злобно клюнуть его руку.
— Э-эх, бедняга! — говорит Павел Григорьевич, разглядывая птицу. — Куда ей летать! Ей кто-то крылья подрезал…
Вот почему ворона не может летать! У нее вместо крыльев какие-то культяпки, как ласты у тюленя. Если бы она даже захотела их развернуть, все равно полететь она не могла бы: они не подняли бы ее на воздух.
— Калека… — тихонько отзывается Юлька.
— Ничего! — успокаивает Павел Григорьевич. — У нее еще отрастут крылья, она еще полетит! А только что с ней делать? Здесь ее оставлять нельзя, ее съедят кошки — не эта, так другая… Я завяжу ее в носовой платок… Ох, клюется, негодяйка, и больно! Ну, готово, идем!
Он завязывает ворону в платок, и мы уходим, унося спасенную нами от кошки птицу.
Глава тринадцатая. У Ивана Константиновича. Безрукий художник
Мы идем с Павлом Григорьевичем домой. Ворона, завязанная в носовой платок, ведет себя поначалу довольно смирно, так что мы о ней вроде как забываем и разговариваем о чем-то другом. Но все-таки ворона нет-нет да и напоминает о себе.
— Клюется, окаянная! — вздыхает Павел Григорьевич. — Я бы положил ее в карман, да она там задохнется.
— Лучше в мою шляпу, — предлагаю я. — Ей там будет очень удобно.
Кладем ворону на дно моей соломенной шляпы, завязываем в платок. Не знаю, удобно ли ей там, но клевать ей там как будто нечего. Впрочем, через некоторое время хы обнаруживаем, что она проклюнула небольшую дырку в соломе.
— Вот клюв! — сердится Павел Григорьевич. — Сверло, а не клюв!
Мы уже почти у дома, теперь осталось недолго.
Но тут перед нами встает вопрос, очень трудный, почти неразрешимый: что делать дальше с вороной? Куда ее нести?
Павел Григорьевич останавливается в раздумье и, сдвинув шляпу на лоб, в растерянности чешет затылок:
— Понимаешь… Моя хозяйка такую птицу в дом не впустит! Ни за что!
Что до меня, то мне впору запустить в затылок обе руки! В пылу борьбы с кошкой и спасения калеки-вороны я совсем забыла одну из папиных странностей: он не переносит в доме никаких животных. Канарейку, чтобы пела в клетке, молчаливого попугайчика Кики, никогда не покидающего нашей комнаты, — ну, это еще туда-сюда… Но эту страшную птицу, которая рвется из рук, норовит пребольно долбануть клювом, — папа ее возненавидит с первого взгляда. Это будет неслыханная война!
Мы стоим с Павлом Григорьевичем, нерешительно смотрим друг на друга, переминаемся с ноги на ногу… И вдруг ворона — в первый раз за все время — испускает крик на всю улицу:
«Кар-р-р-х! Кар-р-р-х!»
Около нас начинают собираться мальчишки. Они стараются заглянуть в узелок, которой держит в руке Павел Григорьевич и откуда доносится все более громкое карканье. Понемногу мы обрастаем целой толпой. Кое-кто на ходу спрашивает:
— Задавило когось?
— Вора споймали?
Мы с трудом проталкиваемся к нашим воротам и, добравшись до лестницы, опять стоим и смотрим друг на друга, с немым вопросом: «Куда же девать ворону?»
В это время слышно приближающееся постукивание по ступеням лестницы. Это возвращается домой с уроков Поль со своим зонтиком-стульчиком.
— Поль! — радуюсь я. — Поль что-нибудь да придумает!
Конечно, это нелепая надежда. Что может придумать Поль? Выбросить ворону на улицу, где ее замучают мальчишки или съедят кошки, немыслимо. Нести ее к Павлу Григорьевичу — нельзя. Взять ее к нам, где ворона встретится с папой или заклюет бедного, кроткого Кики, — тоже…
Так что же с нею делать? Просто не придумаешь!
— Я знаю! — говорит Поль. — Понесем ее на кухню. Жозефин ничего не скажет. Мы накормим эту бедную птицу мясом — она кричит от голода! — а пока она будет есть, неужели мы, три головы, не придумаем ничего умного? Придумаем!
Но — увы! — ворона в самом деле голодна, она с жадностью хватает кусочки сырого мяса, которые ей дает Юзефа; в кухню приходит еще и мама, нас уже не три, а пять голов, и все-таки мы ничего не можем придумать!
Пока ворона ест, Поль успела рассмотреть, что одна нога у нее сломана. Вот почему при первом взгляде на нее мне сразу вспомнилась хромая бубличница Хана!
— Я думаю, — говорит наконец мама, — оставить ее у нас невозможно: папа рассердится. Ее нужно отнести к Ивану Константиновичу Рогову. Он ее возьмет к себе и вылечит…
Мы страшно торопимся: надо скорее пообедать и унести ворону из дому раньше, чем папа проснется, — он спит у себя после бессонной ночи, — а проснуться он может очень скоро. Временно мы укладываем ворону в корзинку с крышкой и ставим ее в уголок.
Пока мы обедаем, я раза три выбегаю из-за стола, чтобы перепрятать корзинку — с вороной в разные места. То мне кажется, что корзинка стоит на сквозняке и несчастная ворона может простудиться, — я перетаскиваю корзинку с вороной в переднюю. Через пять минут я с ужасом думаю: а вдруг кто-нибудь украдет ворону? И я переношу ее в самое укромное, по-моему, место — в ванную комнату. Там я ставлю корзинку внутрь ванны. Теперь я спокойна — до вечера сюда никто не придет… А тем временем мы унесем ворону к Ивану Константиновичу — и все будет улажено.
Мы обедаем в столовой, переговариваясь шепотом, чтобы не разбудить папу.
— Не возись так долго… — говорит мне мама. — Ведь нам еще нужно отнести ворону к Ивану Константиновичу. Ешь скорее!
И вдруг раздаются звуки, от которых у всех нас, как пишут в книгах, «кровь застывает в жилах»! Звуки несутся из ванной — пронзительное воронье карканье и отчаянные крики папы:
— Что? Что это такое? Кто это принес? Уберите! Сию минуту уберите!
Папа вбегает в столовую. Он без пиджака, в рубашке с засученными рукавами и без очков, — он ничего не видит и никого не узнает…
— Там, в ванной, что-то орет!..
Конечно, это наша злополучная ворона! Папа, проснувшись, пошел освежить под краном лицо и руки (и как же я не предвидела этого!), но только он нагнулся над ванной, ворона, очевидно, нашла самым уместным закаркать во все воронье горло: «Кар-р-р-х! Кар-р-р-х!»
Господи, сколько забот и неприятностей из-за одной вороны!
Мы с мамой схватываем корзинку с вороной и бежим к Ивану Константиновичу.
Уже входя с улицы в переднюю квартиры доктора Рогова, мы слышим отчаянные крики:
— Простите!.. Пустите!.. Простите!.. Больше не буду!
Можно подумать, что здесь кого-то наказывают, секут, мучают. Но и мама и я понимаем, в чем дело, и спешим в комнату, откуда доносятся вопли. Это кричит Сингапур, большой бело-розовый попугай, которого Ивану Константиновичу его друг, моряк, привез из Сингапура (оттого его так и назвали). Надо сказать, что у этого Сингапура отвратительный характер, это очень злая и хитрая птица. Посмотришь на него — красавец! Погладишь его бело-розовую спинку — и вся ладонь покрывается словно нежной и легкой летучей пудрой. Целые дни Сингапура не выпускают из большой клетки, где он, сидя в кольце, бормочет всякие глупости. То вдруг запоет из оперы «Фауст»:
«Расскажите вы ей, цветы мои…»
То пищит тонким голосом:
«Ах, какой вздор-р-р! Какие глупости!»
То вдруг орет басом:
«Молчать!»
Когда Сингапура выпускают из клетки, он сразу теряет в своей красоте, потому что тут становится видно, какой он неуклюжий и нескладный на ходу: лапы у него кривые, он ходит переваливаясь, нетвердо и для равновесия помогает себе еще и клювом, которым тоже упирается в пол. Но самая главная беда в том, что Сингапур обожает долбануть кого-нибудь — преимущественно в ногу. Мужчинам, у которых на ногах толстые ботинки, Сингапур не страшен. Но когда у Ивана Константиновича гости, Сингапур прокрадывается под обеденный стол, облюбует там женскую ногу в туфле или детскую в сандалии — и — долб своим твердым клювом, острым на конце! Бывали случаи, когда попугаев клюв, прорвав чулок, долбал этаким манером ногу до крови! Сингапур долбанет — и быстро-быстро улепетывает на своих кривых лапах, упираясь носом в пол.
Водятся за Сингапуром еще и другие грехи. От его клюва очень страдает бульдог доктора Рогова — Бокс. От старости Бокс часто засыпает, и уж Сингапур не пропустит случая клюнуть Бокса в спину или живот. Бокс просыпается, лает с подвыванием, бросается на Сингапура, но тот, как настоящий предатель, боя не принимает, а улепетывает в свою клетку!
В общем, Сингапур боится только одного — гладкой полированной крышки рояля. В наказание за злопыхательские выходки Иван Константинович ставит Сингапура на рояль. Почему-то гладкая, блестящая поверхность нагоняет на Сингапура ужас. Он даже не пытается двигаться по ней, шевелить лапами или подгребать клювом. Он стоит на рояле, как на льду, и истошным голосом орет:
«Простите!.. Простите!.. Пустите!.. Не буду!..»
Дав ему вволю накричаться, Иван Константинович сажает его в клетку, приговаривая стих Некрасова:
За жизнь воровскую твою!
Очутившись в клетке, Сингапур сразу забывает все происшедшее. Иван Константинович уверяет, что попугай — самое глупое существо в природе: он запоминает только звуки, которые слышит. В клетке Сингапур веселеет, начинает кувыркаться в своем кольце, орать: «Солдатушки, бравы р-р-ребятушки!» — и молоть всякий вздор. Прежний хозяин научил его кричать: «А вот дурак пришел!» — и бывают случаи, когда приходящие к доктору Рогову впервые малознакомые люди останавливаются, ошеломленные, слыша человеческий голос, гнусаво и хрипло говорящий: «А вот дурак пришел! Дурак пришел!»
У доктора Рогова — очень странная квартира, такой нет ни у кого! В ней везде живут всякие животные. Попугай Сингапур и бульдог Бокс — это так, пустяки, да и у других бывают же собаки и попугаи. Но у Ивана Константиновича не меньше восьми — десяти аквариумов и террариумов, он сам их делает. В одном живут черепахи: Красавица и Черный Панцирь. В других аквариумах — саламандры, рыбки и всякий водяной народ. И есть зеленые жабы. Этого террариума, я, по правде сказать, побаиваюсь.
— Оттого что я врач, — говорит Иван Константинович, — я всегда очень хорошо вникаю, понимаю, что именно нужно животному или даже растению, чего им недостает, отчего они хиреют и болеют. И я лечу их, да иногда так хорошо, что сам удивляюсь, честное слово!
Как-то одна из его жаб, самая маленькая, заболела странной болезнью: она зачервивела, была вся в мелких-мелких червячках. Иван Константинович очень долго думал, искал причину болезни, прикидывал, чем бы лечить жабу, — и вылечил! Он очень любит эту свою исцеленную пациентку, называет ее Милочкой. Вот и сейчас он осторожно вынимает ее из террариума и, держа на ладони, показывает нам.
— Ты погляди, — говорит он мне, — погляди, как она на меня смотрит! Она узнает меня, она помнит, что я ее вылечил… Погляди, какие у нее благодарные глаза! Что Сингапур? Дурак этот Сингапур, беспамятная, глупая птица! Разве его можно сравнить с Милочкой?
Милочка сидит очень спокойно на ладони Ивана Константиновича, как на большом листке болотной кувшинки. Она ярко зеленая, с круглыми глазками, выпученными, как стекла очков Ничего особенного эти глаза не выражают. Но она в caмом деле, по-видимому, узнает доктора Рогова, не убегает от него, идет к нему в руки.
За домом, где живет Иван Константинович, был прежде небольшой заброшенный пустырь, заросший лопухом, крапивой, чернобыльником. Соседи сбрасывали туда весь мусор: черепки посуды, дырявый матрац, пустые бутылки — все, что люди выкидывают на свалку. Иван Константинович в свободные свои часы расчистил этот клочок земли и в несколько лет вырастил на нем небольшой сад. Причудливые клумбы, веселые желтые дорожки, удивительной красоты розы, все сорта ягод: крыжовник янтарный и красноватый, смородина ярко-красная, черная и бледно-розовая, яблоки, груши, черешни, сливы — зеленовато-желтые ренклоды и малиновые с дымчатым налетом. И все это Иван Константинович посадил своими руками.
— Садовника нанять — это всякий богатый дурак может! Нет, ты сам! Сам приди на пустырь и преврати его в сад! — говорит Иван Константинович.
Я очень люблю ходить к Ивану Константиновичу. И не только из-за того, что он щедро одаряет своих гостей цветами и фруктами. Нет, больше всего я люблю «помогать»! Полоть, поливать, подавать Ивану Константиновичу рассаду, саженец за саженцем. Помогать ему приятно, потому что он к этому относится серьезно. Я ненавижу — просто ненавижу! — когда дома в ответ на мое предложение: «Можно, я помогу прибрать комнату?» или: «Можно, я помогу накрыть на стол для гостей?» — мне говорят: «Ну хорошо, вот возьми эту вилку и отнести ее на кухню Юзефе». При этом мне всегда ужасно обидно: ведь я хотела помочь, быть полезной, а мне дали поноску, как пуделю! У доктора Рогова такое никогда невозможно, Он даже не дожидается, чтобы я попросилась помогать, — он просто дает мне какое-нибудь дело всерьез, нужное дело: «Вот тебе инструмент — выполи им всю сорную траву с этой дорожки, да с корнями, чтобы она больше не вырастала, потом смети, что выкорчевала со всей дорожки, в одну кучу. Поняла?» Был такой случай. Дорожка была длинная, солнце припекало, я устала передвигаться, сидя на корточках, и аккуратно выпалывать сорную траву вместе с корешками, иногда очень длинными. Пот лил с меня большими каплями, попадал в глаза и ел их, как мыло, руки ныли, ноги немели. Я поглядывала издали на доктора Рогова: «Неужели он забыл обо мне?» Но он не забыл — он изредка смотрел в мою сторону и, не улыбаясь, кивал мне: «Хорошо. Продолжай». Когда я расчистила всю дорожку, сгребла лопаткой в кучу все вырванные сорняки, Иван Константинович посмотрел и сказал: «Молодец!» Ох, я была горда этой похвалой!
Иван Константинович — старый холостяк. Ни жены, ни детей у него нет и никогда не было. Своих зверей, птиц, рыб, свои цветы и деревья Иван Константинович мог бы называть так, как Поль называет свою пальму и своего попугайчика: «Моя семейства».
Как-то я услыхала обрывок разговора между мамой и папой.
— Бедный!.. — сказала про кого-то мама. — Говорят, он ее очень любил.
— Надо думать, что любил, если уж из-за нее ни на ком другом не женился, — подтвердил папа.
— А почему, собственно, они не поженились?
— К ней генерал посватался. А Иван Константинович был молодой врач, только что окончил академию, — ни денег, ни положения. Ну, родители и выдали ее за генерала…
Тут я поняла, что мама и папа говорят о докторе Рогове.
Однажды в альбоме Ивана Константиновича — старом, крытом облезлым плюшем, где были только фотографии военных с усами, с бородами, — я увидела портрет молодой девушки. Она не была ни красавицей, ни раскрасавицей, но было в ней такое грустное обаяние, такая ласковая милота, что вот смотрела бы на нее и смотрела не отрываясь. Одета она была по-старинному, как моя бабушка, мать мамы, на старой фотографии. На гладко причесанной головке была надета круглая плоская шапочка с пряжкой над серединой чистого лба. Из-под шапочки глядели совсем юные, почти детские, но уже печальные глаза. Платье широкое-широкое, рукава такие же, на шее — черная бархотка с медальончиком. А руки лежали на коленях покорно и беспомощно…
Очень она мне понравилась, эта девушка!
Разглядывая портрет, я не заметила, что за моей спиной стоит Иван Константинович.
— Кто это? — спросила я про портрет. — Милая какая!
Иван Константинович взял у меня из рук альбом и смотрел на портрет незнакомки.
— Милая. Да… — сказал он, закрывая альбом и пряча его в стол. — Хорошая была, царствие ей небесное! — и перекрестился.
— А она умерла? — огорчилась я.
Иван Константинович ничего не ответил. Взял меня за руку и тихонько вывел в соседнюю комнату. Запер за нами дверь, словно не желая беспокоить незнакомку из альбома. В тот же вечер, прощаясь со мной, он сказал:
— Когда ты вырастешь, станешь большая барышня, невеста, я расскажу тебе про одну девицу. Милую, хорошую… и горькую… Чтобы ты не делала в жизни глупостей и не упускала своего счастья.
Иван Константинович живет не один. При нем — денщик. Военным врачам, как вообще всем офицерам русской армии, полагаются денщики из нестроевых солдат.
Жизнь этих денщиков чаще всего очень нерадостная. Оторванные от семьи, от дома, от привычной работы, денщики, молодые парни, работают в офицерских семьях за кухарку, за горничную, за няньку. Они стряпают, моют и натирают полы, стирают, гладят, крахмалят белье, нянчат офицерских детей.
Жалованья денщику не полагается, а командовать им, ругать и даже бить могут все: и его благородие барин-офицер, и ее благородие барыня, и их благородия барчуки. И жаловаться денщик не может — некому жаловаться.
Не мудрено, что все денщики, попадающие к Ивану Константиновичу Рогову, привязываются к нему, как к родному отцу. Не то чтобы Иван Константинович был с ними ласков, называл Ванятками и Гришутками. Нет, он и кричит, выпучив глаза, как вареный рак, и даже ногами топает, если что не так.
— Человеку ничего прощать нельзя! — уверяет он. — Человека надо учить, и с него надо требовать! Тогда он и будет человеком!
Но денщик знает: Иван Константинович его не обидит. Денщик Никифор, которому недавно вышел срок, уезжая от Ивана Константиновича, плакал навзрыд. Сейчас у Ивана Константиновича новый денщик — татарин Шарафутдинов. Он почти не знает русского языка.
— Беды мне с тобой, Шарафут! — сокрушается Иван Константинович. — Учи тебя еще и говорить, как маленького… Ну, кто я есть, скажи!
Шарафутдинов беспомощно поводит миндалевидными восточными глазами и отвечает — не сразу, с запинкой:
— Благородиям.
Подумав, он поправляется:
— Ихням благородиям…
Но за глаза Шарафутдинов уточняет, называя Ивана Константиновича:
— Та барин, котОра тОльста…
…Надев очки, Иван Константинович начинает осмотр принесенной нами вороны. Для этого он помещает ее в особый станочек — он сам его придумал и построил для птиц. Из этого станочка ворона не может вырваться, она стоит в нем совершенно неподвижно. Иван Константинович осматривает ее лапу, с огорчением цокает и качает головой:
— Ну конечно, перелом! Эх, ты-и-и!.. — говорит он вороне укоризненно. — Вот именно, что ворона! И как это тебя угораздило? Пьяная ты, что ли, была? Подралась?
Все объясняют подрезанные крылья. Не то из озорства, не то для того, чтобы ворона не улетела, кто-то подрезал ей крылья. А она — возможно, забыв об этом, возможно, не понимая, что это значит, — попыталась улететь, например, с верхнего этажа: с балкона или из окна, и, полетев камнем на землю, сломала при этом лапу. Можно, конечно, предположить и так, что лапу ей сломала та кошка, которую мы с Юлькой отогнали. Так или иначе — лапа сломана…
Иван Константинович осторожно и аккуратно накладывает на воронью лапу неподвижную повязку, прибинтовывает к ней плоские палочки, как хирургические шины. Ворона все время ведет себя отвратительно! Она не только орет и каркает самым оглушительным образом, но все пытается клевать пальцы врача, а клюв у нее — ой-ой-ой! Но Иван Константинович ловко увертывается, и воронья лапа оказывается перевязанной крепко и надежно.
Затем ворону помещают в особую клетку, где она не может двигаться, здесь она будет находиться, пока у нее не срастется перелом.
— А потом? — спрашиваю я.
— Потом подождем, пока у нее подрастут крылья.
— А потом?
— А потом она улетит и забудет о нас.
— Жалко… — говорю я, помолчав.
— Нет, не жалко — мы тоже о ней забудем!..
На обратном пути от Ивана Константиновича мы идем с мамой по Большой улице. У дома Харькевича мы, по моей просьбе, останавливаемся. В этом доме есть одна квартира, в которой постоянно останавливаются и дают свои представления все приезжающие в наш город — в афишах всегда сказано «на самое непродолжительное время» — фокусники и другие заезжие артисты. У подъезда этого дома всегда висят громадные плакаты с надписью: «Спешите! Спешите! Чудо природы! Неразрешимая загадка! Всего на несколько дней!», и яркими красками намалеваны эти чудеса природы и неразрешимые загадки: сросшиеся близнецы, женщина с бородой, и т. д.
Сегодня около подъезда висят плакаты: «Чудо-художник рисует ногами», и, по обыкновению, сообщается: «Спешите! Спешите! Всего 3 дня!»
Конечно, я жалобно прошу:
— Ма-а-ма…
И, конечно, мы поднимаемся по лестнице, уплачиваем пятнадцать копеек — десять за маму и пять за меня.
В большой комнате — это зал представлений — перед маленькими подмостками стоят в три ряда стулья. Народу не много.
— Не знаю, не знаю… — недоверчиво говорит сидящий рядом с нами почтово-телеграфный чиновник. — Бог его знает, интересно ли…
— Поглядим, тогда будем знать, — рассудительно отзываемся его спутница.
— Вот я вам скажу, я в Санкт-Петербурге видал — в саду «Аркадия»… Там актерка на лошади выезжала. Лежит на спине у коня, к хвосту головой, а волосы у ней распущены и песок подметают! Вот это было произведение искусства! Не абы что!
Раздается звонок. Кто-то играет на пианино: блям-блям-блям. Публика рассаживается на стульях.
На подмостки, где стоит большой мольберт и стул, выходит человек с измятой физиономией, похожей на изжеванный окурок папиросы. Мотнув головой, как лошадь, отгоняющая этим движением слепней, он громко прокашливается и начинает говорить.
— Почтеннейшая публика, — заводит он удивительно жидким и скучным голосом, без всяких знаков препинания, — сейчас вы увидите величайшее чудо необъяснимую загадку природы художника лишившегося обеих рук отрезанных по самые плечи вообще говоря безвыходная трагедия но вот что делает бог художник этот научился рисовать ногами и вы сейчас убедитесь в этом сами.
Мотнув еще раз головой, человек с измятым лицом обращается к кому-то невидимому для публики:
— Маэстро, публика просит вас выйти и показать ваше искусство.
На подмостки выходит высокий, стройный человек с симпатичным лицом. Оба рукава его пиджака совершенно пусты сверху донизу, и концы рукавов заложены в оба кармана. Это и есть безрукий художник. Он кланяется зрителям без улыбки, с достоинством. Человек с мятым лицом снимает с художника пиджак и показывает публике, что руки в самом деле отсутствуют, — они вроде как подрезаны под корень, не осталось даже самой маленькой культи.
Художник садится на стул перед мольбертом. Движением ног одна об другую он сбрасывает с себя туфли.
— Миша! — говорит он тоном приказа.
Человек с мятым лицом (он и есть «Миша») вставляет кусок угля в пальцы ноги художника. И художник начинает рисовать ногой.
Сперва на мольберте появляется что-то вроде извилистой речки. По обе стороны ее возникают деревья, — нет, это не речка, а дорожка в лесу. Потом из-за деревьев появляется солнце. Все.
— «Дорога уходит в даль…», — объясняет художник. — Это пейзаж.
Миша снимает с мольберта лист с пейзажем. Под ним оказывается другой лист, чистый. На этом листе художник все тем же способом — углем, зажатым между пальцами ноги, — резкими чертами набрасывает лицо: маленькое ухо, маленький глаз, толстый носище, похожий на свиной пятак, — в общем, преотвратительная харя!
— Его степенство купец первой гильдии Тит Титыч Толстопузов! — объявляет художник. — Портрет-карикатура.
За этим следует последний рисунок: жирная женская морда, утонувшая в двойных и тройных подбородках, с заплывшими жиром глазами, в повойнике: «Благоверная супруга Тита Титыча, купчиха Хавронья Сидоровна».
Зрители смеются, хлопают.
Художник встает, нашаривает ногами туфли. Измятолицый Миша, показывая на рисунки, сделанные только что художником, предлагает желающим приобрести их.
Желающих не оказывается.
— Недорого… Купите! — предлагает Миша. Художник стоит неподвижно. Глаза его опущены. Губы крепко сжаты.
— А сколько? — вдруг спрашиваю я.
Мама очень решительно берет меня за руку.
Миша с изжеванным лицом бросается к нам:
— Дешево… По сорок копеек за рисунок… Ладно — хотите, отдадим за тридцать. Идет?
Я смотрю на маму умоляющими глазами.
— Мамочка!..
Мама платит Мише тридцать копеек.
Художник подходит к краю подмостков.
— Который из рисунков вы желали бы приобрести?
Вот когда мама показывает всю разницу между своим тактичным умением всегда и везде сказать и сделать то, что нужно, и моим неумением! Подняв на художника свои прекрасные глаза, мама говорит с хорошей улыбкой:
— Я прошу, чтобы господин художник сам выбрал рисунок для моей дочки…
Художник смотрит на маму, потом на меня. Вероятно, ему передается мое волнение и мое восхищение перед ним, потому что глаза его теплеют, он говорит очень сердечно и просто:
— Пусть маленькая барышня возьмет рисунок: «Дорога уходит в даль…». Когда я еще был художником, — а я был настоящим художником, прошу мне поверить! — это была моя любимая тема: «Все — вперед, все — в даль! Идешь — не падай, упал — встань, расшибся — не хнычь. Все — вперед! Все — в даль!..»
На улице мама говорит мне не то сердясь, не то смеясь:
— Я с тобой больше никуда не пойду!
— Почему?
— Потому что ты — невозможная, — говорит мама торжественно. — Ты — самая невоспитанная девочка на свете! Я еще удивляюсь, как ты не полезла целоваться с этим бедным художником, как с тем индийцем!
— Ну, мамочка, индиец — это же совсем другое… Я его поцеловала потому… да, потому, что он же не понимает слов!.. А художник — какой молодец, правда? Как ты думаешь, он герой?
— Надоела ты мне со своими героями! И ходи по-человечески, не забегай вперед меня, не заглядывай мне в глаза, не наступай мне на носки туфель…
Не стоит, вероятно, и говорить о том, что, придя домой, я первым делом разуваюсь, вдеваю между пальцев правой ноги карандаш и пытаюсь для начала если не нарисовать что-нибудь — рисую я и рукой очень плохо! — то хотя бы написать свое имя. Увы, у меня ничего не получается! Пробую сделать это левой ногой — такой же результат. Вот когда до меня доходит, как трудно, как невообразимо трудно было художнику научиться рисовать ногой!
Рисунок художника углем на бумаге «Дорога уходит в даль…» заделали в рамку под стекло и повесили в моей комнате. В течение ряда лет, утром, открывая глаза, я видела дорогу среди деревьев, из-за которых вставало солнце, и вспоминала слова художника: «Упал — встань. Расшибся — не хнычь. Дорога уходит в даль, дорога идет вперед!» Это были мужественные слова мужественного человека. Увечье не победило его — он победил свое увечье. Он не растерялся, не пал духом, он не просил милостыню, как просят калеки, он работал как мог. Если бы он жил теперь, в наше время, в Советской стране, его мужеству, его сильной и умной воле нашлось бы лучшее применение. Но тогда, более шестидесяти лет назад, у него не могло быть сознания, что он хоть чем-нибудь нужен людям. Может быть, оттого его тогда обрадовало, что кто-то хочет приобрести его рисунок, что девочка с бантом на кудлатой голове смотрит на него с уважением и восторгом. Художник сказал мне свои замечательные слова, как напутствие, а я запомнила их на всю жизнь — как завет воли к сопротивлению.
Ох, как пригодились мне в жизни эти слова!
Глава четырнадцатая. 19 апреля — 1 мая
Утро. Делать мне нечего, не стоит ничего начинать, сейчас придется бросить: Павел Григорьевич должен прийти на урок. Чтобы чем-нибудь заняться, я делаю всякие краткосрочные дела: поливаю цветы в цветочных горшках, насыпаю корму канарейке, читаю наоборот справа налево видные в окно уличные вывески: «акетпа» — вместо «аптека», «яанчолуб» — вместо «булочная». Потом сажусь за свой столик и просматриваю работу, приготовленную для Павла Григорьевича. Мне не нравится, что буква «о» у меня везде как гладкое яйцо, и я всюду приписываю к ней петельку — она становится похожа на фасоль, это гораздо интереснее. Сделав и это многополезное дело, я вспоминаю, что можно еще сорвать с календаря вчерашний листок и прочитать то, что напечатано на нем с изнанки.
А Павел Григорьевич, видно, где-то задерживается!.. Нету его и нету!
Тут же, в комнате, папа читает номер медицинского журнала, только что принесенный почтальоном. Читает папа, как он всегда все делает: на лету, на бегу, между двумя операциями. Читает, не присаживаясь, стоя, в шляпе и держа в руке свою сумку с инструментами (он ждет — доктор Рогов должен прийти, чтобы отправиться вместе с папой куда-то к больному).
Я срываю с календаря листок со вчерашним числом: 18 апреля. Внизу в скобках маленькими буковками и цифирками напечатано: 30 апреля. Под сорванным вчерашним листком сегодняшнее число — 19 апреля, — и опять под этим в скобках мелконько напечатано: 1 мая.
— Папа! Почему крупно — девятнадцатое апреля, а малюсенькими буковками — первое мая?
У папы удивительная способность: одновременно и читать, и слышать, что ему говорят, и отвечать на это! Только отвечает он коротко, словно рубит ответ на куски.
— За границей… — говорит он, перелистывая страницу, — другой календарь… На двенадцать дней позднее, чем у нас.
— А почему?
Папа дочитал журнал, кладет его на стол:
— Ну, это я так, на бегу, рассказать не могу. В общем, мы отстаем от заграничного календаря на двенадцать дней. И каждые сто лет эта разница увеличивается на один день. С 1900 года мы уже будем отставать на тринадцать дней.
— Очень странно! — удивляюсь я. — У нас сегодня еще только девятнадцатое апреля, а у них уже первое мая!..
На изнанке сорванного календарного листка, как всегда, напечатано множество сообщений: пословицы, почему-то всегда либо неинтересные, вроде «Февраль заморозит, а март отпустит», либо общеизвестные, как «Ученье — свет, неученье — тьма», медицинские советы («Простейшее средство от детских поносов»), меню обеда («Щи суточные говяжьи, бараний бок с кашей, мороженое») и, наконец, — загадочная строка: «Погода по Брюсу: дождь». Эти предсказания погоды почему-то никогда не сбываются!
— Папа, кто такой Брюс?
Папа, который уже пошел было к двери, но по дороге, заметив какую-то книгу, уткнулся в нее, очень спокойно отвечает мне:
— А черт его знает, кто такой Брюс!
— Тут, в календаре, сказано: «Погода по Брюсу: дождь»…
— А-а-а… — вспоминает папа, продолжая читать книгу. — Это при Петре Великом… ученый был. Предсказывал погоду… Двести лет назад…
— Как же он мог двести лет назад предсказать, что сегодня будет дождь?
— Ну вот, оттого никакого дождя сегодня и нет! И вообще, не приставай с пустяками, очень интересная статья попалась…
Пока мы с папой разговариваем — вернее, пока папа отстреливается от моих вопросов, — Юзефа прибирает комнату. Юзефа сердита. Впрочем, она ведь редко бывает настроена благодушно, но сегодня она как-то особенно яростно бушует. Переставляет мебель со стуком, стирает пыль со статуэтки Пушкина с таким ожесточением, словно собирается отломить Пушкину голову.
— Учителя своего дожидаешься? — спрашивает Юзефа.
— Да.
— Не дожидай. Не прийдеть твой арештант. Не прийдеть ен, бедны-ы-ы-й…
И Юзефа вдруг начинает плакать!
Обычно Юзефины слезы не слишком пугают меня. У Юзефы, как папа говорит, глаза на болоте. Только копни — и мокро. Но то, что Юзефа так горько плачет о Павле Григорьевиче, которого она терпеть не может, называет «арештантом», приписывает ему всякие вины и прегрешения, — это поражает меня как громом.
— Что с моим учителем? — бормочу я в испуге. — Случилось что-нибудь? Беда какая-нибудь?
— Не случилось, так случится! — И частые слезинки бегут по морщинам Юзефиного лица, как ручейки по давно промытым руслам.
С трудом удается добиться от нее рассказа о том, что она знает. Знает она только то, что сегодня ей говорили на базаре кухарки, — а они все ссылаются то на «покоеву» (горничную) пристава, то на кухарку «жандармского пулковника».
— Да что они стрекочут, все эти покоевы и кухарки? — начинает тревожиться папа.
— Они не стрекочут, они не болбочут, — строго объясняет папе Юзефа, — они правду говорят. Прислуга всегда все знает! И они говорят, что сегодня фабричные бросят работу и вместе с арештантами — такими, как наш учитель! — пойдут по улицам с красным флагом, будут кричать, что не надо царя, не надо нам панов — сами будем пановать. А полицейские — чтоб они подохли все до единого, и не завтра, а сей минут! — уже пронюхали про это. — Кто-то — чтоб ему гореть в огне, и не один-два дня, а сто лет! — сказал полиции об этом. Как пойдут фабричные и арештанты по улице, так полиция и казаки нападут на них, будут их бить «дисциплинками» (нагайками), стрелять в них будут! Для того им ныне рано выдали «стрелы» (боевые патроны) и по лафитнику водки на каждого… Всех они поубивают! И нашего, бедного, убьют! Насмерть!
Рыдая, Юзефа сердито ставит статуэтку Пушкина носом в угол и уходит на кухню.
— Папа, ты про это слыхал?
— Слыхал… — отзывается папа угрюмо. — А вот ты — сделай такое одолжение! — ты ничего не слыхала и ничего не знаешь, поняла? Не смей ни с кем об этом говорить, чтоб от твоей болтовни людям неприятностей не было. Даже со мной об этом не говори!
— Папа… — снова начинаю я, помолчав. — А ты заметил, как Юзефа… ведь она же Павла Григорьевича не любит, она его всегда ругает!
— Юзефа — редкостный человек. Золотой. Цены ей нет. Исковерканный, искалеченный — ведь тридцать лет тому назад она еще была крепостная! А сердце у нее большое, хорошее, оно хочет лепиться к людям, любить их, жалеть, тревожиться о них… И к Павлу Григорьевичу она потому переменилась, что ему грозит опасность…
В передней раздается сильный, продолжительный звонок, за ним второй, третий — такие же… В комнату входит Владимир Иванович Шабанов. Входит, уже сразу чем-то разозленный, нагнув голову, словно собирается бодаться, — ну совсем как его дочка Рита, когда она рассердится!
Даже не здороваясь, он сразу обращается к папе с вызовом, с раздражением:
— Ну, что я вам тогда говорил, а?
— Это я могу спросить у вас, Владимир Иванович: «Что такое вы мне говорили, что я должен помнить?» И, кстати, когда — «тогда»?
— Да про забастовку же, господи, беспамятный какой!
— А-а-а… — неопределенно тянет папа.
— Забастовали ведь мерзавцы, стоит мой завод! И у Кушнарева забастовали, и на конфетной фабрике «Амброзия», и кожевники, и лесопилка… Ну как же! — все более разъяряясь, продолжает Владимир Иванович. — Раз в прошлом году первого мая в Варшаве бастовали, и в Белостоке, и еще где-то дураки нашлись, — так как же моим окаянцам отстать? — при этом Владимир Иванович очень смешно приседает, разводя руками.
Папа молчит.
— И если б еще только забастовали они! — распаляется Владимир Иванович. — А то ведь вваливаются сегодня ко мне двое оборванцев — из моих рабочих! — и подают мне своими грязными лапами бумагу. «Мы, говорят, делегаты от рабочих, и в бумаге — наши требования!» Понимаете — тре-бо-ва-ни-я!
— Чего же они от вас требуют? — спрашивает папа каким-то несвойственным ему, бесцветным голосом, словно спрашивает он из вежливости, а на самом деле это вовсе не интересно
— Вот-вот, именно, именно! — И Владимир Иванович начинает загибать пальцы. — Повышения платы — раз! Сокращения рабочего дня — два! Улучшения условий труда — сетку им оградительную поставить! Можете себе представить? И еще, и еще, и еще…
— Ну, плата у вас рабочим… — начинает папа.
— …такая, как везде. Такая, как везде!
— Слушайте, Владимир Иванович… Я же условия жизни ваших рабочих не хуже вас знаю… Калечатся они — а они калечатся очень часто! — кто их лечит? Я лечу! И я вам — вспомните! — об этой предохранительной сетке говорил много раз. А плата… Ну подумайте сами, может человек жить с семьей — на три-четыре рубля в месяц? А у вас есть рабочие и с таким низким заработком!
— А не может жить, так пускай отправляется к чертовой матери! — отрезает Владимир Иванович. — К черту! Нужен он мне!
— Владимир Иванович! — строго говорит папа, показывая глазами на меня. — Тут ребенок, выбирайте выражения!
— Ничего! Пускай и ребенок знает! Мы должны теперь воспитывать детей так, чтобы они этих скотов-рабочих могли потом в кулаке держать. Ритка моя сегодня так прямо и выпалила: «Поезжай, папка, к губернатору — пускай присылает солдат с пушкой, пускай всю эту мразь перестреляют!» Так прямо и сказала! Огонь девка!
Папа кладет мне руку на голову. Я стою, прислонившись к нему, и чувствую, физически чувствую, как противен ему Владимир Иванович и весь этот разговор.
— Моей дочери это не нужно, Владимир Иванович… У меня рабочих нет. У нее тоже не будет.
Владимир Иванович щурит глаза:
— А революции вы не боитесь, Яков Ефимович?
— Почему мне ее бояться? Врач и революции нужен, будьте спокойны!
— Та-ак? — зловеще тянет Шабанов. — Пускай будет революция, пускай погибнет святая Русь, — все равно, да?
Папа начинает раздражаться. Сейчас разыграется скандал.
— Вам, Владимир Иванович, не святую Русь жалко, а доходов своих!
— Нет-с, Яков Ефимович! Я русский человек! — Владимир Иванович с азартом ударяет себя в грудь.
— Можете не бить себя по бумажнику, — предостерегает папа, — я вам и так верю, что вы русский человек.
— Русский, да-с! Вам, евреям, этого, конечно, не понять. Подумаешь, как он меня напугал! «Не могут ваши рабочие на такую маленькую плату жить»! Ха! Не могут жить, так пусть околевают! Я не заплачу!
— Вон! — кричит папа с таким бешенством, что я в ужасе вцепляюсь в его руку. — Вон отсюда!
Владимир Иванович тоже, видно, пугается. Бочком, бочком он протискивается в дверь и исчезает.
В комнату входит Павел Григорьевич — он, видно, пришел с черного хода, потому и не встретился с Шабановым.
— Что у вас тут происходит?
— Да ничего… — Папа немного смущен своей яростной вспышкой. — Поворковали мы немного с Шабановым…
Пока папа рассказывает содержание этого «воркованья», Юзефа приносит Павлу Григорьевичу чай, бутерброды и варенье. Это до сих пор всегда делала мама — Юзефа отказывалась обслуживать «арештанта».
— Кушайте, пане учителю! Кушайте! — И в порыве доброго чувства Юзефа проводит рукой по его плечу.
— Спасибо, мамаша… — Павел Григорьевич крепко жмет Юзефину руку.
Юзефа растерянно смотрит на всех нас, на свою руку, на Павла Григорьевича и, всхлипнув, убегает.
Павел Григорьевич почти не притрагивается к еде и чаю, хотя Юзефа принесла ему самого «парадного» варенья — абрикосового. Его подают только самым дорогим гостям.
— Павел Григорьевич, — спрашивает папа негромко, — бастуют?
— Да. На ряде фабрик. Вы уж простите, Яков Ефимович, я сегодня с Сашенькой заниматься не успею…
Слышен оглушительный топот сапог. Юзефа вводит солдата — это Шарафутдинов, денщик доктора Рогова.
Шарафутдинов показывает на окно и говорит:
— Там. Та барин, котора тольста.
Это означает, что страдающий одышкой Иван Константинович прислал Шарафутдинова наверх сказать папе, что он, Иван Константинович, ждет папу на улице.
Юзефа уводит Шарафутдинова. Перед тем как уйти за ними, папа останавливается.
— Павел Григорьевич, — говорит он, — никто ведь не знает, как развернутся сегодня события, правда? Так вот, если будут пострадавшие, в госпиталь никого не привозите: там уже получен приказ (я сам, своими глазами, читал его вчера вечером) немедленно препровождать таких в тюремную больницу.
— Я так и думал, — говорит Павел Григорьевич. — Но все-таки спасибо, что сказали… Будем знать!
— А пострадавших, если они будут, размещайте по частным квартирам — и немедленно посылайте за мной. Только пусть говорят, что от вас. Я приду в любое время дня и ночи, можете быть уверены!
— Я в вас и не сомневаюсь, Яков Ефимович! Павел Григорьевич говорит это улыбаясь, но он смотрит на папу серьезным взглядом.
— До свидания, Александра Яковлевна! — говорит Павел Григорьевич, и я не сразу соображаю, что это он ко мне обращается. — Расти большая. Расти умная. А главное — расти хорошая… Да?
— Да… — отвечаю я и не плачу, только губы у меня дрожат.
Папа и Павел Григорьевич обнимаются, словно прощаются надолго. Потом папа уходит.
Павел Григорьевич обнимает меня и Юзефу.
— Маме поклонись! — наказывает он мне.
Он уходит. Юзефа крестит его спину быстрыми-быстрыми крестиками.
Вот таким, как в то утро, — в пиджаке, надетом на вылинявшую синюю сатиновую косоворотку, подпоясанную шнурком; с добрым и веселым лицом, похожим на круглую луну; уходившим, может быть, на смерть так, словно он уходит в лавочку за папиросами, — таким и запомнила я навсегда моего первого в жизни учителя.
Глава пятнадцатая. Папа и Поль гуляют при луне
День тянется без конца. Если смотреть в окно на улицу, то ничего особенного в городе не происходит. Едут извозчики, идут пешеходы, на углу висит афиша городского театра: «Сумасшествие от любви». Продают подснежники и первые лиловые анемоны, мохнатые, словно они надели шубки мехом наизнанку. Вот проехал доктор Стембо в изящной пролетке с английской упряжью — с оглоблями, концы которых выгнуты врозь и наружу. За ним прогремела телега, на которой свалены длинные железные полосы; концы их волочатся по земле и, подпрыгивая, грохочут по мостовой. Неторопливо проплыла закрытая карета «бискупа» — католического епископа. Многие прохожие останавливаются и набожно крестятся на эту карету, а сидящий в ней тощенький старичок старательно осеняет крестным знамением улицу направо и налево.
— Бискуп… — крестится и Юзефа, но делает она это рассеянно, мысли ее давно далеко.
Приходит ко мне на урок ящик — фрейлейн Эмма. Как каждый день, я сперва читаю вслух из хрестоматии: «Был сильный мороз. Карльхен, Амальхен и Паульхен очень жалели бедных воробышков, которые прыгали по снегу и, наверно, очень хотели кушать…» Потом я пишу диктовку: «Цветы благоухают — пукт. Наша мама очень добрая — пукт» и т. д. В заключение ящик декламирует мне очередную балладу Шиллера, как на грех, удивительно неинтересную. А может быть, просто я сегодня слушаю рассеянно? Как сквозь сон, я слышу, что какой-то «Фридолин» был верным слугой своей госпожи, «графини фон Заверн». Такая невнимательная слушательница, конечно, не вдохновляет фрейлейн Эмму, и она ни на минуту не превращается из ящика в живого человека. Так протекает весь урок. Когда фрейлейн Эмма наконец уходит, я чувствую такое облегчение, словно у меня гора с плеч свалилась.
И снова мы с Юзефой сидим на подоконнике и смотрим на улицу. А там все так же мирно. На балкончике над аптекой Родзевича жена аптекаря, повязав голову косыночкой и разостлав два газетных листа, пересаживает фикус из глиняного горшка в более вместительную деревянную кадку. Сидящая рядом с аптекаршей большая серая кошка невозмутимо спокойно вылизывает свой бок.
Папа весь день забегает чуть ли не каждый час домой. Не раздеваясь, спрашивает:
— Ну, что?
— Ничего… — отвечает мама.
Папа нервничает, он даже и со мной говорит раздраженно.
— Папа, почему Павел Григорьевич назвал меня Александрой Яковлевной?
— А ты разве Мария Ивановна?
Несколько раз в течение этого дня за окном по улице, гарцуя, проносятся небольшие отряды казаков.
— С нагайками… — шепчет мама.
— А это, голубенькая, скажу вам, не русское оружие! — разъясняет Иван Константинович Рогов. — Это — от ногайских татар заимствовано… Сотни лет тому назад! Нет, не русское оружие…
— Чье бы ни было… — бормочет папа. — А если полоснет, так на ногах не устоишь! Ведь в такой нагайке, в ременном конце, свинчатка вплетена!
— Ну, будем надеяться, казаки только для устрашения по улицам ездят, — успокаивает Иван Константинович.
Однако эти надежды не сбываются. Уже со второй половины дня по городу ползут, распространяются слухи. Слухи противоречивы — одни говорят, что на Анктоколе, другие — что на Большой Погулянке, — но все слухи сходятся на одном: на одной из улиц забастовщикам удалось сбиться в колонну. Они двинулись рядами по улице, подняли маленькое красное знамя и запели запрещенную правительством революционную песню. Тут на них налетели казаки. Наезжая конями на людей, казаки смяли шествие рабочих и пустили в ход нагайки. Песня оборвалась, красное знамя исчезло. Толпа рассеялась, даже помятых и побитых нагайками увели товарищи, — полиция схватила только тех, кого увести было невозможно: сильно оглушенных нагайками, сшибленных конями. Все это длилось, говорят люди, буквально не больше пяти-десяти минут. Подробностей никто не знает.
Пришедший полотер Рафал на кухне рассказывает:
— Стоим мы с кумом коло его дома, и бежит это один, рукой за плечо держится, а с-под пальцев у его — кап-кап, кап кап! Красное, вроде вишневая наливка. Даже около нас в пыль капнуло, ей-богу, сам видел!
Ожидание каких-нибудь вестей от Павла Григорьевича становится невыносимым. На улице темнеет. Из городского сада доносится духовой оркестр — веселая увертюра из «Прекрасной Елены».
И вдруг в передней звонок! Мы все опрометью мчимся туда
— Хто? — спрашивает Юзефа через дверь. — Хто там бразгаеть у звонок?
Мальчишеский голос отвечает:
— Свой. Отоприте.
Пока вошедший стоит к нам спиной, запирая входную дверь, я узнаю надетый на нем знакомый пиджак.
— Павел Григорьевич!
Однако вошедший поворачивается к нам лицом, и это — мальчик, подросток, с дерзкими глазами под лохматой белокурой копной…
— Я не Павел Григорьевич.
— А где он?
— . Там… — Мальчишка неопределенно машет рукой.
Я узнаю мальчика. Это его Павел Григорьевич на днях произвел в «полковники».
— Жив он? Жив? — нетерпеливо спрашивает папа.
— Живо-ой! Письмо прислал. Кто тут у вас доктор? В собственные руки…
Папа читает записку. Мы понимаем — Павел Григорьевич прислал мальчика за папой. Где-то есть раненые, и мальчик покажет папе дорогу. Юзефа уже снимает с вешалки папино пальто, шляпу и палку.
Но папа словно и не собирается идти!
— Идете? — уже нетерпеливо спрашивает мальчик.
— Нет. Тут написано, чтоб я сперва тебя осмотрел. Скидай пиджак, поглядим, что у тебя.
Мальчик неохотно снимает пиджак Павла Григорьевича, и мы еле удерживаемся от крика.
Юзефа всплескивает руками:
— Матерь божия!..
— Кто же тебя так?
— Казак. Нагайкой.
Вся рубашка мальчика висит на нем клочьями. По спине, как длинный красный червь, изогнутый, переходящий за плечо, тянется свежий, еще кровоточащий рубец. Все то, что осталось от рубашки, насквозь пропитано кровью.
Теперь понятно, почему Павел Григорьевич, посылая мальчишку, надел на него свой пиджак: в истерзанной рубахе, исхлестанного нагайкой, окровавленного мальчишку сразу бы задержали!
Папа перевязывает мальчика, Поль очень ловко и умело помогает, мама приносит «полковнику» папину рубашку.
— Молодец! — говорит папа. — Хлопнул бы я тебя по плечу, как мужчину, да нельзя: больно будет.
— А теперь идем! — серьезно говорит «полковник».
— Нет. Ты мне адрес скажешь, а сам здесь останешься. Юзефа тебя спать уложит. Ты устал — ведь с утра, наверное, бегаешь? — и голоден, и рубец, наверно, горит… Ну, говори адрес.
— Все равно! — смеется мальчик. — И устал я, и голодный, и рубец, бодай его, горит, как огонь, а только не останусь я здесь: приказ мне дан, понимаете вы это?
Юзефа сторговывается с мальчиком: она дает ему громадный кусок хлеба, намазанный маслом, с двумя холодными котлетами.
— Як граф! — говорит он с набитым ртом.
Тут возникает затруднение. Ехать на извозчике папе нельзя, чтоб не «провалить» те квартиры, где скрыли пострадавших. Значит, надо идти пешком, не спуская глаз с идущего впереди мальчика, а ведь папа в темноте плохо видит и плохо ориентируется.
— Я пойду! — говорит Поль. — Я возьму мосье под руку, и мы пойдем под музыку, как двое влюбленных!..
Это вызывает всеобщий смех, и громче всех смеется сама Поль! Конечно, это единственный выход.
Все-таки мама, пошептавшись с папой, говорит Полю:
— Мадемаузель Полина… Мой муж хочет, чтобы я напомнила вам… Идя с ним по этому делу, вы рискуете… Вас могут арестовать!
Поль смеется:
— Пальму мою вы поливать будете? И Кики моему горсточку зерен и листок салату вы по утрам дадите? А больше мне не за кого бояться.
Папа одевается. Поль берет свой зонтик-стульчик.
Первым уходит мальчик-«полковник».
— Ничего, старая, не журись! — прощается он с Юзефой. — Все хорошо!
— Да уж, хорошо! — горько говорит Юзефа. — Похлестали казаки людей, как крапиву…
— Не надо… — перебивает ее мальчик. — Наши все веселые, все радуются… Никогда такой забастовки не было! Красный флаг подняли, песню запели… Ну, я иду, буду ждать у ворот.
И, кивнув всем нам, мальчик убегает. За ним выходит папа и Поль.
Мы бросаемся к окну, что выходит на улицу. Медленно, наслаждаясь своим «графским» бутербродом, проходит по тротуару под фонарем наш «полковник». А за ним, в нескольких шагах, степенной, «прогулочной» походкой Поль ведет под руку папу, постукивая о тротуар своим зонтиком-стульчиком…
Рано утром, чуть только начинает рассветать, я просыпаюсь оттого, что кто-то щекочет мне щеку. Это Кики, попугайчик, сидит на подушке около моего лица. Вчера вечером, когда Поль уходила с папой, она, по обыкновению, спела начало «Марсельезы»: «Вперед, вперед, сыны отчизны!» — и Кики безропотно скрылся в клетке. Сегодня проснувшись рано, он, как всегда, вылетел из клетки и опустился на подушку Поля, но Поля там не было! Очень огорченный, он полетел ко мне и разбудил меня.
Поля нет. Они с папой еще не возвращались. Со вчерашнего вечера.
Зрячий глаз попугайчика Кики смотрит на меня с таким человеческим недоумением и даже печалью, что я совсем теряюсь. В самом деле, где же Поль? И где же папа?
В эту минуту Поль входит в комнату. Лицо ее, доброе, старушечье лицо, очень утомлено. Оказывается, она самоотверженно водила папу всю ночь по улицам из одной незнакомой квартиры в другую, — всюду, где укрывали пострадавших. «И в какие лачуги, Саш, — если б ты видела! Все где-то на окраинах»…
— Знаешь, — говорит она, откинувшись на спинку кресла и вытянув усталые ноги, — твой отец — может быть, он сумасшедший, но это удивительный человек! Я ведь только ходила с ним, — ну, кой-где пришлось помочь, — подержать свечу или лампу, в общем, пустяки, — и то устала, а он всю ночь работал!
Входит мама. Она советует Полю немедленно лечь.
— А мой кофе? — словно даже пугается Поль. — Утренний кофе — священное дело! У нас, французов, — добавляет она смеясь, — часы еды — о, это свято! Я часто думаю: вот так, как ваш муж, — обедать ночью, ужинать днем… нет, француз этого не мог бы!
— Даже если он хирург? — улыбается мама.
— Вероятно, наши хирурги назначают время операций между едой… — серьезно говорит Поль. — И я думаю, что так широко лечить людей бесплатно — этого наши хирурги не делают!..
— Ну хорошо, сейчас я пришлю вам кофе, вы выпьете его в постели! — И мама уходит.
В самом деле, кофе и завтрак приносит Полю — Юзефа!
Я глазам своим не верю! Юзефа, которая еще два дня назад кляла Поля на чем свет стоит, с самым приветливым видом ставит завтрак на стул около кровати Поля, говорит ласково-ласково:
— Ешьте, пани… Ешьте на здоровье!
И, понимая мое удивление, Юзефа, словно извиняясь, объясняет:
— А чего ж? Она все-таки пожондная (порядочная) французинка, ничего не скажешь. Всю ночь водила нашего пана доктора по всему городу… Другая забоялась бы! Я бы, конечно, не забоялась, пошла бы, но — ух, я бы так лаяла тех казаков, я бы так проклинала тую полицию, что нас бы обоих арестовали, и с паном доктором вместе!..
С этого дня мы начинаем ждать Павла Григорьевича. Мы ждем его, а он не приходит!
В первый и второй день папа говорит:
— Умница Павел Григорьевич! Отсиживается где-то, не показывается… По городу идут аресты за арестами, — пусть не попадается на глаза.
Но проходит третий день без Павла Григорьевича, наступает четвертый… Папа уже ничего не говорит, он очень озабочен и встревожен.
На каждый звонок в переднюю бежит весь дом. Но Павла Григорьевича нет как нет…
Юзефа не перестает с утра до ночи ворчать и клясть полицию и «жандаров». Она от всей души жалеет, что не может подсыпать им в кушанье мышьяку. Она желает им всяких несчастий, начиная с «холеры в бок».
Наконец в вечер четвертого дня к нам приходит женщина — маленькая, худенькая — и говорит маме:
— Простите, пожалуйста… Я — Анна Борисовна… жена Павла Григорьевича… учителя вашей дочки…
Папа, оказывается, знает Анну Борисовну — он видел ее в ту ночь, когда оказывал помощь пострадавшим.
Но Анна Борисовна знает всех нас — по рассказам Павла Григорьевича:
— Вы Елена Семеновна, да? А это Сашенька? А это Юзефа?
Она знает и про Поля и даже про попугайчика Кики! Юзефа совершенно счастлива тем, что Павел Григорьевич рассказывал о ней своей жене.
— Так и сказал: «Юзефа», да?
Все стараются как только могут выразить Анне Борисовне свои чувства. Ей жмут руки, ее усаживают за стол, Юзефа приносит все, что есть вкусного в доме.
Анна Борисовна смотрит на нас с улыбкой, растроганная
— Я вижу, здесь моего Павла любят… Да, Сашенька?
— Ужасно! — отвечаю я. — Просто до невозможности любим!
Потом, помолчав, добавляю тихо:
— И всегда будем любить… Всю жизнь…
Никто не спрашивает о Павле Григорьевиче, где он, что с ним. Но Анна Борисовна читает эти вопросы в наших глазах и отвечает на них. Новости, принесенные ею, печальны: Павла Григорьевича арестовали еще три дня назад. Где он находится, Анна Борисовна не знает. Она обегала, как она говорит, «все кутузки и каталажки» — все полицейские участки, — Павла Григорьевича нигде нет. И это тревожно. Это значит, объясняет Анна Борисовна, что его посадили не с теми, кого подержат, подержат несколько дней в полиции и выпустят. Павлу Григорьевичу хотят, видимо, «пришить дело». Ведь он ссыльный, высланный под надзор полиции, ему всякое лыко в строку, у него всякая вина на особицу виновата. Очевидно, его содержат в городской тюрьме. Но справок в тюрьме никому и никаких не дают, ни на какие вопросы отвечать не желают…
Тюрьма! Я очень хорошо знаю это место, это странного вида строение, которое словно вылезает из реки Вилии на Антоколе. Что там, за каменной оградой, не видно; может быть, там большой, высокий дом, в котором заперты заключенные, а может быть, что-нибудь другое. Но когда идешь по антокольскому берегу реки, то тюрьма похожа на вылезающую из воды голову чудовища, и круглые в своей верхней части ворота — словно громадный глаз этого страшного зверя. Глаз этот смотрит злобно и не обещает ничего хорошего…
И вот там, за этим глазом, сидит, запертый, Павел Григорьевич! И мы ничего не можем сделать для него!
— Постойте! — вдруг вспоминает папа. — Давайте вспоминать, кто у меня лечится из «тюремщиков»… Или из жандармских… Вспомнил, вспомнил! Фон Литтен… Полковник фон Литтен… Я лечил его жену, и оба они без конца звонили обо мне по городу, какой я хороший врач… Завтра поеду к фон Литтену и все узнаю!
— Яков Ефимович, — говорит Анна Борисовна, — как бы не было у вас неприятностей…
— Никаких! Какие неприятности, помилуйте? У меня дочь, ей дает уроки учитель такой-то, экзамены на носу, а учитель исчез! Говорят, арестован… Я хочу знать, где он и что с ним… Все логично и законно!
Маленькая, худенькая Анна Борисовна одета очень скромно, почти бедно, но удивительно аккуратно. Булавочка с красной головкой, закалывающая ее воротничок, воткнута так, что невозможно представить себе ее иначе: именно в этом месте — и нигде больше. Нельзя себе вообразить, чтоб ее маленькая черная шляпка была надета боком или съехала на затылок. Манжетки на рукавах отутюжены гладко-гладко, так же, как гладко причесана и ее черноволосая голова.
— Мне бы, главное, узнать, где именно содержится Павел. Тогда уж можно будет снести ему передачу, хлопотать о свидании.
Мама кладет руку на худенькие руки Анны Борисовны:
— Сколько вам хлопот… маленькая вы такая!
Анна Борисовна задерживает мамину руку:
— Елена Семеновна! Когда я выходила замуж за Павла, я знала, на что я иду. Жена революционера — ох, это беспокойно…
— Воображаю, как вы волновались, когда Павел Григорьевич был в ссылке, в Якутии! Анна Борисовна тихо смеется:
— Да нет! Не волновалась. Я была с ним — там… А с ним самое тяжелое легко, самое страшное не пугает… Такой он человек!
— Мы с мужем часто говорим, — вспоминает мама, — про Павла Григорьевича: он столько вынес, столько пережил, — как он мог сохранить это удивительное спокойствие, это доброе, круглое лицо…
— Как луна, да? — радуется Анна Борисовна. — Товарищи звали его «Месяц Месяцович»… Помните, в «Сказке о мертвой царевне»? А знаете, почему Павел такой жизнерадостный, спокойный? Потому что он видит далеко, очень далеко вперед!
И, видя, что папа и мама смотрят на нее не понимая (обо мне, к счастью, все забыли и не прогоняют меня в мою комнату!), Анна Борисовна поясняет:
— Вот четыре дня тому назад в вашем городе забастовало несколько сот рабочих. Всего несколько сот… Добьются они чего-нибудь? Неизвестно; да если и добьются, то каких-нибудь ничтожных уступок. Стоило ли им бастовать? — подумают многие, ох, многие! Из этих нескольких сот забастовщиков человек сто вышли на улицу, устроили демонстрацию… Можно подумать: «Горсточка! Что они могут? Спели всего несколько тактов революционной песни, подняли маленькое красное знамя, оно продержалось в воздухе над толпой всего несколько минут». А Павел все время помнит, что в этом городе это случилось в первый раз, — раньше здесь такого никогда не бывало! Павел глядит вперед — в будущем году будут бастовать уже не сотни, а тысячи, на улицы выйдет толпа! Те рабочие, что бастовали сейчас, те, что вышли на улицу, — вы думаете, они это забудут? Не забудут! Это для них — школа революционной борьбы… И Павел видит это далеко вперед!
Маленькая Анна Борисовна говорит так сильно, так горячо… Она тоже видит — видит далеко вперед. Этому научил ее Павел Григорьевич — Месяц Месяцович.
Глава шестнадцатая. Где же Павел Григорьевич?
О Павле Григорьевиче все еще ничего не известно: полковник фон Литтен, к которому хочет обратиться папа, уехал из города на несколько дней.
Я прихожу в «Ботанику» к Юльке. Я не была у нее с самого мая — пока было неизвестно, что с Павлом Григорьевичем. Не хотелось ее огорчать — она ведь так любит Павла, Григорьевича. Он так заботливо ходил за ней, когда она была больна!
Я мчусь по берегу к реке и издали вижу фигурку Юльки. Она полулежит на своем одеяле и так горестно подпирает голову худеньким кулачком, что за версту ясно: она все знает. Она, оказывается, знает больше, чем я.
— Был у нас твой татка… — говорит она. — В ту самую ночь был. К нам двоих побитых принесли, татка твой их и лечил. А потом ушел на квартиру к Степану Антоновичу — туда тоже двоих положили…
И совсем тихо; горестно Юлька добавляет:
— А Павел Григорьевич сгинул… Никто не знает, где..
— Мой папа его ищет.
Юлька оживляется:
— Твой татка? Ну, он найдет… — Но тут же она снова потухает. — И Вацек пропал, — знаешь, рыжий. И еще много людей, ты их не знаешь… Тот мальчик, помнишь, Павел Григорьевич его пулковником назвал? Он ко мне теперь за хлебом ходит, — у него отец на лесопилке работал, — арестовали отца..
И Юлька рассудительно добавляет:
— У нас теперь хлеба довольно. Что ж не дать тому, у кого нет? Нам же люди, помнишь, как помогали?..
Как-то само собой так получается, что вместо Павла Григорьевича со мной теперь занимается Анна Борисовна. Проэкзаменовав меня по всем предметам, она утверждает, что «Павел» подготовил меня хорошо: я знаю не только то, что требуется по программе, но даже значительно больше. Поэтому Анна Борисовна повторяет со мной пройденное. А так как это не очень увлекательно, то она очень многое мне рассказывает — и по истории, и по географии, и по литературе.
Но самое интересное для меня — то, что Анна Борисовна рассказывает «из жизни». Как и Павел Григорьевич, она очень часто ходит со мной гулять. Мы подолгу сидим над рекой — на скамеечке или на камнях, — и Анна Борисовна рассказывает. Очень интересно, как они с Павлом Григорьевичем поженились. Он был студент-медик в Петербурге, Анна Борисовна училась там же — на женских курсах. До его ареста они изредка встречались у общих знакомых. Когда Павла Григорьевича арестовали и посадили в петербургскую тюрьму «Кресты», то оказалось, что некому ходить к нему в тюрьму на «свидания с близкими», некому носить ему передачи: все это разрешалось только матерям, женам, невестам или сестрам. Мать вы или нет, жена или не жена, сестра ли, — все это можно доказать только по паспорту. А невеста — вот отличное звание, не требующее доказательств, доступное для всякой девушки. Поэтому, когда арестовывали кого-нибудь холостого и бессемейного, товарищи спешно подыскивали ему такую мнимую невесту, которая ходила бы к нему в тюрьму, носила передачи, а если можно, и передавала бы ему с воли сведения от товарищей, а от него — товарищам на волю. У Павла Григорьевича не было ни матери, ни жены, ни сестры, ни невесты. Вот Анна Борисовна, по просьбе товарищей, и объявила тюремному начальству, что она — невеста заключенного в «Крестах» студента Павла Григорьевича Розанова и просит свидания с ним.
Когда Павлу Григорьевичу объявили в тюрьме, что к нему пришла на свидание невеста, он на миг опешил: кто бы это мог быть? Над этим же он ломал голову, идя в помещение для свиданий. Одно он понимал ясно: кто бы это ни пришел к нему, хоть ангел с колонны на площади перед Зимним дворцом, он, Павел Григорьевич, не должен выказать ни малейшего удивления, наоборот — он должен держать себя так, как будто это самая настоящая его невеста! Анна Борисовна, со своей стороны, помнила, что именно так же должна держаться и она.
Свидания происходили в тюрьмах так: в одну клетку, зарешеченную от пола до потолка, впускали заключенного, а в другую, такую же, вводили его посетителя. Между решетками обеих клеток был проход, вроде коридорчика, по которому все время шагал тюремный надзиратель, для того чтобы слушать все разговоры. Впрочем, никаких тайн говорить все равно было нельзя — свидания с близкими давалось одновременно многим заключенным, все они кричали очень громко (ведь между ними и посетителями две решетки и проход!) — какие уж тут можно было говорить секреты в этом гаме и грохоте да еще при надзирателе.
Когда Павел Григорьевич увидел в клетке для посетителей Анну Борисовну, он закричал веселым голосом: «Нюрочка! Здравствуй, дорогая!» И хотя до тех пор они были очень мало знакомы, называли друг друга по имени-отчеству и на «вы», но и Анна Борисовна закричала ему во весь голос: «Здравствуй, Пашенька!»
— Вот тут, — рассказывает мне Анна Борисовна, — когда я увидела его, похудевшего, побледневшего, но все такого же спокойного, ласково-приветливого, я поняла, что всегда я его любила, моего Месяца Месяцовича… И я опять повторила, глядя ему в глаза: «Здравствуй, Пашенька…»
Разговор между «женихом» и «невестой» продолжался, и Анна Борисовна заметила, что каждый раз, как тюремный надзиратель уходил в самый конец прохода между клетками, Павел Григорьевич кричал ей что-нибудь — все об одном и том же. В первый раз он крикнул ей: «А ты живешь все там же — в конце 3-й линии?» — хотя она там не жила, и он это знал. Когда через несколько минут тюремный надзиратель снова оказался в наибольшей отдаленности от них, Павел Григорьевич крикнул: «А кресло в твоей комнате все то же? Я его всегда вспоминаю!» А между тем в комнате, где жила Анна Борисовна, не было никакого кресла! Да и Павел Григорьевич никогда, ни одного раза у нее не был! Что же он хотел сказать этими словами?
Вернувшись из тюрьмы после свидания, Анна Борисовна рассказала об этом товарищам. Кто-то вспомнил, что в конце 3-й линии Васильевского острова жил студент-филолог, которого тоже арестовали одновременно с Павлом Григорьевичем. Товарищи отправились на его бывшую квартиру, поговорили там с хозяйкой. Это оказалась хорошая, сочувствующая женщина. С ее согласия и при ее участии товарищи сделали то, что прозевали сделать жандармы при обыске: вспороли внизу стоявшее в этой комнате мягкое кресло, и в нем оказалось много нелегальной литературы.
Ходила, ходила мнимая невеста Анна Борисовна к Павлу Григорьевичу в тюрьму на свидания, и они все больше и больше привязывались друг к другу. Когда ему вышел приговор — ссылка в Якутскую область, — они обвенчались в тюрьме, и Анна Борисовна пошла за ним в ссылку. Недаром Павел Григорьевич называл маленькую, хрупкую жену: «Зернышко мое!». «Зернышко» верно и предано катилось за ним по тяжелым дорогам его жизни — по этапам, по трудному, почти непроходимому в течение большей части года сибирскому гужевому тракту, отбыло с ним всю ссылку. Только когда якутская ссылка кончилась и Павла Григорьевича выслали под надзор полиции в наш город, Анна Борисовна уехала на время: повидаться со своими родными. Накануне 1 мая Анна Борисовна приехала к мужу, в наш город, потому-то Павел Григорьевич и не успел познакомить ее с нами.
Теперь «Зернышку» снова предстоит катиться по новым путям и пока неизвестно, по каким и куда.
Но вот вернулся фон Литтен, и папа собирается ехать к нему — поговорить о Павле Григорьевиче.
Не знаю, полон ли папа радужных надежд, верит ли он в то, что все пойдет как по маслу, — он узнает у фон Литтена, где содержится Павел Григорьевич, что ему угрожает, а главное, добьется какого-нибудь улучшения его участи. Думаю, что папа на это не надеется и что он в отвратительном настроении, потому что, одеваясь и собираясь, папа поет. Голос у папы до невыносимости плохой, слуха ни на копейку, сам папа говорит, что поет он, только когда сердит на весь мир — «разве можно с таким голосом петь для того, чтобы доставить людям удовольствие?» Но вот папа уже собрался и выходит к нам, в соседнюю, комнату, где кроме нас с мамой, сидит также и Анна Борисовна. Папа почему-то подмигивает нам и говорит тем нестерпимо бодреньким голоском, каким цирковые клоуны заявляют: «Ух, я рад! У меня тетенька вчерась подохла!..» Папа говорит, конечно, не это, но совершенно таким же тоном: «Ну, вы, друзья, тут посидите, а я живым делом слетаю!» — и даже делает какое-то довольно неуклюжее танцевальное па! Все мы аплодируем папиному балетному искусству и идем провожать его в переднюю. Когда папа выходит на лестницу, Юзефа, по своему обыкновению, крестит его спину мелкими-мелкими крестиками.
Мы остаемся ждать папиного возвращения. Спокойнее всех Анна Борисовна. Она диктует мне диктант, потом поправляет ошибки, потом дает мне решить арифметический пример из задачника. Я решаю. Случайно оторвавшись от своего примера, смотрю на Анну Борисовну — она сидит, опустив руки на коле ни и глядя в одну точку. Никого, кроме нас с ней, в комнате нет, и она может свободно расправить душу, ни о ком не думая. Такая в ней — ощутимая для меня, девочки! — тревога, такая боль, что я не решаюсь броситься к ней, обнять ее. Я опускаю глаза на свой пример и продолжаю решать его, не глядя на Анну Борисовну.
Через час с небольшим возвращается домой папа. Он уже уже не поет и не шутит «веселеньким» голоском. Он садится к столу и говорит, ни к кому не обращаясь:
— Скотина! Подлая, бесчувственная скотина!
Потом, немного отойдя, папа рассказывает нам, что именно произошло у жандармского полковника. Фон Литтен, лощеный и блестящий, как всегда, принял папу очень любезно и приветливо. После обычных фраз: «Сколько лет, сколько зим!», «Ну, как поживаете?» и т. д., папа начал рассказывать о том, с чем он пришел. По мере того, как папа говорил, ему казалось, что фон Литтен запирается от него на все замки — сперва запер глаза, остались одни дверцы. Потом запер улыбку, все лицо, даже руки заложил в карманы, так что и рук не стало видно. Потом он спросил у папы:
— Я не совсем понимаю… Что именно вас интересует: кто будет учить вашу дочку или судьба прежнего учителя, господина Розанова?
Папа сказал, что его интересуют оба вопроса.
Фон Литтен помолчал, повертел пресс-папье пальцами с великолепно отточенными ногтями, потом почему-то протянул папе ручку, лежавшую на письменном приборе:
— Взгляните в стеклышко: вид Исаакиевского собора в Петербурге. В таком крохотном размере! Очень искусно сделано.
Папа сказал, что он близорук, а его очки искажают такие вещи.
Тогда фон Литтен сказал:
— Пригласите для дочки нового учителя… Вот все, что я могу вам сказать. А о судьбе господина Розанова не беспокойтесь, с ним будет поступлено по закону.
И встал. Разговор, мол, кончен.
Папа ушел. Все.
Мы долго сидим молча. Потом папа и мама начинают перебирать всех, к кому можно обратиться по делу Павла Григорьевича. Я не преувеличу, если скажу, что этот разговор длится с перерывами до вечера. Называется какая-нибудь фамилия и тут же отвергается: нет, этот не захочет хлопотать за «политического», за революционера.
Уже под вечер папа говорит:
— Ничего не поделаешь, пойду к доктору Королькевичу. Черт с ним…
— Яков!.. — удивляется мама. — Ты же ему руки не подаешь!
Мама говорит правду. Королькевич — тюремный врач, и папа не подает ему руки. Это надо объяснить, потому что сегодняшнему читателю это непонятно.
В каждой тюрьме царской России полагался по штату врач. Были среди них редкие исключения — люди, которые выбирали эту должность, чтобы самоотверженно внести хоть какое-нибудь облегчение в жизнь политических заключенных: положить больного революционера в тюремный лазарет, где пища была чуть получше, добиться возможности давать рыбий жир тем, кому грозила цинга и т. п. В другой книжке я напишу о таком враче-подвижнике, докторе Эйхгольце, — он всю жизнь проработал в тюрьмах и острогах и, в частности, облегчал возможность сохранить жизнь узников одной из самых страшных царских крепостей — Шлиссельбургской каторжной тюрьмы.
Но такие люди были очень большой редкостью. Обычный же тип тюремного врача составлял врач-чинуша, врач-слуга и холоп, скажем прямо — врач-тюремщик. Больше всего такой врач боялся, чтоб его не заподозрили в сочувствии к узникам революционерам, в желании помочь им хоть чем-нибудь. Такие тюремные врачи очень спокойно исполняли свою обязанность: присутствовать при смертной казни — тут врач должен был официально констатировать смерть казненного — и при телесных наказаниях, когда врач должен был определять, сколько розог может вынести тот или другой из тех, кто подвергался экзекуции, порке розгами и т. п.
Королькевич принадлежал именно к этому типу тюремных врачей, Передовая врачебная общественность всеми средствами выражала таким врачам свое презрение, вот почему папа при встрече не подавал доктору Королькевичу руки.
Оттого так удивляется мама, когда папа вдруг заявляет, что он пойдет к доктору Королькевичу.
— Яков Ефимович… — говорит вдруг Анна Борисовна, которая все время молчала. — Не надо, дорогой Яков Ефимович… Не надо вам унижать перед этой гадиной ни себя, ни Павла… Подождем еще, посмотрим. А унижаться не будем… Верно я говорю?
Папа смотрит на Анну Борисовну.
— Верно, милая… — говорит он не сразу. — Подождем — может быть, что и узнаем.
Узнаем мы на следующий же день! Узнаем, где именно находится в заключении Павел Григорьевич. Проникает в эту тайну — умница! — Анна Борисовна. Она нанимает лодку, и, по ее просьбе, лодочник Левон (он в этих делах очень опытный человек!) катает ее по реке Вилии от места стоянок лодок до Антокольской тюрьмы и обратно. Каждый раз, когда лодка едет мимо окон тюремных камер, выходящих на Вилию, лодочник Левон замедляет ход. Зарешеченные окна тюремных камер облеплены заключенными, ожидающими, не проедут ли по реке их родные и близкие, но Павла Григорьевича среди этих заключенных нет
— Еще заезд сделаем, а? — спрашивает лодочник.
Анна Борисовна уже почти потеряла надежду. Но вдруг — почему-то! — решает: «Была-не была — в последний раз!»
И на этот раз в окне одной из камер она отчетливо видит Павла Григорьевича, который машет ей синим платком!.. Его круглое лицо! Его сверкающие зубы!
Нашелся!
Для начала это уже очень много.
На следующий день Юзефа приносит новость: «покоева» (горничная) «жандармского пулковника» (то есть фон Литтена) рассказывала на базаре, что жена полковника вчера внезапно захворала.
— Очень страшно больна! — радостно сообщает Юзефа. — Есть правда, есть она! Так и надо этой собаке Литкину (фамилия фон Литтена в Юзефином произношении)! Так ему, змею, и надо!
Жена фон Литтена больна, около нее трое врачей. Папу не пригласили.
Анна Борисовна огорченно замечает:
— Вот вы, Яков Ефимович, из-за нас потеряли выгодного больного…
— А ну его к черту! — беспечно говорит папа. — Стану я о нем плакать! Да и не обойдутся они без меня. Помяните мое слово, не обойдутся!
Однако проходит еще день, два, три — фон Литтен «обходится» без папы. «Покоева» рассказывает кухаркам на базаре, что «пани пулковица» лежит без сознания, что врачи все время спорят о том, нужна ли операция или можно обойтись без нее. Вечером третьего дня дают срочную телеграмму известному хирургу, университетскому профессору в немецком городе Кенигсберге. Профессор приезжает со своим ассистентом.
Все эти дни Анна Борисовна ежедневно в определенный час плывет в лодке по Вилии мимо тюрьмы и видит Павла Григорьевича. Приходит она после того такая радостная и счастливая, что мы ею любуемся. Поль говорит:
— Поглядеть на такую любовь — уже счастье!
И добавляет:
— Совсем, как я и мой Кики…
Мне становится грустно. Я впервые понимаю, что не всякого человека, не всякую жизнь озаряет такая большая любовь… Бедная Поль! У нее, верно, этого не было… Грустно, когда в итоге всей жизни у человека есть только «моя семейства»: пальма в горшке и одноглазый попугайчик в клетке.
Поздно вечером за папой приезжают: его просят срочно приехать к фон Литтенам. Там он застает весь ученый синклит: известного хирурга — профессора из Кенигсберга, трех местных врачей, и вместе с ними осматривает больную. Потом приезжая знаменитость пьет чай с коньяком и без особого уважения говорит о местных врачах: они-де в своей нерешительности думали обойтись без операции — и пропустили все сроки. Теперь операция уже почти безнадежна, по крайней мере он, профессор Штубе, делать ее не берется: риск огромный, шансы на успех ничтожные. Профессор Штубе просит дать ему возможность отдохнуть до поезда и доставить его утром на вокзал. Гонорар пусть вручат его ассистенту. После этого он ложится спать. Три местных врача, пошептавшись между собой, как гуси в камышах, заявляют фон Литтену, что немецкая знаменитость ошибается: они не пропустили срока для операции — они считали операцию невозможной и безнадежной с самого начала. Конечно, можно оперировать больную и сейчас, но полковник ведь слышал, что сказал профессор Штубе! Стоит ли мучить женщину? Они, врачи, сделали все, что могли, их совесть чиста. Получив гонорар, они тоже уходят.
Папа и фон Литтен остаются одни.
— Доктор… — шепчет фон Литтен, словно ужас схватил его железными пальцами за горло. — Доктор… Я вас умоляю…
— Пошлите немедленно за доктором Роговым и за фельдшерицей Соллогуб, только как можно скорее! — говорит папа. — Положение в самом деле отчаянное… Я ничего вам не обещаю, но я сделаю операцию.
Всю ночь до рассвета идет борьба со смертью. За пульсом больной, за наркозом следит доктор Рогов. Александра Викентьевна Соллогуб, фельдшерица, которая работает с папой уже около десяти лет в госпитале, имеет на этот раз добавочную нагрузку: она не только быстрыми, точными движениями подает папе все, что ему нужно, и делает это раньше, чем он успевает попросить тот или другой инструмент, вату, бинт, — она еще непрерывно обтирает лигнином папино лицо, по которому все время струится пот. Напряжение, волнение, усталость капают с папиного лица, как слезы.
Проснувшись утром, немецкая знаменитость спрашивает у бонны фон Литтенов, подающей ему завтрак:
— Фрау фон Литтен скончалась?
— Нет! — весело отвечает бонна. — Совершенно даже наоборот: она ожила.
Немецкий хирург, позавтракав, осторожно входит в комнату больной. Она спит, но не мертвым, а живым, хотя еще и очень тяжелым сном. Но у немецкого хирурга хороший, наметанный глаз: он видит, что теперь больная еще может оправится и жить.
Около больной, не сводя с нее глаз, сидит Александра Викентьевна Соллогуб. Она делает профессору знак, чтобы он ушел — сейчас больной нужен покой.
Профессор на цыпочках выходит в соседнюю гостиную. Там на полукруглой, как сосиска, кушетке спит мертвым сном худой рыжеусый человек. Это папа. В первый раз в жизни у него не хватило сил добраться до дому — он заснул тут же, где оперировал.
Когда он просыпается, к нему подходит фон Литтен. Он еще тоже не «отошел» от всего, что пережил за эти пять дней: что-то человеческое еще бьется, как жилка, сквозь его лоск и казенную любезность. Он подает папе конверт:
— По этой записке, доктор, родные господина Розанова получат у начальника тюрьмы право на свидания и передачи.
— Полковник, — говорит папа, — можете вы сказать мне, какое наказание ждет господина Розанова?
— Вероятно, высылка в какой-нибудь другой город… Это решится в течение ближайшего месяца… Могу вам еще сказать, что выслан он будет не по этапу, а по проходному свидетельству… Это значит, что ему можно будет поехать туда по железной дороге.
— Последняя просьба, полковник. Вы сами сегодня имели возможность убедиться в том, как хорошо, когда врач знает свое дело… Господин Розанов имеет почти законченное врачебное образование, он талантлив. Он работал у меня здесь в госпитале как практикант… Сделайте правильное дело: вышлите его в такой город, где есть медицинский факультет…
— То есть как это? — растерянно говорит фон Литтен. — В Петербург? В Москву?
— О нет, зачем! Можно скромнее… В Казань, например… Или в Харьков…
Фон Литтен сосредоточенно думает:
— Что ж, это мысль… Не обещаю, ничего не обещаю, — предостерегающе поднимает он руку, — но подумаю.
— До свидания! — говорит папа.
— Честь имею кланяться! — отчеканивает полковник фон Литтен.
Глава семнадцатая. Древницкий
Дни идут, они даже бегут быстро, вприпрыжку; как шаловливые дети, Анна Борисовна ходит в тюрьму на свидания, носит туда передачи. В передачах деятельное участие принимают Юзефа мама — жарят котлеты, пекут булки. Скоро, вероятно, судьба Павла Григорьевича решится и они с Анной Борисовной уедут из нашего города. Об этом я думаю с грустью.
К Юльке я хожу через день. Отца мальчика-«полковника» выпустили из тюрьмы, он уже работает. А про Вацека ничего не известно, и Юлька очень горюет.
— Я Вацека так люблю, так люблю… — тихонько и жалобно говорит Юлька. — Ну, вот почти так сильно, как тебя, Саша!
Мне радостно слышать эти слова. Еще три месяца тому назад мы с Юлькой по этому случаю обнялись бы, поцеловались, может быть, даже заплакали! Но, ох, сколько мы пережили за эти три месяца! Как мы повзрослели… Я протягиваю руку и крепко пожимаю Юлькину.
— Ого! — замечаю я. — У тебя руки крепкие стали…
Юлька вообще очень поправилась. Она уже не лежит, а чаще сидит на своем одеяле. Почти совершенно пропали опухоли-браслеты на ее руках и ногах. Самые ноги хотя все еще не ходят, но уже не похожи на серые, размоченные макароны, в них появилась какая-то жизнь. Юлька уже слегка шевелит ими. Папа уверяет, что Юлька скоро начнет ходить.
Еще одна перемена появилась в Юльке, перемена, связанная, вероятно, влиянием на нее Степана Антоновича: она стала смелее. Степан Антонович очень любит Юльку, а уж как она любит его! Когда он иногда на минуточку прибегает к ней на берег реки, Юлька вся светится радостью,
— Таточку! — говорит она. — Татусю! — и крепко обнимает его за шею.
Вероятно, от общения со Степаном Антоновичем Юлька стала гораздо лучше говорить по-русски — и правильнее, и слов у нее стало больше. Например, как-то, говоря о Павле Григорьевиче, Юлька очень четко выговорила по-русски:
— Он спра-вед-ливый человек!
Теперь у нас с Юлькой появилась новая игра: афиши. Юлька собирает афиши. У входа в ресторан каждый день наклеивают новые афиши, и вечером Степан Антонович приносит их Юльке. Бывает так, что расклейщик и утром дает Степану Антоновичу одну лишнюю афишу для Юльки. По этим афишам я учу Юльку читать. Юлька старательно прочитывает заглавие пьесы, сперва просто складывая буквы в слоги и слоги — в слова. Потом она начинает разбирать смысл прочитанных слов и чаще всего остается недовольна.
— «Пу-те-ше-стви-е на луну»… Вот какое глупство! Чи ж она близко, та луна? На чем туда ехать?
Или:
— «Пре-жде скон-ча-лись, пo-том по-вен-ча-лись»… А кто же их, покойников, венчал, а?
Бывают и такие афиши: «ВСЕМИРНО ИЗВЕСТНЫЙ ДОКТОР ЧЕРНОЙ И БЕЛОЙ МАГИИ РОБЕРТ ЛЕНЦ». На афише изображен плотный мужчина с баками, во фраке, лацканы которого увешаны всевозможными орденами и звездами. Афиша перечисляет эти знаки отличия: орден «Льва и Солнца», пожалованный господину Роберту Ленцу его величеством шахом персидским, орден, пожалованный индийским магараджей, и т. д. без конца. Я с удовольствием отмечаю, что таких Георгиевских крестов за храбрость, какие были у моего дедушки Семена Михайловича, у доктора Роберта Ленца нет. Мы с Юлькой долго пытаемся разгадать, что могут значить слова «белая и черная магия». Афиша перечисляет все, что покажет «уважаемой публике» доктор Роберт Ленц: он покажет таинственные исчезновения и появления людей и предметов — по знаку его палочки из дощатого пола будут расти великолепные растения, он сготовит «яичницу в шляпе» любого человека из публики, а затем яичница превратится в букеты цветов, которые господин Роберт Ленц будет иметь удовольствие поднести всем присутствующим дамам…
«Спешите! Спешите! Одна-единственная гастроль!»
Прочитав афишу, мы с Юлькой молчим — мы совершенно раздавлены чудесностью всего того, что делает господин Роберт Ленц. Потом Юлька, тряхнув головой, робко замечает:
— Может, брехня, а?
— Не знаю… Я спрошу у папы.
— Во-во, спроси!
Но спросить у папы мне не удается, потому что в этот день его нет дома до поздней ночи, а назавтра… Ох, назавтра в нашу жизнь, Юлькину и мою, входит новая афиша, и с нею врывается к нам целый мир волнений, тревог, восторгов!
…ДРЕВНИЦКИЙ!..
…ДРЕВНИЦКИЙ!..
…ДРЕВНИЦКИЙ!..
Это новое имя, никому доселе не ведомое, выкрикивают все афиши, наклеенные на афишных щитах, тумбах и даже просто на стенах домов.
Люди подходят к афишам — что это еще за Древницкий? Люди читают афиши — на всех лицах сильное недоумение. Люди шевелят губами, словно спотыкаясь о непривычные, непонятные слова… В афишах сказано, что такого-то числа такого-то года — ВПЕРВЫЕ! НЕБЫВАЛО! НОВО! — известный воздухоплаватель Древницкий совершит над нашим городом полет на воздушном шаре и спустится на землю при помощи парашюта. Взлет состоится в Городском ботаническом саду. Вход на взлетную площадку платный, но дети моложе десяти лет, учащиеся в форме и нижние чины платят половину.
На афишах яркими красками изображено нечто вроде гигантской груши, парящей в воздухе хвостиком вниз и одетой в сетку для мячика. Это и есть воздушный шар. Под ним, к узкому концу сетки, подвешена плетеная корзинка, а в ней стоит крохотный по сравнению с размером воздушного шара человечек. Руки его подняты вверх словно для приветствия. Тут же, рядом, изображен человек, летящий по воздуху под огромным раскрытым зонтиком, — это парашют.
Итак, оказывается, этот Древницкий — так, по крайней мере, уверяет афиша — будет летать по воздуху!
В те далекие времена — около семидесяти лет назад — никто из обыкновенных людей даже не представлял себе, чтобы человек мог летать. Летали только герои в сказках. Ну, те вообще жили с такими удобствами, каких не знали простые смертные; с коврами-самолетами, скатертями-самобранками, волшебными лампами Аладдина. Но в обыкновенной, всамделишной жизни летать было невозможно; считалось, что «до этого человек еще не дошел». Правда, на Всемирной Парижской выставке 1890 года желающие могли за определенную плату подниматься в воздух на привязном воздушном шаре. Но о других полетах что-то не было слышно.
Основным и главным способом передвижения в нашем городе, как почти во всех провинциальных городах, были в то время — собственные ноги. Век был пешеходный. Об автомобилях тогда не мечтали еще даже короли. У людей со средствами были собственные коляски. За деньги можно было ездить и на извозчиках — «ваньках»: это были пролетки с высоченными ступеньками и узким, всегда запыленным сиденьем для двоих. Эти пролетки тащили утомленные жизнью клячи: они неторопливо переступали старчески мохнатыми ногами, похожими на обомшелые лесные коряги. В самом извозчике главную часть веса составляла его «упаковка»: тяжелый длиннополый кучерской армяк с устрашающим тумбообразным нагромождением складок на заду. В нашем дворе жил извозчик. В армяке он был похож только что не на Илью Муромца, а когда снимал армяк, было такое впечатление, словно сняли кожу с громадного апельсина, а внутрь оказалось одно зернышко: небольшой, щуплый человечек.
Ехали пролетки медленно. Порой извозчик делал вид, будто сейчас ка-ак подхлестнет свою лошадь! Лошадь при этом притворялась, будто она сейчас ка-ак понесется вскачь! Но это была невинная комедия, никого не обманывавшая. Несколько оживлялся извозчик лишь тогда, когда въезжал в какую-нибудь особенно извилистую, червеобразную старинную улочку. Ведь, въезжая в нее, он не видел, что делается в противоположном ее конце! Поэтому извозчик, въезжая, оглушительно орал и гикал, чтобы предупредить одновременный въезд встречного извозчика с противоположного конца улочки. Иногда столкновения все-таки происходили, и это было почти катастрофой: разъехаться в этих узеньких старинных улочках нашего города столкнувшиеся извозчики не могли, уступить дорогу, попятившись назад, ни один их них не соглашался. Оба долго препирались, неистово ругаясь. Для тех седоков, которые торопились — например, на вокзал, к поезду, это было настоящим бедствием!
Так передвигались в то время в нашем городе, да, вероятно, и во всех российских городах. Десятки — в собственных экипажах, сотни — на извозчиках, тысячи и десятки тысяч горожан — «на своих на двоих»: пешком.
И вдруг какой-то Древницкий собирается лететь! Лететь по воздуху! Как птицы!
— Мне Степан Антонович обещал: он меня на скамейку посадит, я все увижу! — говорит Юлька. — Это же у нас в «Ботанике» будет!
Дома я спрашиваю у папы: разве может человек летать по воздуху?
— Может! — говорит папа. — Это еще начало: человек может только подниматься в воздух. Направлять свой полет, как делают птицы, он не может: шар летит не по воле человека, а по воле ветра, а спускается человек с парашютом. Видела — на афише нарисован желтый зонтик? Это парашют.
— Какой же он, этот воздушный шар? — растерянно спрашиваю я.
— А ты игрушечные воздушные шарики — вербные, разноцветные — знаешь? Если выпустить его из рук, он улетит вверх, в облака, да? А если перед тем прикрепить к нему бумажную куколку, он с куколкой полетит. И будет лететь до тех пор, пока из него не выйдет весь воздух, тогда он упадет на землю…
— Так то же куколка!
— А Древницкий полетит не на маленьком игрушечном шарике, а на громадном шарище, наполненном нагретым воздухом. Когда воздуха в шаре останется уже мало, Древницкий спустится с парашютом.
— И как только он может! — говорю я все еще недоверчиво.
— Может! Человек все может! Человек такое может, что нам с тобой, Пуговка, и во сне не снится… Вот теперь воздух завоевывает. И что ты думаешь? Завоюет!.. Люди будут садиться в воздушные шары, как на извозчика!
Возвещенный афишами полет Древницкого перебудоражил весь город! Кто может, покупает билет в Ботанический сад, чтобы видеть самый взлет воздушного шара с воздухоплавателем. У кого нет денег на билет, те карабкаются на деревья, на балконы, на крыши домов, на колокольни церквей и костелов.
Мы идем в Ботанический сад всей семьей — и мама, и Поль, и Анна Борисовна, и я. Даже папе неожиданно повезло: его никуда не вызвали к больному, и он идет с нами.
В Ботаническом саду, на большом кругу, где зимой устраивается каток, разожжен гигантский костер. Над костром тихо покачивается громадный матерчатый шар: он медленно наполняется нагретым воздухом, как спеющая ягода наливается соками. С шара спускаются канатные лямки-петли, за эти лямки солдаты удерживают шар руками и ногами, чтобы он не улетел.
А рядом с костром, из которого шар набирает нагретый воздух, стоит сам воздухоплаватель — Древницкий… Только посмотреть на него, и сразу видно: вот смелый, бесстрашный человек, герой! У Древницкого прекрасное, мужественное лицо, зоркие и внимательные глаза под низко надвинутым широким козырьком фуражки. Невозможно представить себе, чтобы Древницкий мог растеряться, прийти в отчаяние, побледнеть от страха, заметаться: «Ах, ах, что мне делать?..» Мы с Юлькой, сидя рядом на садовой скамье, смотрим на Древницкого, как и все дети в этой огромной толпе, с восторгом, мы уже любим этого незнакомого человека, мы верим, что он сделает невозможное: он полетит! И мы всей душой желаем ему удачи… Я тихонько пожимаю руку папе. Я знаю: он чувствует то же, что и я.
Но вот шар уже наполнился нагретым воздухом, стал круглым, упругим, как мяч великана.
Древницкий с улыбкой снимает фуражку, раскланивается с толпой людей, не сводящих с него глаз, легко прыгает в корзинку, привязанную к шару (она называется «гондола»). Кто-то бросает Древницкому белую розу. Он кланяется и вдевает ее в петлицу. Затем он дает солдатам команду: отпустить те канатные лямки-петли, которые они удерживают руками и ногами. Солдаты отпускают лямки, шар вздрагивает, и, как созревшая ягода отделяется от стебелька, так он взмывает над костром — и несется ввысь!.. К облакам!
Большинство людей, живущих сегодня на свете, застали уже хотя бы ранние зачатки настоящей авиации. Люди уже привыкли к тому, что летать по воздуху — будничное, обыденное дело: в самолет люди садятся, если не «как на извозчика», по предсказанию моего папы, то как в большой междугородний автобус. И людям, живущим в наши дни, уже трудно представить себе то чувство, с каким шестьдесят с лишним лет назад мы смотрели первые полеты на неуправляемых воздушных шарах. Ведь миллионы лет человечество жило, не отрываясь от земли! А тут вдруг отдельные смельчаки, герои — может быть, безумцы! — опрокидывают все принятые понятия и летят, летят, как птицы, — только без надежных птичьих крыльев и хвоста, — летят, рискуя жизнью… Я уверена, что те немногие очень старые люди которые это видели, навсегда запомнили чувство, возникшее у них в первую минуту, когда на их глазах шар отделился от земли: ЧУВСТВО ЧУДА!
Шар с Древницким взвивается все выше, и вся толпа единой грудью кричит: «Ур-р-ра!» Кричат не только зрители в Ботаническом саду — кричит весь народ, люди на деревьях, на колокольнях, на крышах и даже просто идущие по улицам: ведь шар летит высоко, он виден далеко вокруг! Он виден отовсюду
Кричат мама и Анна Борисовна. Поль не только кричит «ура», она аплодирует шару и приветственно машет ему своим неразлучным зонтиком-стульчиком. Она плачет от радости и повторяет сквозь слезы: «Я это видела! Я это видела!»
Никто из нас не замечает того, что происходит с Юлькой. Она сперва, как все мы, хлопает и кричит «ура» так сильно, что у нее краснеют лицо и шея. А потом она сползает со скамьи и идет! Юлька рванулась и идет своими неокрепшими ногами, вчера еще не ходившими, за воздушным шаром, за Древницким! Она качается, как травинка, она делает всего несколько неверных шагов. Первой замечает это мама. Она бросается к Юльке как раз вовремя, чтобы подхватить ее, иначе Юлька грохнулась бы на землю.
Юльку сажают на скамейку. Она смотрит на шар и повторяет счастливым голосом:
— Я хожу! Я хожу!
Глава восемнадцатая. Еще о Древницком
То, что сейчас описано, заняло всего несколько .коротеньких минут. Но еще не отгремели крики и аплодисменты, как становится ясно, что случилось страшное несчастье. На одном из канатов-лямок, за которые солдаты перед взлетом удерживали шар на земле, теперь явственно видно — висит человек! Немедленно по толпе бежит догадка: один из солдат не успел выпростать ноги из канатной лямки и его подняло вместе с шаром. На фоне светлого летнего неба шар поднимается все выше и выше, неся двоих: один стоит в гондоле шара, другой висит на канатной лямке.
Только что было шумно, радостно, люди кричали, аплодировали. Сейчас словно громадной крышкой прикрыло весь крут, на котором стоит толпа, и все замолкло. Люди стоят, как оглушенные неожиданностью несчастья, молчаливые, растерянные.
Что будет?
Затем сразу вспыхивают споры, догадки, предположения. Все разговаривают друг с другом, как знакомые. Каждый хочет услышать от другого что-нибудь ободряющее, утешительное.
— Папа, — шепчу я, — Древницкий не может спуститься с шаром обратно?
— Не может. Шар-то ведь неуправляемый. Не Древницкий его ведет куда хочет, а шар несет Древницкого по ветру…
— Ничего с Древницким не случится! — очень уверенно и громко говорит рядом с нами какой-то господин в элегантной шляпе-котелке, надетой чуть-чуть набок.
Немедленно вокруг него образуется кольцо людей.
— По-вашему, все кончится благополучно?
— Для Древницкого? Конечно! Сейчас он спустится с парашютом, и все будет отлично.
— Вы думаете, Древницкий спустится с парашютом?
— А как же иначе! — говорит шляпа-котелок. — Ведь он понимает не хуже нас с вами, что не воспользоваться сейчас парашютом — это же верная смерть! Нет, он спустится с парашютом!
— А солдат? — спрашивает папа, и я слышу по голосу, как он волнуется.
— Ну, солдату, конечно, аминь! — спокойно заявляет шляпа-котелок. — Древницкий спустится с парашютом, из шара вытечет последний воздух, и солдат загремит на землю. С такой высоты, представляете?
— Значит, вы думаете, Федор Викторович, — спрашивает папа (он, оказывается, знает шляпу-котелок), — вы думаете, Древницкий бросит солдата на произвол судьбы? Погибай, мол, да?
— А конечное дело так! — раздается знакомый голос, — и в группе людей, окружающих Федора Викторовича, мы видим Владимира Ивановича Шабанова. Мы не видели его с самого 1 мая, когда они поссорились с папой. Сейчас Шабанов смотрит на папу злыми глазами, хотя обращает свои слова не к нему, а к Федору Викторовичу. — Правильно рассуждаете, Федор Викторович! Спасти солдата Древницкий все равно не может, а себя спасти может, если спустится с парашютом. Он это и сделает. Своя, знаете, рубашка ближе к телу… — заканчивает Шабанов со смешком.
Тут папа говорит, ни к кому не обращаясь:
— Есть две отвратительные поговорки: «Моя хата с краю!» и «Своя рубашка ближе к телу!» Если бы все думали так, человечество до сих пор жило бы в пещерах, одевалось в звериные шкуры и разговаривало ударами дубины!
В группе вокруг нас смех, сочувственный папе.
— Правильно! — говорит какой-то человек, пожимая папе руку. — Правильно, доктор!
— А в Древницкого я верю! — продолжает папа. — Он героический человек, он не станет усыплять свою совесть обывательскими поговорочками… И вон — смотрите! — шар еще виден, маленький-маленький, как булавочная головка… А никто с него с парашютом не спускается!
Проходит еще минута, другая, — булавочная головка совсем исчезает из виду.
— Ну, друзья мои, — обращается к нам папа, — мне пора в госпиталь. А вы как? Я вам советую — побудьте здесь, в саду, еще часок-другой. Здесь раньше всего станет известно, что с Древницким. Я из госпиталя тоже приеду сюда, к вам. Дома-то ведь мы от одной неизвестности истомимся!
Мы остаемся в саду. Юлька дремлет на скамейке — она все-таки пережила большое волнение, настолько сильное, что даже начала ходить. Сейчас она от всего этого скисла, и заснула, положив голову на колени Анны Борисовны. Мы все тоже молчим.
Большинство зрителей остались, как и мы, в Ботаническом саду: дожидаться известий о Древницком и солдате.
Ожидание тянется мучительно. Время от времени происходит ложная тревога, как на вокзалах, когда кто-нибудь кричит: «Идет! Поезд идет!» — и все бросаются подхватывать свои узлы и чемоданы. Так и тут: где-то кто-то что-то выкрикивает, все устремляются туда, а оказывается — одни пустяки. О Древницком и о солдате ни слуху ни духу. Как в воду канули.
Приезжает папа, сидит с нами, тоже томится.
И вдруг крик:
— Подъехали! Подъехали!
— Идут сюда!
Появление Древницкого и солдата вызывает целую бурю криков и аплодисментов. Их ведут на веранду ресторана. Сквозь толпу к папе протискивается какой-то человек:
— Доктор, пожалуйста, посмотрите, что с Древницким… Пожалуйста, за мной, на веранду… Пропустите, господа!
Толпа расступается, папа идет на веранду ресторана, ведя за руку меня. Я иду за папой, ничего не видя, кроме Древницкого.
— Спасибо, доктор, — говорит папе Древницкий, — у меня пустяки, ссадины.. А вот спутнику моему, солдату Путырчику, нужна помощь.
У Путырчика все цело, ничего не сломано, не вывихнуто, но он какой-то странный. Неподвижный взгляд, как бы отсутствующий… Смотрит в одну точку. Он не сразу откликается даже на свою фамилию и будто не понимает, что ему говорят.
— Путырчик, друг, — говорит Древницкий, — на, выпей — душа оттает…
Путырчик осушает рюмку, утирает губы краем ладони, но не становится ни веселее, ни живее.
— А как я тебе кричал, когда мы летели, помнишь?
Путырчик, помолчав, отвечает:
— Ваше благородие до мене кричали: «Держись крепчай! Не отпускай вяровку! Держись крепчай, а то пропадешь…»
— И ты держался?
— А як же ж! Сказано було: «Держись крепчай», — я и держаусь…
Путырчика увозят в казарму.
— Плох он, доктор? — спрашивает Древницкий.
— Не очень хорош, — соглашается папа. — Может, отойдет, конечно… Но, видно, потрясение было чрезмерным.
Пока папа смазывает йодом и перевязывает ссадины на его руках, Древницкий рассказывает, что с ними произошло. Когда Древницкий обнаружил, что на петле висит солдат, он испугался, как бы солдат не выпустил из рук каната: он бы тогда сразу грохнулся на землю. Оттого он и кричал солдату все время: «Держись крепче, не то пропадешь!»
— Даже голос сорвал кричавши! — шутливо жалуется Древницкий.
Потом, когда из шара вытек весь воздух, пустая оболочка шара, похожая на выжатый лимон, стремительно падая, понесла их на землю. Вот тут им повезло: оболочка шара упала на деревья пригородного леса. Только это их и спасло…
— Честно говоря, — признается Древницкий, — я сегодня живым остаться не чаял!
— А почему вы не спустились с парашютом?
— Бросив солдата?! — В голосе Древницкого звучит удивление. — Бросив его одного на верную смерть? — И, помолчав, добавляет: — Нет. Я так поступить не мог.
Прощаясь с папой, Древницкий спрашивает:
— Сколько я должен вам, господин доктор?
— Вы с ума сошли! — сердится папа. — Неужели вы не понимаете, что вы меня оскорбляете!
— Милый, не надо! — обнимает его Древницкий. — Я же не хотел… Может, еще увидимся когда-нибудь, я буду рад!
Он прощается и со мной. Вынув из петлицы завядшую белую розу, он дарит ее мне. И мы уходим.
— Папа, — спрашиваю я, — почему ты повел меня с собой?
— Я хотел, чтобы ты посмотрела на Древницкого. Это нужно видеть. И — запомнить.
Мы с папой возвращаемся к своим. Юлька, словно завороженная, смотрит на полумертвую розу в моей руке.
— Это Древницкого цветок?
— Древницкого! — говорю я гордо. — Он мне дал!.. Я засушу… на память…
Невольно я взглядываю на папу… Он смотрит на меня пристально, неотрывно и что-то не очень ласково.
Конечно, я понимаю, о чем думает папа. Но, ох, до чего мне жалко отдать этот цветок!
— Возьми, Юлька…
Когда мы уже подходим к своему дому, папа говорит мне:
— Если бы ты сегодня не отдала Юльке цветка, это было бы для меня… ну, как тебе сказать… горе, да, да, самое настоящее горе!.. Потому что я бы думал, что ты самая злая жадюга из всех самых злых жадюг!
Папины опасения относительно солдата, нечаянного спутника Древницкого, оправдались. Когда на следующий день был опубликован приказ военного командования: «Рядовой такого-то полка Путырчик за проявленные им смелость и присутствие духа награждается двадцатью рублями», — бедняга Путырчик уже не воспользовался этой наградой: от всего пережитого он сошел с ума.
Несколько дней спустя афиши возвещают новый полет Древницкого. Первый полет, в котором он показал себя таким благородным человеком, он считает для себя, воздухоплавателя, неудачей и во что бы то ни стало хочет «выправить линию».
Ох, этот второй полет наносит ему новый удар!
Перед самым взлетом из-за чьей-то неосторожности шар воспламеняется от костра и сгорает буквально в несколько минут на глазах у всех зрителей и самого Древницкого. Вот когда все видят, что и Древницкий может побледнеть… Он смотрит на гибель своего шара, и кровь явственно отливает от его смелого лица.
Стоимость такого шара, наверно, очень велика, а доходы от публичных полетов ничтожны. Ведь девять тысяч населения смотрят полеты бесплатно: они видны отовсюду. Плата за вход на взлетную площадку, вероятно, едва покрывает расходы воздухоплавателя по найму этой площадки, по наполнению шара, охране его и т. д.
…Шар сгорел. Толпа стоит молчаливая. Сам Древницкий словно оцепенел. Кто-то из зрителей снимает с головы фуражку, кладет в нее деньги: «Древницкому — на новый шар!» И фуражка идет из рук в руки. Видно, как она плывет по толпе, словно челнок. Люди дают охотно, горячо. Кое-кто из женщин, плача, кладут в фуражку вынутые из ушей недорогие серьги, снятые с пальцев колечки с бирюзой… Фуражка несколько раз возвращается наполненная и снова, пустая, идет в плавание.
Через некоторое время Древницкий совершает у нас полет уже на новом шаре. Трудно даже описать волнение зрителей и их восторг, когда полет проходит великолепно, — что называется, без сучка, без задоринки. Толпа несет Древницкого на руках по аллеям Ботанического сада — к веранде ресторана. Древницкого буквально засыпают розами. Увидев в толпе папу, Древницкий протягивает ему целую охапку раз:
— Здравствуйте, доктор! А это для дочки!
Я слышу где-то в толпе, голос Риты Шабановой:
— Мама! Древницкий опять Сашке Яновской розы подарил!
И тут же ясный голос Зои, протяжный и ленивый:
— А тебе завидно, да?
С тех пор я больше не видела полетов Древницкого. Но имя его встречалось нередко на страницах газет. Часто в них рассказывалось о случаях, когда смелый воздухоплаватель спасался лишь чудом. А в основе этого чуда всегда лежала героическая смелость Древницкого, его находчивость и выдержка. Как-то в Риге его парашют отнесло далеко в море, и Древницкий уцелел только благодаря надетому перед полетом пробковому поясу, давшему ему возможность продержаться на воде до тех пор, пока подоспела спасательная лодка. В другой раз, в Петербурге, спрыгнув с парашютом, Древницкий едва не погиб, опустившись на трамвайные электрические провода. После 1914 года имя Древницкого совершенно заглохло. Казалось, изгладилась всякая память о нем. Фамилия его не упоминалась ни в одной из энциклопедий, предназначенных для широкого читателя. Даже специалисты — научные работники, в частности, по истории воздухоплавания — не знали о нем почти ничего. Когда я обращалась к ним с вопросами о судьбе Древницкого, они ничего не могли сообщить мне, — наоборот, они радовались возможности услышать от меня о виденных мною в детстве полетах Древницкого.
Несколько лет тому назад журнал «Пионер» напечатал мой рассказ о герое моего детства, воздухоплавателе Древницком. Советские школьники — в буквальном смысле слова «прочесали» все, что можно, в поисках следов Древницкого. Но не помогла и удивительная напористость советских школьников-пионеров: так же, как и я, они не отыскали никаких следов. И было грустно думать, что этот замечательный герой, один из пионеров русского воздухоплавания и парашютизма, безвозвратно забыт… Даже инициалы его имени и отчества не были известны никому!
Однако в самое последнее время все это неожиданно повернулось иначе!
Один из моих читателей, студент (ныне ленинградский инженер.) Г. Т. Черненко, заинтересовавшись судьбой и личностью Древницкого, посвятив несколько лет поискам этого героического воздухоплавателя и парашютиста, собрал большой и интересный материал.
Отсылая интересующихся к той книге, которую Г. Т. Черненко готовит для печати, я скажу лишь о том, что имеет непосредственное отношение к настоящей моей книге. Древницких было два брата, Станислав и Юзеф. Оба — выдающиеся воздухоплаватели и парашютисты. Все то, что читатель прочитал здесь в этой моей книге, относится, оказывается, к Станиславу Маврикиевичу Древницкому-старшему, рано погибшему при воздухоплавательной катастрофе.
Глава девятнадцатая. Мы прощаемся с Павлом Григорьевичем
На последнем полете Древницкого Анна Борисовна не присутствовала, хотя и собиралась быть. Но, когда мы возвращаемся домой, Юзефа встречает нас сияющая, как начищенный медный подсвечник:
— Учителя нашего выпустили!
Мы все набрасываемся на Юзефу с вопросами, но она знает только, что прибегала «учителька» (Анна Борисовна), что она была «такая радая, такая радая!..»
— «Юзефочко, говорит, дорогой вы человек! Мужа моего сегодня выпустили с острога! Пошел свидетельство выправлять, сегодня ночью, говорит, уезжаем!..» Так и сказала: «Юзефочко, дорогой человек!» — повторяет Юзефа растроганно.
Приходит и Анна Борисовна. От радости она немного растерянна, словно боится верить счастью. Она объясняет, что Павла Григорьевича действительно выпустили — дали ему в полицейском управлении так называемое «проходное свидетельство» в Харьков.
Фон Литтен исполнил свое обещание!
— А как же вы успеете до ночи уложиться? — беспокоится мама.
— Да какие у нас пожитки, Елена Семеновна! Уже все уложили…
— А почему вы пришли без Павла Григорьевича? Посидели бы с нами последний вечерок!
— Да это все Павел мудрит: говорит, что это неконспиративно, что мы вас можем подвести…
— Вот что, дорогая моя Анна Борисович: за нас можете не беспокоиться — пока фон Литтен сидит на своем месте, будьте спокойны, он себе не враг. Ни один волос не упадет с моей головы. Сию минуту ступайте за Павлом Григорьевичем! — командует папа.
Павел Григорьевич и Анна Борисовна приходят скоро — уже со всеми вещами: прямо от нас они отправятся на вокзал. Павел Григорьевич отлично выглядит. Словно и не сидел в тюрьме!
— Я же каждый день дышал воздухом у окна в ожидании, когда моя Анна Борисовна поплывет мимо тюрьмы на лодке!
Анна Борисовна и Павел Григорьевич смотрят друг на друга так, словно разговаривают глазами:
«Да?»
«Ну конечно!»
«Навсегда?»
«А то как же!»
«Ну вот и отлично!»
Павел Григорьевич говорит маме:
— А какие котлеты, какие роскошные булки посылали мне вы, Елена Семеновна и Юзефа! Я просто обжирался!
— Не верьте ему, Елена Семеновна! — смеется Анна Борисовна. — Он, наверное, всю тюрьму кормил вашими гостинцами, я его знаю!
Трудно даже описать, как все в доме радуются возвращению Павла Григорьевича! Правда, за этим возвращением через часок-другой настанет разлука — может быть, навсегда, — но пока это радость, от которой, кажется, даже лампы горят веселее.
Поль подходит к Павлу Григорьевичу и просит его на минуту зайти в нашу комнату. Павел Григорьевич исполняет ее просьбу, и одноглазка Кики сразу вспархивает к нему на плечо.
— О, Кики такой умный! Он безошибочно узнает, кто хороший, кто нет… И он радуется, когда видит хороших людей!..
Мы сидим за столом. Папа прежде всего дает Павлу Григорьевичу письма к тем своим товарищам по Военно-медицинской академии, которые работают сейчас в Харькове, — врачам, университетским преподавателям. Потом разговор становится общим, все смеются, чокаются (мама достала заветную вишневку!), пьют чай с абрикосовым вареньем Юзефиной варки…
Настает пора расставаться: время ехать на вокзал.
— Будешь нас помнить, Сашенька?
— Всю жизнь! — обещаю я.
И ведь правда: я навсегда запомнила этих людей — Павла Григорьевича, первого революционера, увиденного мной в жизни, и милое, чудесное «Зернышко», Анну Борисовну. И почему-то в моей памяти Павел Григорьевич переплелся с Древницким. Разные, а какие похожие! Оба смелые, оба героические, оба любят людей больше, чем себя, оба видят далеко-далеко вперед! Один, летая на неуправляемой тряпке, видит впереди завоевание воздуха. Другой, ведя работу среди горсточки фабричных рабочих, видит впереди революцию!..
— Ты не спишь? — Это папа присел около моей кровати.
— Не сплю… Думаю… Папа, а ты — не революционер?
— Нет, Пуговка. Не революционер.
— Почему?
— Почему? — медленно повторяет папа мой вопрос. — Вероятно, революционер должен быть лучше, смелее, чем я… Он должен быть героем! Ведь они — только у начала своего пути. Их мало, а путь этот, пока они победят, им придется вымостить своими костями… Это будет трудно и долго… Помогать им — вот все, что я могу…
— А победят они?
— Победят. Непременно.
Мы еще молчим недолго. Мне немножко горько думать, что мой папа — он сам это сейчас сказал! — беднее душой, чем революционеры, что он не герой, а просто хороший человек.
— Папа… Я бы хотела, чтобы ты сделал что-нибудь очень хорошее!
— Например?
— Ну, например, пошел — и убил царя!
— Ох, какая Пуговка, какая глупая Пуговица!.. — посмеивается папа. — Настоящие революционеры — такие, как Павел Григорьевич, — это не делают… Они царей не убивают!
— Почему?
— А вот почему — об этом мы поговорим тогда, когда…
Вот оно: так я и знала!
— … когда у тебя коса вырастет!
Глава двадцатая. Свадьба
Коса — она, конечно, очень долго растет. Но маленькая косичка, в несколько сантиметров, такая, чтобы в нее можно было вплести ленточку, — такая у меня к концу лета все-таки уже есть. Это очень приятно. Я поворачиваю голову то вправо, то влево, словно трясу надетыми на уши сережками из вишен! Косичка при этом, правда, не бьет меня по ушам (это еще когда-а-а будет!), но я ощущаю ее у себя на затылке… Это тоже приятно!
В один прекрасный день, когда мы с Юлькой сидим на обычном месте, на берегу реки, куда ее каждое утро приносит Степан Антонович, Юлька говорит мне:
— Завтра придешь?
— Приду.
— Нет, ты приходи непременно. В двенадцать часов, — настаивает Юлька.
— А что?
— Так… — И Юлька делает загадочное и таинственное лицо. Ясно: она знает какой-то секрет.
Однако сохранить тайну до конца она не может.
— Свадьба у нас завтра… — говорит она, сияя. — Мамця со Степаном Антоновичем венчаться идут… Приходи в двенадцать часов. И не сюда — меня здесь не будет. К ресторану приходи, к черному ходу, где наша комнатка… И еще Юзефе скажи, чтоб с тобой пришла! Непременно!
Пока Юлька была больна, ее мать очень подружилась с Юзефой. Она даже называет Юзефу «тетечкой».
— Мы и татку твоего хотели пригласить, да не смеем…
— Папа непременно пришел бы! — горячо уверяю я. — Но в двенадцать часов он в госпитале.
Когда я ухожу, Юлька кричит мне вслед:
— Не забудь: завтра в двенадцать с черного хода! И Юзефа чтобы тоже!
Я очень радуюсь этому приглашению, хотя со словом «свадьба» у меня связаны не очень приятные воспоминания. Я была на свадьбе только один раз в жизни. Выходила замуж двоюродная сестра моей мамы. Я была еще маленькая — лет шести. Дома было много суматохи — одевались, готовились ехать на свадьбу. Пришел дамский парикмахер пан Теодор; он стал завивать маме локоны горячими щипцами, это было ужасно интересно. Пан Теодор нагревал щипцы на керосинке, потом пробовал нагревшиеся щипцы сперва о собственное ухо, о палец, предварительно послюнив его, и, наконец, о кусок газеты, отчего в комнате плыл запах паленой бумаги.
Завивая мамины локоны, пан Теодор все время восхищался маминой красотой:
— Урода! Ах, яка урода!
Я было хотела обидеться за свою маму, но оказалось, что по-польски «урода» означает прелесть, очарование!
Продолжая уверять, что мама первая «урода» во всем городе, пан Теодор сделал ей замысловатую прическу и ушел. Мама надела новое платье, отделанное букетиками искусственных фиалок. Она вправду была очень красива!
В это время приехал папа.
— ПрОшу пана — храк! — сказала Юзефа, помогая папе надеть какой-то диковинный костюм.
Но, когда папа надел его, я просто огорчилась. Мама такая нарядная и красивая, а папа оделся каким-то шутом гороховым! Что это за костюм? Спереди кургузый, а сзади с раздвоенным хвостиком!
— Папа, — взмолилась я, чуть не плача. — Сними эту гадость! Мы же на свадьбу едем, там тебя все засмеют. Подумают, чго ты нарочно…
— Это фрак, — сказал папа очень невесело (ему, видно, самому не нравился его костюм). — На свадьбу, понимаешь, полагается мужчинам надевать фрак… А тебе не нравится? Нет… Мне, брат, тоже не нравится…
— А чего ж там «не нравится»! — сказала Юзефа. — Храк — и храк. Усе настоящие паны храки надевают… А чем наш пан доктор хуже?
Меня тоже принарядили, надели на меня мое любимое платье, — а любила я его за то, что в нем был карман, и даже глубокий. Мне всегда попадало за то, что я теряю носовые платки, а тут как раз было куда класть платок.
Одевая и меня, Юзефа сказала шутя:
— На свадьбу идешь, шурпочка моя, а няню свою не берешь? Будешь там вкусные вещи кушать, а Юзефе — фига?
Я стала горячо протестовать:
— Юзенька, что мне там вкусного дадут, я тебе все-все принесу! Все в карман спрячу — для тебя. Честное слово!
Юзефа посмеивалась:
— Ну, смотри не забудь! Ты ж у меня безголовая.
Юзефа, конечно, шутила, но — я же дала честное слово! И я добросовестно запихала в карман все, чем меня угощали на свадьбе. Карман скоро отяжелел, он крепко ударялся о мой бок, — а главное, он очень заметно оттопыривался. Конечно, мама скоро заметила этот оттопыренный карман и, отведя меня в сторонку, стала его опорожнять… Чего только в нем не оказалось! Груша, сливы, конфеты, а на самом дне — нежное, хрупкое, вконец раздавленное пирожное со взбитыми сливками и вареньем…
Мама была в ужасе.
— Откуда это у тебя?
— Я обещала принести домой Юзефе все, что мне дадут… — чуть не плакала я.
— Какие глупости!
— Ничего не глупости, я честное слово дала!
Кое-как мама вытерла платком мой перепачканный внутри карман, велела мне съесть тут же, при ней, все то, что осталось нераздавленным.
— А жениха и невесту ты поздравила? Видишь, все поздравляют, ступай и ты.
Очень сконфуженная, я протискалась сквозь толпу поздравлявших гостей, подошла к жениху и невесте, сунула каждому из них руку и, как всегда в минуты больших волнений, сказала, перепутывая слова: не «поздравляю вас», а «мерси» — то есть благодарю.
На счастье, тут подошел папа. Я прижалась к нему и от знакомого, милого запаха карболки сразу успокоилась.
— Ничего, брат, бывает… — посмеивался папа. — А теперь все-таки подойди к жениху и невесте и скажи по-людски: «Поздравляю!» А то они подумают, что ты идиотка!
В общем, никакого удовольствия мне та свадьба не доставила. Даже вспомнить неприятно!
Но это было давно.
Теперь я уже большая, скоро пойду экзаменоваться в первый класс! Теперь я уже, конечно, лучше умею вести себя на людях И потому мне очень обидно, что мама, отправляя меня с Юзефой на свадьбу Юлькиной мамы и Степана Антоновича, говорит мне «с намеком»:
— Только, пожалуйста, не пихай, ничего в карман и, когда будешь поздравлять новобрачных, не скажи вместо «поздравляю!» — «с Новым годом».
Удивительная у взрослых способность помнить сто лет всякую чепуху!
Мы с Юзефой (она — нарядная, с шалью на плечах) долго ищем черный ход в садовый ресторан — мы ведь никогда не бывали там даже и с парадного хода.
Но вдруг мы видим: идут по аллейке к ресторану новобрачные — Анеля Ивановна и Степан Антонович — и застываем на месте! Не то чтобы такие уж они были нарядные и великолепные, — дело совсем не в этом. Они идут по аллейке не под ручку, как чинно прогуливаются в праздник мужья и жены, — нет, они держатся за руки, как дети! Анеля Ивановна — чуть притулившись к крепкой руке Степана Антоновича, а он — останавливаясь по временам, чтобы поглядеть на нее…
Они идут СЧАСТЛИВЫЕ. Это понимаю даже я.
Тут из какой-то боковой двери — это и есть черный ход в ресторан — высыпает группа мужчин во фраках. Один из них посадил к себе на плечо Юльку. Открывая в радостной улыбке милые передние зубки, надетые «набекрень», Юлька машет рукой и кричит:
— Мамця! Таточка!
Но тут Юзефа начинает почему-то проявлять признаки беспокойства.
— Якись паны… — бормочет она. — В храках! Куды же я з ими пойду?
Но уже Анеля Ивановна увидела нас, расцеловала и вместе со Степаном Антоновичем ведет нас к себе.
В это время в группе «панов», одетых во фраки, появляется повар в белом фартуке и колпаке. За ним — Гануся, тоже судомойка ресторана, такая же, как Анеля Ивановна. Гануся, видно, сейчас от лохани, с подоткнутой юбкой. Она бесцеремонно расталкивает мужчин во фраках и бросается целовать новобрачных. Она плачет от радости за них, но не касается их своими разведенными в стороны мокрыми руками.
Анеля Ивановна и Степан Антонович целуются с судомойкой Ганусей, с поваром и со всеми господами во фраках.
Но тут старик повар предостерегающе поднимает указательный палец:
— Хлопцы, в зал!
И все господа во фраках опрометью бегут в ресторан. Анеля Ивановна приводит нас с Юзефой в каморочку, где живут они с Юлькой, — под лестницей, со скошенным потолком. Степан Антонович тоже надевает фрак и уходит в ресторанный зал. Анеля Ивановна быстро сменяет праздничное платье на свою каждодневную затрапезку и становится в кухне рядом с Ганусей у лохани. И все становится таким, как каждый день… Нет, все-гаки не все!
— Юлечко! — кричит Анеля Ивановна, и синие глаза ее сияют. — Юлечка, угощай дорогих гостей.
Юлька угощает нас конфетами и яблоками. Анеля Ивановна вбегает на секунду к нам.
— Тетечко! — просит она Юзефу. — Может, вы выпьете килишек (рюмочку)?
И убегает.
Выпив «килишек», Юзефа с удовольствием крякает. Потом она спрашивает Юльку, кто были те паны, которые дожидались новобрачных у входа.
— Так это ж наши лакеи! — отвечает Юлька.
— А почему на них храки надеты?
— Ну как же! В хорошем ресторане лакей всегда во фраке! — объясняет Юлька. — Видели того, кто меня на руках держал? Это Станислав, старший лакей. У него аж два фрака: на будни и на праздник. Ох, он и бережет их! Ведь без фрака его в приличный ресторан не возьмут.
Мимо каморки Анели Ивановны все время пробегают туда и обратно лакеи с подносами, уставленными кушаньями и бутылками, которые они несут посетителям в зал. Из зала доносится музыка — скрипка и рояль. Но, наверно, — наверно! — в зале не так весело, как здесь, в каморке под лестницей, куда время от времени вбегают на секунду то Анеля Ивановна, то Степан Антонович.
В одну какую-то минуту они появляются оба, словно какое-то счастливое облако, соединив, внесло их одновременно. Они весело кивают нам, — сейчас они убегут…
— Горько! — раздается от двери веселый мужской голос. — Горько!
И за спиной новобрачных появляется Вацек! Тот Вацек, который пропал с самого 1 мая!
Он стоит в дверях, рыжий, худющий, заросший, но веселый, как всегда, и улыбается во весь рот!
— Ваць… — узнает Юлька и восторженно хлопает в ладоши. — Ты пришел?
— Да. Пришел.
— Откуда? — ахает Анеля Ивановна.
— Оттуда. Все расскажу подробно, когда меня накормят. Знаете, в тюрьме был очень плохой ресторан… Но послушайте, — что я вам сейчас сказал? Я сказал: «Горько!»
— Горько-о-о! — подхватывают из кухни. — Горько!
Степан Антонович наливает вина в две рюмочки. Берет одну себе, другую подает Анеле Ивановне. Они выпивают вино, глядя неотрывно друг другу в глаза. Потом Степан Антонович кладет руки на плечи Анели Ивановны, они целуются, и Степан Антонович ласково прижимает ее голову к своей щеке. Все это длится одну секунду…
— Степа! — кричат Степану Антоновичу. — Бифштекс на девятый столик! И консоме с пирожком — на одиннадцатый.
И все разбегаются, каждый к своей работе…
— Ну, какая была свадьба? — спрашивает меня дома мама.
— Чудная! — говорю я.
Я и сегодня думаю, что эта свадьба была чудная. Одна из самых чудесных свадеб, какие я видела в жизни. Потому что — счастливая!
Глава двадцать первая. Экзамен
Приходит 5 августа, и меня ведут на экзамен. Не в женскую гимназию, а в институт. Институт этот считается выше, чем гимназия. Из-за этого института у нас дома идут жаркие споры с утра до ночи!
— Все твои выдумки! — говорит мама папе. — В женской гимназии ей будет лучше: там таких, как она, много, и отношение лучше.
Я настораживаюсь: каких это «таких, как я»? Чем я особенная?
Но папа в этом вопросе просто как скала!
— В институте учебная программа больше!
— Подумаешь, программа… — пренебрежительно говорит мама. — Ты бы ее еще в мужскую гимназию отдал, там программа еще больше.
— И отдал бы! Да не берут туда девочек… А в институте программа по математике значительно большая, чем в женской гимназии: проходят даже небольшой курс тригонометрии.
— Тригонометрия… необходимо это для девочки!.. — пожимает мама плечами.
Папа вдруг сердится:
— Да! Необходимо! Без математики нет мышления, а без мышления нет человека!
В итоге этих споров победил папа: мои бумаги подали в институт. Когда знакомые, в особенности моего возраста, спрашивают, почему в институт, почему не в гимназию, мне как-то неловко. Что я могу ответить? Что без математики нет мышления, а без мышления нет человека? Я отвечаю скромненько: так хочет папа, а он, наверно, лучше знает…
Скажу здесь к слову. С тех пор прошло более шестидесяти лет, и я свято чту память о моем отце. Он прожил долгую, хорошую жизнь, он не раз совершал поступки, которые можно смело назвать героическими (об этом я расскажу в другой книге), он умер, презирая своих палачей, не унизившись перед ними ни на секунду. Но вот в этом — в выборе учебного заведения для своей единственной дочки — он был неправ. Я проучилась в этом проклятом институте семь лет, я перенесла в нем много унижений и несправедливостей. А математика, как там ее преподавали, была такой же суррогат, как желудевый кофе… И математике и мышлению я научилась уже гораздо позже, в высшем учебном заведении, а в особенности в жизни.
5 августа мы с мамой отправляемся в институт на экзамен. Когда мы уходим, папы нет дома — его в четыре часа утра позвали к больному и он еще не возвращался. Он оставил мне записку, нацарапанную его неразборчивым почерком:
…Пуговка!
1) Спокойненько, спокойненько!
2) Думать! Не подумав, не отвечай — скажешь глупость!
3) Если очень перепугаешься, вспомни Муция Сцеволу или маленького спартанца с лисицей: им было хуже, но они не подали и виду.
А в общем — все будет хорошо!
Папа
Меня провожает весь дом — Юзефа, Поль, одноглазка Кики. Из всех окон машут соседи. Карман у меня набит, как подушка: все дали мне что-нибудь «на счастье». Юзефа — завернутый в бумажку кусочек какой-то сухой черной гадости («Это священное!»), Поль — морскую раковинку, мама — фарфоровую фигурку зайчика. Старая Хана принесла нам утреннюю порцию бубликов, и один из них, самый золотистый и пузатый, она просит меня положить в карман «на счастье».
От всей этой торжественности мое волнение все усиливается. У меня нет в голове ни одной веселой, смешной мысли! Одно трепыхание и страх!
Мы идем с мамой по улицам. Страх мой перед экзаменом все растет: меня даже слегка тошнит, и у меня начинает болеть живот — не сильно, а как-то тягуче, тоскливо. И совершенно непонятно, почему на улицах все — как всегда! У сквера стоит «халвишник»; его обступили мальчишки, они умоляют дать им облизать нож, которым он отрезает покупателям халву. Из часового магазина хозяин выбежал за ушедшим было покупателем, которого он боится упустить:
— Верьте совести! Себе в убыток: за три рубля семьдесят копеек отдаю. Берете?
В дверях галантерейных лавок приказчицы зазывают покупателей на разные голоса, выхваливая по-польски свой товар:
— Парасолики! Бутики! Кошули! Корунки! Встонжки розмаиты! (Зонтики! Ботинки! Рубашки! Кружева! Ленты разные!)
А я иду в институт на экзамен. Как на смерть… Хорошо папе писать про Муция Сцеволу — тот говорил с врагом, бесстрашно положив руку в огонь, рука горела, но Муций был спокоен! И про маленького спартанца тоже — лисица, которую он скрыл в складках своего платья, прогрызла и порвала ему когтями живот, но он ничем не обнаружил этого перед учителем в школе… так я же тоже не обнаруживаю! У меня живот разбаливается все пуще, я ведь молчу! Но экзамена я все-таки боюсь… Я тихонько пожимаю мамину руку, но у мамы рука холодная как лед, и, кажется, она боится за меня еще больше, чем я сама.
В писчебумажном магазине мама покупает мне карандаш и две тетради: одну в линейку — для русского и одну в клеточку — для арифметики. Узнав, что я иду экзаменоваться, лавочница ахает: «Ну, в добрый час! Счастливо!» — и дарит мне картинку. На ней изящная женская рука двумя хрупкими пальчиками держит пудовый букет роз и незабудок. Красота!
Но вот мы пришли. Длинное трехэтажное здание с безбровыми — без наличников — окнами. Окна до половины закрашены белой краской и похожи на бельмастые глаза базарных слепцов.
В вестибюле мы встречаемся с Серафимой Павловной Шабановой, Зоей и Ритой. Мама и Серафима Павловна встречаются сердечно — все-таки они подруги с детства, а что мужья ссорятся, ну, это их мужское дело. Добродушная толстушка Зоя тоже радостно меня обнимает. Рита, кивнув мне головой, убегает с какими-то девочками, с которыми она только что здесь познакомилась. Мы с Зоей идем вверх по узорной, словно кружевной, чугунной лестнице. На площадке я оборачиваюсь назад — мама стоит в вестибюле вместе со всеми остальными мамами и смотрит мне вслед. У нее в руках моя шляпка с двумя ленточками сзади. Шляпка подпрыгивает, ленточки дрожат — это у мамы от волнения трясутся руки. Бедная моя мама…
Мы с Зоей, идем наверх. В двух огромных, сходящихся под прямым углом коридорах — широких, хоть на тройке ездить! — много девочек, всего больше маленьких, экзаменующихся в первый и приготовительный классы.
— Ты боишься? — спрашиваю я у Зои.
Она смотрит на меня своими красивыми безмятежными глазами:
— Ну, вот еще… Чего же бояться?
— Вдруг срежемся?
— Мы с Риткой не срежемся! — уверенно говорит Зоя. — С нами сама Ирина Андреевна занималась… Каждый день ее к нам в Броварню возили и обратно в город увозили. И стоили, знаешь, эти уроки недешево!
— А кто это Ирина Андреевна?
— Не знаешь? — удивляется Зоя. — Учительница первого класса… Нет, мы не срежемся!
К нам подбегает Рита:
— Зойка, я места заняла. На первой парте!
— И для Саши?
Рита быстро шепчет что-то Зое. Но так громко, что я отчетливо слышу:
— Она же в другом классе будет. С жидовками…
В эту минуту раздается звонок — длинный, сверлящий воз дух. Классные дамы и учительницы — их несколько человек — командуют:
— По классам, медам!.. По классам!
И разводят нас по классам.
Рита ошиблась — меня ввели в тот же класс, где и они с Зоей. Сижу, обалделая, растерянная… Почему я «с жидовками»? Почему мы все «медамы»?..
— Медам! — обращается к нам одна из учительниц. — Вы должны сидеть тихо, не переговариваться между собой, не возить ногами, не стучать пюпитрами… Сейчас мы начинаем устный экзамен по русскому языку… Шамшева Елена! Прошу подойти к столу.
Одна за другой вызываемые девочки подходят к столику, за которым сидят три учительницы. Каждая девочка читает вслух отрывок из хрестоматии. Одни читают свободно, осмысленно, другие — еле-еле, медленно, запинаясь. Потом каждой девочке дают сделать устно грамматический разбор предложений, — предложения все очень простые, например: «Дети побежали в лес» («дети» — подлежащее, «побежали» — сказуемое, «в лес» — обстоятельство места).
В общем, экзамен очень легкий, ну просто самые пустяки спрашивают! Я веселею, у меня перестает болеть живот, и я даже с нетерпением жду своей очереди. Но меня почему-то пока не спрашивают.
Зоя отвечает прилично. Читает не очень бегло, но разбор предложений делает правильно. Зато с Ритой получается очень нехорошо: она плохо читает, только что не по складам, а разбирая предложение «Ночью дети спят», говорит, что «ночью» — это определение. Потом поправляется: «Нет, это обстоятельство места». Миловидная учительница с синими глазками — это, верно, и есть та самая Ирина Андреевна, которая давала им уроки, — очень волнуется. Она ласково и мягко уговаривает Риту «подумать», «вспомнить», задает ей наводящее вопросы, но Рите это мало помогает. Тогда Ирина Андреевна предлагает ей прочитать наизусть стихотворение или басню.
Рита, прокашлявшись, читает:
ЧИЖ и ГОЛУБЬ
БАСНЯ КРЫЛОВА
ЧИЗА ЖАХЛОПНУЛА…
Девочки дружно смеются. Я не смеюсь. Я-то ведь хорошо знаю, как это бывает, когда от волнения говоришь не то, что хочешь!
— Нехорошо, медам! — укоряет их Ирина Андреевна. Она волнуется, лицо у нее пошло пятнами. — Нехорошо смеяться! Шабанова просто оговорилась, это со всяким может случиться… Читайте сначала, Шабанова! Читайте спокойно, не волнуйтесь…
Но не тут-то было! Бедная Рита — она ведь проваливается и знает, что проваливается! — волнуется и от волнения без конца повторяет все ту же обмолвку:
— Чиза жахлопнула злодейка-западня…
На этом ответ Риты кончается. Мне ее ужасно жалко — ведь ее не примут! Когда ей говорят: «Ну, садитесь, Шабанова», — я делаю ей приглашающий жест: сядь, мол, рядом со мной, на свободное место. Но Рита молниеносно быстро показывает мне язык и садится на свое прежнее место. Можно подумать, что не она провалилась и я ее за это жалею, а я провалилась и она меня за это презирает!
А меня все не спрашивают. Я уже очень устала сидеть смирно и вслушиваться в чужие ответы. У меня самой в голове начинают путаться все «образы действий» и дополнения, стихи, басни и прозаические отрывки… На какую-то секунду мне вдруг страшно хочется спать. Я с ужасом думаю: как же я буду отвечать, если я так раскисла?
Ирина Андреевна объявляет нам, что сейчас будет перемена, — можно выйти в коридор. А потом всем уже спрошенным девочкам — перейти в соседний класс, там они будут писать диктовку, а потом — экзаменоваться по арифметике. А те девочки, которых еще не проэкзаменовали по русскому языку, пусть возвращаются после перемены сюда, в этот класс: их будут экзаменовать тут.
Со всех ног бегу к маме — пусть не волнуется, меня еще не экзаменовали. И пусть будет спокойна: экзаменуют очень, очень легко!
— Ну, не так уж легко! — вздыхает Серафима Павловна (они с мамой сидят в вестибюле рядышком). — Риточку мою просто ужас как строго спрашивали!
Я молчу. Я ведь слышала, как экзаменовали Риту и как она отвечала. Просто вчуже было неловко.
Звонок снова зовет нас наверх. С той необыкновенной легкостью, с какой дети привыкают к новому месту, к новой обстановке, я уже чувствую себя в институте как дома. Поднимаюсь легко, бегом вверх по лестнице, сделанной словно из чугунного кружева, — а в первый раз я шла по ней со страхом! — мне нравятся широкие, залитые солнцем сводчатые коридоры, глубокие ниши с окнами, замазанными до половины белой краской.
Неэкзаменованных девочек вместе со мной всего семь человек. И все они — еврейки: Фейгель, Гуз, Айзенштейн и другие.
Начинается экзамен, и я просто ушам не верю. То же чтение вслух, но не коротеньких рассказиков из хрестоматии, а больших, сложных литературных отрывков. Самые разнообразные вопросы по содержанию прочитанного. Разбор не только по частям предложения, но и по частям речи. И еще, и еще, и еще.
В отрывке, который читает первая из экзаменуемых девочек, Айзенштейн, встречаются слова: «побывал во всех частях света». Учительница спрашивает:
— А сколько частей света вы знаете?
Айзенштейн отвечает:
— Пьять…
Ирина Андреевна иронически переглядывается с другой учительницей. Но третья из них пожилая, с желтым лицом, на котором очень ярко выделяются умные глаза, такие горячие, что, кажется, тронь — руку обожжешь, без всякой насмешки поправляет Айзенштейн:
— Надо говорить не «пьять», а пять…
Меня экзаменуют последней. Мне дают читать кусочек монолога Чацкого из «Горе от ума».
Собрал вокруг себя род веча…
Я очень люблю «Горе от ума» — мы это читали с мамой — мне приятно встретить знакомые стихи. Я читаю их с удовольствием. Хорошенькая Ирина Андреевна (учительница Риты и Зои) слушает меня со скучающе-безразличной миной. Но учительница с желтым лицом и горячими глазами (ее зовут Анна Дмитриевна) смотрит на меня и одобрительно кивает головой. «Так, так… хорошо».
Потом меня спрашивают, что такое «французик», что такое «Бордо» и какие еще города я знаю во Франции. Я знаю их много — от Поля! — и перечисляю. Что значит «надсаживая грудь»? Что такое «вече»?.. С разбором я тоже справилась вполне прилично.
Не буду рассказывать о дальнейшем ходе экзаменов. Скажу только одно: как выяснилось потом, мы писали не ту диктовку, что все остальные девочки, и решали не те задачи, что они, а гораздо более трудные. Все шесть девочек, которые экзаменовались вместе со мной, отвечали, казалось мне, хорошо. Во всяком случае, ни одна из них не плела такой чепухи, как Рита Шабанова. У меня было впечатление, что все эти шесть девочек отвечали лучше, чем я, в особенности по арифметике.
Экзамен кончился, нам велят идти домой: списки принятых будут вывешены завтра.
На одну минуту мы — все семь девочек — останавливаемся на верхней площадке лестницы. Смотрим друг на друга.
— Не примут нас… — чуть слышно, почти шепчет Фейгель, тоненькая девочка с громадными грустными глазами.
— Почему не примут?
Фейгель устало улыбается и крепко жмет мне руку. Все мы прощаемся друг с другом и бежим вниз — к мамам. Бедные мамы — изволновались, измучились…
Первое, что мне бросается в глаза в вестибюле, — это Рита Шабанова, заливающаяся слезами на коленях у Серафимы Павловны. От рева, от икающих всхлипываний у Риты пошла кровь носом. Мама и перепуганная Серафима Павловна, запрокинув Рите голову, прикладывают ей к переносице платки, смоченные в холодной воде.
А Рита ревет в голос!
— Риточка, солнышко мое, да не убивайся ты так! Ведь неизвестно еще… Примут тебя, примут, рыбуленька моя… Поверь мне, уж я знаю!
Рита, плача, гудит низко, как басовая струна:
— Я сама не желаю!.. Нужен он мне, этот паршивый институт!..
Когда кровотечение из Ритиного носа прекращается, ей обтирают мокрым платком запачканное лицо, и Серафима Павловна предлагает:
— Давайте сейчас же в кондитерскую! Мороженое есть!
Мама отказывается — нас, наверно, ждет дома папа, — и мы прощаемся с Шабановыми. С Зоей я расстаюсь дружелюбно, она все-таки добренький теленок, но с Ритой мы еле прощаемся.
— Тебя тоже не примут, не воображай! — говорит она мне со злым торжеством. — Не примут!
— Почему? — невольно вырывается у меня.
— Потому что «потому» кончается на «у»! Из всех вас, кого отдельно экзаменовали, ни одной не примут! Мне сама учительница говорила, Ирина Андреевна, она знает… Не примут вас никого!
— Не слушай Ритку! — неторопливо журчит сдобным голосом Зоя. — Она от злости все врет… Ничего ей Ирина Андреевна не говорила!..
— Нет, говорила, говорила, говорила!..
Мы с мамой уходим.
Нас обгоняет шабановская бричка, и Рита, высунувшись, еще раз бросает мне:
— Не примут!
Мы медленно идем по улице. Я рассказываю маме все, как было, — весь экзамен, все, что спрашивали. Я рассказываю не так, как обычно, «не тараторно», а медленно, вдумываясь сама в то, что вспоминаю.
— Ты устала? — спрашивает мама.
Я отрицательно качаю головой. Дело не в том, что я устала. Конечно, я и устала тоже, но самое главное — я еще сама не могу понять ту печаль, ту горечь, к которой сегодня впервые прикоснулась моя душа.
На площадке лестницы, перед дверью в нашу квартиру, мы с мамой впервые за весь этот суматошный и напряженный день оказываемся одни. Вдвоем. Мы смотрим друг на друга и крепко обнимаемся.
«Запах мамы»… Все забывает человек, только не это… Потому что это — запах спокойствия, прибежища в беде. Запах, в котором растворяется оскорбительная горечь всего, что пережито мною в этот первый день самостоятельной жизни…
— Ничего не поделаешь… — шепчет мама. — Вот так оно и есть…
На следующий день в списке принятых в первый класс на букву «Я» мы читаем: «Яновская Александра». Это я. На букву «Ш» приняты Шабановы — Зоя и Маргарита. Но Рита — в приготовительный класс. На букву «Ф» — Фейгель Мария.
19 августа, накануне начала уроков, я стою у нас в квартире посреди комнаты, как рождественская елка! Но что елка с ее побрякушками и даже с большой звездой на верхушке, что это все по сравнению с моим великолепием!
На мне коричневое форменное платье, очень длинное (сшито «на рост»!) и черный фартук. Платье, как полагается по институтским правилам, лишено малейших признаков легкомысленных складок на плечах (рукава «буфф» запрещены), а форменный фартук с прямым нагрудником — без всяких бретелек, перекинутых через плечи, без оборок и пелеринок. Все прямое, ничем не приукрашенное, как больничный халат.
Тем не менее все домашние стоят вокруг меня, любуясь мной, как лучезарным видением!
Даже соседи пришли полюбоваться, даже Кики, которого принесла Поль, садится ко мне, на плечо, заглядывая мне в лицо своим единственным глазом.
Нет, конечно, только одного человека: папы. Но вот приходит и он вместе со старым доктором Роговым.
За Иваном Константиновичем идет Шарафутдинов, он держит на вытянутых руках огромный арбуз, полосатый, как матрац. Иван Константинович при виде меня застегивает заветные две пуговки на своем мундире и вытягивается, как на параде: «Нашей ученице — многая лета!»
А Юзефа, пуская умиленную слезу, вздыхает, оглядывая меня критическим глазом:
— А и худенькая ж! Як шпрота копченая…
Назавтра, в десятом часу утра, я вхожу в свой первый класс. В нем — парты. В углу — бог с лампадкой. На стене — царь в рамке. На полу — плевательница.
Это мой новый мир. Я проживу в нем семь лет.
Москва, 1955 год
Конец первой книгиё


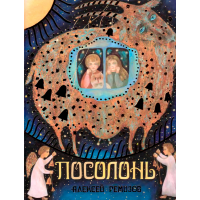


Комментарии