Как был спасен Мальмгрен
Юрий Нагибин
Считается, что июнь 1928 года я и мои летние друзья во главе с Большим Вовкой провели на даче под деревней Акуловкой. Но по правде человеческого сердца — а это ведь главная правда, — мы обитали во льдах Арктики, на дрейфующей льдине, на Шпицбергене, на палубе могучего ледокола, разламывающего носом громады льдов. Все жители планеты Земля с замиранием сердца следили за ледовой трагедией злосчастной экспедиции итальянского аэронавта Умберто Нобиле, и наш детский акуловский микромир не отставал от большого мира взрослых.
Мы не пропускали в газетах ни строчки, ни слова об отважной работе спасения, в которой принимали участие люди всей земли. Мы забросили наши любимые игры, даже в красную кавалерию перестали играть. Мы были то красинцами, то малыгинцами, летали на разведки с Чухновским, погибали с Амундсеном, торжествовали с летчиком Лундборгом, когда он, совершив дерзкую посадку на льдине, вывез раненого генерала Нобиле в Кингсбей. Каждый из нас в пылком воображении своем был и Самойловичем, и профессором Визе, и Чухновским, и Бабушкиным, и капитаном Эгги, и старпомом Пономаревым, и Амундсеном, и счастливцем Лундборгом, и смелым, невезучим Рийсер Ларсеном. Но одно дело — в воображении, другое — в игре, обретшей серьезность жизни. Тут было не так просто стать, кем ты хочешь. За право быть Чухновским, главным героем Красинианы, — это он нашел Мариано и Цаппи, считавшихся погибшими, — я два раза дрался с Большим Вовкой. Мой соперник был старше, выше и тяжелее, Чухновским стал он, а я — бортмехаником Шелагиным, первым заметившим на маленькой обтаявшей льдине три черные фигурки. Потом оказалось, что там находились лишь Цаппи и Мариано, доктор Фин Мальмгрен, отморозивший ногу, был брошен капитаном ди-корветто много раньше в ледяном гроте. Третье черное пятнышко, принятое Шелагиным за человеческую фигуру, было меховыми брюками Мариано, расстеленными на снегу его товарищем для привлечения внимания с воздуха.
Когда же «Красин» снял с льдины основную группу потерпевших обитателей знаменитой Красной палатки и правительство Муссолини объявило о прекращении поисков — все остальные спутники Нобиле, унесенные с оболочкой разбитого дирижабля, считались погибшими, — волнение в мире не только не улеглось, но достигло высшего накала. Люди хотели знать правду о загадочной гибели метеоролога Мальмгрена, прославленного ученого и путешественника, друга и соратника бесстрашного Амундсена.
Подобранные «Красиным» капитаны ди-корветто вели себя по-разному: полураздетый, с гангренозной ногой Мариано, находившийся на пределе истощения, хранил упорное и мрачное молчание. Зато бодрый, тепло и добротно одетый Цаппи — на нем было два полных меховых костюма: его и Мальмгрена, да еще теплая куртка Мариано — охотно, хотя и сбивчиво, разглагольствовал о последних минутах Мальмгрена.
Ослабевший, отморозивший ноги и вывихнувший плечо Мальмгрен не мог продолжать путь. Он забрался в ледяной грот, разделся, кинул им свою одежду и велел уходить. Они не соглашались. Мальмгрен настаивал — опытнейший полярник, он сказал им о железном законе Арктики: льды не терпят слабых. Это было справедливо, но Мариано не желал слушаться доводов рассудка и наотрез отказался взять одежду Мальмгрена и даже пытался помешать в этом Цаппи. Между ними едва не разгорелась драка. Цаппи напомнил своему старшему другу и командиру, что оставшиеся в Красной палатке больные, беспомощные люди ждут помощи и они обязаны продолжать путь к Большой земле. Мариано покорился.
Мальмгрен долго махал им вслед из своей ледяной могилы обнаженной рукой…
Но мы не играли в «Мальмгрена» до того дня, когда Колька Глушаев вмешался в наши игры. Мы играли только в спасение.
За оградой дачи лесорубы корчевали вырубку, и каждый вывороченный из земли пень становился ледоколом, самолетом, льдиной или айсбергом. Радость в наших играх доставляли не приключения, а пребывание в образах отважных людей. Колька Глушаев, ведший с некоторых пор таинственную взрослую жизнь, проявил к нам неожиданный интерес.
— Вы идиоты, — сказал он, — разве так играют? В гибель Мальмгрена надо играть. Завтра мы пойдем вон к той вышке, — он показал на едва различимый вдали за деревьями островершек. — И по дороге я погибну…
В спутники Глушаев выбрал Большого Вовку и меня. Спорить не приходилось — Глушаев был скор на расправу. На сборный пункт он явился с заплечным мешком, в котором помещалось одеяло и «запас продовольствия». И мы поняли, что Глушаев стал безнадежно взрослым человеком, раз уж ему не хватает воображения. Мы не опускались в наших играх до такой грубой вещественности.
— Пошли, — сказал Глушаев-Мальмгрен, и мы тронулись.
Путь наш лежал через сырой осинник с мягко-податливой, проминающейся под ногами почвой. Высокие режущие травы в кровь иссекли нам с Вовкой голые ноги своими острыми лезвиями. Глушаев, носивший полотняные брюки, не пострадал. Начало путешествия складывалось для Мальмгрена удачнее, нежели для его спутников. Подумав об этом, я вдруг вспомнил, что мы с Вовкой даже не условились — кто есть кто. В игре, навязанной нам Глушаевым, сладко воплотиться лишь в Мальмгрена, и по праву сильного Глушаев присвоил себе образ героя-страдальца. Нам остались подонки — один получше, другой похуже, но существенной разницы между ними не было, и мы просто забыли распределить роли.
Идти становилось все труднее. В глубокой влажной траве хоронились скользкие коряги, мы с Вовкой то и дело спотыкались, оскальзывались на них, случалось, и падали. Длинноногому Глушаеву бурелом был нипочем, он только чуть выше задирал ноги и с мягким хрустом давил старые, перегнившие в болотистой почве сучья. Он все время уходил вперед и поджидал нас с пренебрежительно-скучающим видом. Возмездие не заставило себя ждать.
Перешагивая через темную, пыльную, стоячую воду, вдруг обнажившуюся в густой траве, он зацепился брючиной о корягу и зарылся носом в торф на том берегу лужи.
— Все, — сказал Глушаев, потирая ушибленный локоть, — я сломал руку.
Мы кинулись к нему, на локте у него алела ссадина. Большой Вовка протянул ему носовой платок.
— Да ничего ты не сломал. На, перевяжи.
Глушаев смерил его уничтожающим взглядом.
— А я говорю, сломал. — Он смахнул с лица и груди лепешки торфа, задрал штанину на своей крепкой, загорелой ноге. — И ногу я отморозил, и гангрена уже началась.
Он воспользовался падением, чтобы вселиться в образ Мальмгрена и тем замаскировать свою неуклюжесть.
— Мы понесем тебя, — покорно вступая в игру, сказал Большой Вовка.
— Нет, я еще попробую идти сам, — капризно возразил страдалец. — Вы будете меня поддерживать. Сейчас я только подвяжу ногу.
Вынув ремень из брюк, он согнул в колене левую ногу и крепко стянул ее. Для чего ему это понадобилось? Верно, для того, чтобы, пользуясь своей инвалидностью, без дураков виснуть на слабых наших плечах. Я с самого начала заподозрил, что Глушаев не с чистой душой затеял игру. Его раздражала самозабвенная наша увлеченность, которой он, омраченный своей пробудившейся взрослостью, уже не мог разделять. Он словно мстил покинувшему его на произвол судьбы детству.
Мы согнулись под тяжестью одноногого мученика. Конечно же, игра не требовали столь чрезмерной достоверности. Глушаев мог бы не подвязывать ноги или хотя бы лучше пользоваться оставшейся ногой. Но он нарочно преувеличивал свою беспомощность, мы тащили его, как мешок с отрубями.
Когда человеку трудно, всякая малость окружающего мира ополчается против него. Мошкара сеткой повисла у лица, липла к влажной коже, норовила набиться в глаза. Настырные мухи неумолчно жужжали над ухом и вдруг впивались в шею, веко, губу. Стоило отмахнуться от них, как Глушаев хватал нас за руки, словно боясь лишиться опоры. Он, конечно же, издевался над нами, этот здоровенный сукин сын! За пазуху крошились сухие листья и, смешиваясь с потом, саднили тело наждаком. А вытрусить их, хотя бы почесаться не было возможности. В сандалиях мерзко хлюпала вода, между пальцами набилась противная жидкая грязь. Нечем было дышать в этом проклятом болотном лесу, насыщенном смрадными, душными испарениями.
Солнце пробивалось сквозь густую листву слепящими ромбами, его блеск отдавался чернотой в глазах. Я брел как слепой, наталкиваясь на стволы, проваливаясь в ямы, увязая в торфяном месиве, обдирая руки и плечи о стволы, сучья, сбивая ноги об острые осиновые пни.
По счастью, путешествие утомило и Глушаева.
— Ладно, — проворчал он. — Хватит, я дальше не пойду.
Мы остановились возле старой, гнилой березы, близ опушки. Здесь осинник карабкался на бугор, и земля стала сухой, опрятной, в редкой низенькой траве, чайных ромашках и колокольчиках. Глушаев опустился к изножию березы.
— Уходите! — сказал он с мрачной решимостью. — Я останусь здесь.
— Нет, это неинтересно! — сказал Большой Вовка. — Мы понесем тебя.
— Как понесете?
— Сделаем носилки из одеяла и двух жердин, — пояснил Вовка.
— Ну, это будет не по правде, — вмешался я. — Откуда во льдах жердины?
— А лыжные палки могли быть? — отпарировал Вовка. — Все по правде.
— Разве у них… — И вдруг я с ужасом понял, что сама жизнь распределила роли и мне по праву достался Цаппи. Так же как сейчас мне не хотелось тащить Глушаева, зверски алчному до жизни Цаппи не хотелось обременять себя больным, беспомощным Мальмгреном.
Верно, Глушаев догадался, что мне неохота его нести, он тут же подхватил Вовкину идею:
— Тащи жердины!
За этим дело не стало: подходящего материала кругом хоть завались! Они быстро и умело соорудили носилки. Глушаев проверил их надежность и с комфортом улегся на одеяло.
— Пошли! — скомандовал Большой Вовка.
Мы подняли носилки и двинулись из леса. Большой Вовка соорудил носилки так, что ему достались короткие ручки, а мне длинные, тем самым он принял на себя основную тяжесть. В первые минуты я блаженствовал: нести Глушаева оказалось неизмеримо легче, чем тащить его на плечах. И Глушаеву, видимо, приглянулся новый способ передвижения, он достал из кармана мятую пачку «Червонца» и закурил. Я хотел сделать ему замечание, что едва ли прилично курить изуродованному, обессилевшему человеку, когда товарищи, изнемогая, несут его по торосистым льдам, но вовремя одумался: кроме ругани и оскорблений, это ни к чему бы не привело.
Мы вышли из леса, из влажной духоты в раскаленную сушь. Сразу же за опушкой пережаренная солнцем земля запеклась серой коркой, растрескавшейся на квадраты и треугольники; дальше, за полоской бурой выжженной травы, бежала дорожка в тонком, мягком прахе. И невозможно было поверить, что мы только что покинули влажный мир осинника на болоте.
Воздух дрожал маревом, в бесконечной дали зыбились очертания геодезической вышки. До нее было как до самых дальних звезд, и ощущение ее безмерной отдаленности свинцовой усталостью налило руки, ноги, плечи, ребра, хребет. Я устал каждой мышцей, косточкой, каждой клеточкой тела. Носилки с курящим Глушаевым были тяжелее антеевой ноши, я изо всех сил борол соблазн бросить ручки.
Дорожка то ныряла в овражки, то вызмеивалась на бугры. В западинах иссыхали давние, еще с весны, лужи; земля темнела последней, исчезающей влажностью, и темные эти пятна были усеяны бабочками-капустницами. Никогда в жизни не видел я такого скопища бабочек, да еще на земле; белые, с черными крапинками на крылышках, они слетались на темные пятна выпота, словно мухи на мед, осы на варенье, мошкара на свет керосиновой лампы. И, глядя на этот жалкий водопой, я почувствовал, как пересохло во рту.
Передо мной маячил крепкий, широкий, плосковатый затылок Большого Вовки. Раньше я не замечал, какой у него упрямый затылок. От такого затылка не жди добра и снисхождения. «Неужели Вовка не устал? — думал я. — Ну пусть он старше меня, немного сильнее в драке, да ведь не двужильный же он, черт бы его побрал!.. Наверное, тут дело не в какой-то особой выносливости, а в чем-то другом. Нету в нем капитана Цаппи ни крупицы — вот в чем загвоздка! Надо нести, вот он и несет… Да ведь и я несу, — вдруг осенило меня. — А то, что происходит во мне, никому не известно. Может, и Вовка мучается и пить хочет, только не показывает вида. Главное — не показывать вида. Надо все переживать в самом себе и не вякать. Надо идти, пока не свалишься…»
Но я не свалился. Помощь пришла со стороны… Глушаева.
Покурив, подремав, снова покурив, он стал проявлять беспокойство. Он вертелся на одеяле, причиняя нам лишние муки, приподымался, смотрел вперед из-под козырька ладони. Похоже, и его припекло, и он по горло был сыт всей этой бодягой. К тому же мы держались, не скулили и не давали повода к насмешкам.
Это окончательно расхолодило Глушаева к игре.
— Давайте вон к тем кустам, — сказал он. — Да побыстрее, плететесь как сонные мухи.
Впереди к дороге подступала пыльная ореховая поросль. Дальше, до самого геодезического знака, не было ни деревца, ни куста — голое поле. Мы прибавили шагу и вскоре оказались в жидкой тени орешника.
Черной, с выблеском сыпью листву покрывали мелкие жучки. Под кустами широко раскинулись мятые, сморщенные, слоновьи уши старых лопухов. Мы опустили носилки в лопухи, в прозрачную тень и прохладу.
— Ну, все! — сказал Глушаев, и врожденная артистичность взяла в нем верх над ленью, усталостью, скукой — порождением отягощающей, непривычной еще взрослости, — он стал Мальмгреном. — Здесь я останусь. Вы сделали все, что могли.
— Нет! — Большой Вовка набычил свой упрямый затылок. — Мы понесем тебя дальше.
— Моя песенка спета. Я только даром погублю вас. Вспомните железный закон Арктики: льды не терпят слабых.
— Есть и другой закон, — тихо сказал Вовка, — нельзя бросать товарища в беде.
— Что передать на родину, Мальмгрен? — поспешно вмешался я, испугавшись, что он поддастся Вовкиным доводам.
— Передайте привет Упсале. Я там учился… любил.
— Что передать вашей матери, Мальмгрен?
— Передайте мой компас. Слова излишни. Она сама поймет, что я был в порядке… Возьмите мою одежду, мне она уже не нужна.
Глушаев стянул через голову рубашку и швырнул нам. Красиво и как-то беззащитно высмуглился его сильный, загорелый торс.
— Нет! — вскричал Большой Вовка. — Мы не бросим тебя!
— Уходите! — жестко прозвучало в ответ, — Дайте мне умереть!
— Нет, нет!.. — Вовка кинулся к носилкам. — Подымай! — закричал он мне.
Я растерялся. То, что происходило сейчас, было не по жизни и не по игре. Нам полагалось оставить ослабевшего спутника и одним добираться до геодезической вышки, то бишь до Большой земли. Где-то в пути нас, изнемогших, голодных, отчаявшихся, обнаружит Чухновский и спасет «Красин». Но Большой Вовка нарушил все правила. Что это случилось с ним: солнечный удар, омрачивший сознание, или взлет слишком пылкой фантазии, возведшей игру в ранг действительной жизни? Он не мог бросить Глушаева-Мальмгрена, он хотел тащить его из последних сил под палящим солнцем…
Но Глушаеву такое путешествие вовсе не улыбалось. Сильным рывком он сорвался с носилок, раньше чем мы успели их поднять. Большой Вовка наклонился, чтобы впихнуть его назад, и Глушаев ударил его кулаком в лицо… Из Вовкиного носа двумя струйками потекла кровь. Задрав голову, он стал подхлебывать носом, но кровь не унималась, тогда он принялся высмаркивать ее, кропя окрест лопухи. Это помогло, теперь кровь уж не лилась, а капала, как из крана.
— Мы спасем тебя! — чуть гнусаво сказал Вовка и улыбнулся своим разбитым лицом.
Все остальное я воспринимал как в бреду. Вовка раз за разом подступал к Глушаеву, а тот бил его кулаками, головой по чему попало, лягал в живот. Большого Вовку спасало лишь то, что у Глушаева была подвязана нога и он не мог встать. И как-то случилось, что я начал помогать Вовке и тоже получил раз-другой от Глушаева, хотя и не так сильно, потому что действовал сзади. И нам никак не удавалось вкатить Глушаева на носилки, и тогда мы перевернули его лицом вниз и скрутили ему руки за спиной его же рубашкой. Затем мы бережно подняли его и уложили на носилки.
— Ну, погодите, сволочи! — в бессильной злобе грозил Глушаев. — Я вам пропишу, гады!..
— Да, да, — сказал Вовка, слизывая кровь с верхней губы. — Мы спасем тебя, а потом ты нам пропишешь… Подымай!..
Я смутно помню этот последний рывок. Мы оставили дорожку и двинулись к вышке напрямик, через поле, и метелки травы, словно теплые волны, омывали усталые ноги. И мы падали, когда Глушаев, изловчившись, пинал Вовку ногой в спину. А потом он перестал драться, потому что, падая, мы роняли носилки.
Со мной творилось что-то непонятное. Солнце палило нещадно, выжигало мозг сквозь полуприкрытые глаза, и вдруг странным вздрогом кожу пронизывал морозный ожог, и мне мерещились льды и снег до одурения явственно — спал я, что ли, на ходу?..
Не знаю, как я дошел, почему дошел, откуда взялись силы. У подножия толстых, серых, источенных жуками опор вышки мы опустили на землю носилки с Глушаевым. Нагнувшись, Вовка освободил ему руки. Глушаев ничего не сказал, он давно уже замолчал, и зловещее молчание это было хуже всякой ругани и угроз, только мне почему-то стало безразлично, что он с нами сделает. Он развязал ремень на ноге, неторопливо вдел его в брюки. Ему некуда было спешить: нам не уйти от расплаты.
Затем он встал, потянулся, расправил тело и шагнул к Вовке. Тот стоял, прислонившись к опоре вышки, и улыбка, похожая на гримасу, застыла на его разбитом, в запекшейся крови лице, потном, измученном, обуглившемся, с синим натеком подглазья. Глушаев перевел свой примеривающийся, опасный взгляд на меня и вдруг сказал каким-то скучным голосом:
— Черт с вами, живите!
Так вот случилось, что брошенный спутниками на верную и мучительную смерть метеоролог Фин Мальмгрен был спасен московским школьником Большим Вовкой.


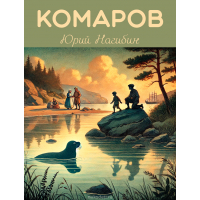


Комментарии