Очень страшная история
Анатолий Алексин
Оглавление
- От автора
- Глава 1, в которой мы знакомимся с героями повести, не все из которых будут героями
- Глава 2, в которой мы неумолимо приближаемся к страшной истории, хотя этого можно и не заметить
- Глава 3, в которой мы делаем еще несколько шагов навстречу страшной истории
- Глава 4, в которой мы отправляемся на старую дачу
- Глава 5, которая подводит нас буквально к самому порогу страшной истории
- Глава 6, из которой становится ясно, что мне ничего не ясно
- Глава 7, в которой снова знакомимся с героями повести, не все из которых будут героями
- Глава 8, в которой я наконец… впрочем, сами поймёте
- Глава 9, в которой события опять с головокружительной быстротой сменяют друг друга
- Глава 10, в которой слышится крик из подвала
- Глава 11, в которой мы слышим разные голоса и топот погони…
- Глава 12, самая короткая и самая последняя (в этой повести)
- Послесловие
Детективная повесть, которую сочинил Алик Деткин
От автора
Судьбе было угодно, чтобы я родился в семье инженерно-технического работника, в самом начале второй половины нашего века. Это была дружная трудовая семья. Я был последним ребенком в этой семье. Первым ребенком был мой старший брат Костя. Всего, значит, нас было двое. Сейчас уже Костю трудно назвать ребенком, потому что он бреется и учится в университете.
Родители наши сумели дать своим детям хорошее образование: Костя, как я уже сказал, студент, и я тоже учусь.
У нас с братом были совершенно разные характеры. Они и теперь абсолютно разные, но я пишу «были», потому что предисловия «От автора» всегда пишутся в прошедшем времени, как воспоминания. Брат увлекался техникой, а я любил читать детективные повести и романы. Потом, в более зрелом возрасте, я внезапно почувствовал тягу к творчеству.
У меня не было старой няни, которая бы рассказывала мне в детстве сказки и так понемножку приучила бы меня любить литературу. Мама сама вела хозяйство, поэтому ни няни, ни домработницы у нас не было.
Но зато на меня как на будущего автора детективных произведений огромное влияние оказали мои родители.
Когда я еще был во втором или в третьем классе, мама вышила на мешке для галош мою фамилию: «Деткин».
Это был самый обыкновенный мешок, но он сыграл в моей жизни необыкновенную роль! Судьбе было угодно, чтобы последние три буквы стерлись, исчезли: нитки порвались то ли от старости, то ли оттого, что мешок служил мне верным оружием в коротких, но решительных схватках, которые вспыхивали время от времени в раздевалке. Так или иначе, по от моей фамилии остались лишь три первые буквы: «Дет…» — Галоши ДЕТектива! — крикнул один старшеклассник.
С этого и началось: меня прозвали Детективом. А если бы мама не вышила те буквы на моем синем мешке?..
Но положительное влияние родителей было не только в этом. Мама и папа часто отбирали у меня затрепанные приключенческие повести и романы. «Жалко тратить на это время!» — восклицали они. А потом я находил свою книгу под подушкой у мамы или случайно замечал ее в папином портфеле. Таким образом, с их помощью я понял, что все нормальные люди любят читать детективные книжки, но многие любят тайно. А тайная любовь, как известно, самая интересная и самая сильная!
Итак, я начал творить!.. Родители были против: «Жаль тратить на это время!» Тогда я вспомнил все известные мне случаи, когда отцы выгоняли из дому и даже лишали наследства будущих великих артистов, композиторов и писателей.
Эти примеры подействовали на папу и маму.
— Ладно, — сказал папа, — раз тебе не жалко времени, которое можно было бы потратить на изучение иностранного языка, на чтение полезных книг или, скажем, на спорт, пусть будет по-твоему! Но позволь и мне обратиться к классическим примерам…
Он достал первый том Собрания сочинений Лермонтова, прочитал вслух два стихотворения и сказал:
— Эти стихи были написаны Михаилом Юрьевичем, а точней сказать, Мишей, в четырнадцатилетнем возрасте. Ты всего на полтора года моложе. Только на полтора. А если учесть, что дети сейчас взрослеют гораздо раньше, можно считать, что вы одного возраста!
— Ну и что? — спросил я.
— А то, — ответил мне папа, — что нельзя высосать повесть из пальца. Прежде чем сесть за стол, надо изучить человеческие характеры. А сюжет! Его должна подсказать тебе сама жизнь!
Я стал изучать характеры своих приятелей, соседей, учителей. Но сюжета жизнь подсказывать мне не хотела.
И вдруг случилось такое!..
Никогда я бы не смог придумать истории страшнее той, которая случилась на самом деле и которую я всю распутал от начала и до конца, доказав, что Детективом меня прозвали не зря!..

Глава 1,
в которой мы знакомимся с героями повести, не все из которых будут героями
Когда в прошлом году у нас в классе стали создавать литературный кружок, никто не представлял себе, что из-за этого может случиться. Какое таинственное, жуткое событие произойдет!..
Но я расскажу обо всем по порядку, не забегая вперед, хотя мне очень хочется забежать. Вы легко поймете меня, когда дочитаете до конца…
Итак, все началось год назад на самом обычном уроке, в самом обычном классе. Это была комната с четырьмя стенами, выходившая двумя своими стеклянными окнами прямо во двор, а одним окном — прямо на улицу.
Наш новый классный руководитель, Святослав Николаевич, сказал:
— Всюду, где я был классным руководителем, обязательно работал литературный кружок. Тем более он должен быть здесь, в этом классе, где учится Глеб Бородаев.
Мы все повернулись и посмотрели на последнюю парту в среднем ряду: там сидел тихий, пригнувшийся Глеб.
Это был человек лет тринадцати. Нежная, бархатная кожа его лица часто заливалась румянцем. Ростом он был невысок, учился посредственно и очень любил собак. Карманы его самых обыкновенных мятых штанов всегда оттопыривались. Опытный глаз мог почти безошибочно определить, что там кусок колбасы, или горбушка хлеба, или сосиска. Глеб от каждого своего завтрака оставлял что-нибудь для собак. И собаки платили ему той же любовью. Мы тоже любили Глеба. Он был добрым не только к собакам, но и к людям. Особенно если их настигала беда. Например, если кто-нибудь падал и расшибал коленку, Глеб сразу подбегал и говорил:
— Как все это… Ты не очень того… Я сейчас постараюсь…
Он, когда волновался, не договаривал фразы до конца. Фразы его неожиданно обрывались, как звуки неисправного мотора, который глохнет и опять начинает работать, глохнет и опять начинает… Но мы уже знали, что через минуту-другую Глеб притащит из докторского кабинета, с первого этажа, йод, а из уборной, с нашего этажа, — платок, смоченный холодной водой.
В его груди билось скромное, благородное сердце!
— Конечно, Глеб такой же ученик, как вы все, — сказал Святослав Николаевич.
— Не его заслуга, что он внук Бородаева, писателя, творившего во второй четверти этого века в нашем с вами родном городе. И все же я рад, что Глеб учится именно здесь! Я думаю, что пристальный интерес к творчеству одного писателя обострит ваш интерес к литературе в целом. И тут Глеб может оказать вам неоценимую помощь!..
Все опять повернулись к Глебу… Когда на него смотрел один человек, он и то пригибался от смущения, а тут уж совсем лег на парту.
— Как-то все это… — тихо сказал он, не договаривая фразу, будто кто-то рядом расшиб коленку.
Мы знали, что в городе жил когда-то писатель Гл. Бородаев; портрет Гл.
Бородаева висел в зале на доске «Наши знатные земляки».
Внезапно догадка озарила меня: «И его тоже, наверное, звали Глебом!» Мы не знали, что тот Глеб — родной дедушка нашего Глеба. Наш Глеб никогда никому об этом не говорил.
Но классный руководитель Святослав Николаевич раскрыл его тайну… Это был человек лет пятидесяти девяти (он говорил, что если мы решительно не изменимся, то он через год сбежит от нас всех на пенсию). Ростом он был невысок. Глаза его глядели устало, об усталости свидетельствовала и бледность его не всегда гладко выбритых щек. Но внешность Святослава Николаевича была обманчива. Энергия в нем била ключом!
— Мы присвоим нашему кружку имя Глеба Бородаева! — воскликнул он. И в глазах его исчезла усталость.
— Как-то это… — тихо сказал Глеб со своей задней парты. — Меня ведь тоже зовут… Некоторые могут подумать… Которые из других классов…
Он не договаривал до конца ни одной фразы: значит, он волновался, как никогда.
— Есть ведь и другие… — продолжал он. — Почему обязательно дедушку?..
Хотя бы вот Гоголь…
— Но внук Гоголя не учится в пашем классе, — возразил Святослав Николаевич.
— А внук Бородаева учится!
С того самого дня к Глебу приклеилось прозвище: Внук Бородаева. Иногда же его звали просто и коротко: Внук.
Всюду ребята любят придумывать прозвища. Но у нас в школе это, как говорили учителя, «стало опаснейшей эпидемией». А что тут опасного? Мне кажется, прозвище говорит о человеке гораздо больше, чем имя. Имя вообще ни о чем определенном не говорит. Ведь прозвище придумывают в зависимости от характера. А имя дают тогда, когда у человека еще вообще нет никакого характера. Вот если меня назовут просто по имени — Алик! — что обо мне можно будет узнать? А если по прозвищу — Детектив! — сразу станет понятно, на кого я похож.
Жаль только, что некоторые ребята путают и вместо «Детектив» кричат «Дефектив». Но я в таких случаях не откликаюсь.
– Занятия кружка ни в коем случае не должны быть похожи на наши уроки.
Никто там не будет учиться! – заявил Святослав Николаевич.
И всем сразу захотелось вступить в этот кружок. Но на пути возникли неожиданные преграды.
– Творческая направленность будет лицом кружка, – сказал Святослав Николаевич. – А рекомендацией будет литературная одаренность!
Оказалось, что такой рекомендации нет почти ни у кого в нашем классе.
Только Андрей Круглов, по прозвищу Принц Датский, и Генка Рыжиков, по прозвищу Покойник, сочиняли стихи.
Прозвища их на первый взгляд могли показаться несколько странными, но это только на первый, легкомысленный взгляд.
Круглова прозвали не просто Принцем, а именно Датским, потому что он любил сочинять стихи к разным школьным датам и даже к семейным: к началу учебного года и к концу учебного года, к дням рождения и если кто-нибудь умирал.
Когда нашей школе исполнилось десять лет, он сочинил:
Нашей школы славный юбилей,
Мы с большим волненьем замечаем,
Что на сердце как-то веселей!
Однажды, первого сентября, пионервожатая прочитала нам на линейке стихи Принца:
Путь к вершинам знаний и наук,
Мы с большим волненьем замечаем,
Будто стало солнечней вокруг!..
А перед летними каникулами в стенгазете появилось такое стихотворение Принца Датского:
Свой нелегкий, свой учебный год,
Мы с большим волненьем ощущаем,
Будто слезы выльются вот-вот…
Нет!
Хоть мы со школой расстаемся,
Места нет для грусти и тоски:
Все равно сердцами остаемся
Возле школьной парты и доски!
Святослав Николаевич сказал однажды, что «настоящий поэт не изменяет себе». Принц Датский не изменил себе просто ни разу в жизни.
Это был человек лет тринадцати. Ростом он был высок, в плечах был широк.
Если Принц Датский узнавал, что у кого-нибудь дома происходит важное событие, он хватал бумагу и карандаш, убегал, чтобы побыть в одиночестве, а потом возвращался и говорил:
– Вот… пришли на ум кое-какие строчки. Может, тебе будет приятно?
Он совал в руки листок со стихами и убегал. Большая физическая сила сочеталась в нем с детской застенчивостью.
Однажды, как сейчас помню, он узнал, что мои родители празднуют годовщину свадьбы. Принц Датский подошел ко мне на перемене, сунул в руку листок и сказал:
– Вот… пришло кое-что на ум. Может, тебе будет приятно? И убежал. На листке было написано:
Обстановку трезво оцени:
Страшная была бы в жизни драма,
Если бы не встретились они!
Если бы твой папа не женился,
Никогда б ты, Алик, не родился!
В его груди билось доброе, благородное сердце! Я читал, что поэты часто дружили между собой: Пушкин с Дельвигом, Шиллер с Гете… А Принц Датский дружил с Генкой Покойником.
Покойник писал стихи о любви… Это был человек лет тринадцати. Ростом он был невысок, в плечах неширок, лицо его было покрыто мертвенной бледностью.
И вообще он очень хотел умереть.
В том нету сомнений!
Сердце в муке сгорело дотла,
Когда ты на большой перемене
К старшекласснику вдруг подошла.
Над этим стихотворением стояли две буквы: «А. Я.». А в поэме, первое чтение которой состоялось у нас в уборной, на втором этаже, были такие слова:
Мне во прах превратиться не жалко,
Чтоб уже никогда не смотреть,
Как с другим ты идешь в раздевалку…
Под названием поэмы тоже стояли две буквы: «Б. Ю.». Нам очень хотелось узнать, из-за кого Покойник так ужасно страдал. Мы проверили по классному журналу; девчонок с такими инициалами у нас в классе не было.
– Может, из другой школы?.. – высказал кто-то предположение.
Внезапно меня озарила догадка:
– Нет! Они обе из нашей школы: иначе бы он не видел, как А. Я. на большой перемене подошла к старшекласснику и как Б. Ю. спустилась с другим в гардероб!
– Это верно!.. Настоящий Детектив: какая сила логического мышления! – стали восторгаться ребята. Только Принц Датский сказал:
– Не трогайте Покойника!.. Кто его тронет, тот будет иметь дело со мной.
И хотя большая физическая сила сочеталась в нем с детской застенчивостью, все знали: Покойника он в обиду но даст. Он уважал его, потому что сам не умел писать стихов о любви.
– А только это и есть истинная поэзия! – воскликнул как-то Принц Датский. – Все классики с раннего детства писали о любви. Таланты надо беречь!
Это было его яркой особенностью: восторгаться другими.
– Почему же ты сам сочиняешь стихи к разным датам? – спросил я Принца.
– Людям приятно, когда их поздравляют… Особенно в рифму, – ответил он.
– А ты пиши и о любви тоже!
– Чтоб писать о ней, надо ее испытать, – ответил Принц Датский. – К Покойнику уже пришло его счастье, а ко мне еще нет.
К Покойнику это счастье приходило уже в третий раз. Вообще он вел рассеянный образ жизни. Все свои последние стихотворения он посвящал какой-то В. Э. Она еще не спускалась с другим в гардероб, но Покойник все равно жить не хотел:
Разорваться в груди, как снаряд,
За одно твое нежное слово,
За один твой доверчивый взгляд.
Я набрался мужества и спросил:
– Скажи: кто она… В. Э.?
– Разве это не было бы чудовищно?..
– Что… чудовищно?..
– Разве я могу открыть ее имя?
– А почему?
– Тебе непонятно?
Это было его яркой особенностью: отвечать на вопрос вопросом.
– Но почему же? – настаивал я.
– Разве мужчина имеет на это право?
В его чахлой груди билось пылкое, благородное сердце!
Принца с Покойником сразу приняли в литературный кружок.
Попросилась в кружок и Валя Миронова.
Это было белокурое существо лет двенадцати с половиной. То есть в прошлом году, когда создавался кружок, все мы были на год моложе… Но в той страшной истории, которую я хочу рассказать, это не играет существенной роли.
Миронова была самым белокурым и самым старательным существом у нас в классе. Она, казалось, всегда думала об одном: как бы ей в чем-нибудь перевыполнить норму.
Если учительница задавала на дом решить семь арифметических примеров, Миронова поднимала руку и спрашивала:
– А восемь можно?
Если другая учительница просила сдать домашнее сочинение через четыре дня, Миронова поднимала руку и спрашивала:
– А через три можно?
Думая о человеке, всегда мысленно представляешь его себе в самой характерной для него позе. Ну, например: Глеб Бородаев вынимает из своих растопыренных карманов бутерброд с колбасой и кормит собаку; Принц Датский, несмотря на свой огромный рост и свою силу, застенчиво протягивает листок со стихами, которые кому-то должны быть приятны; Покойник ходит по коридору с бледным лицом и мечтает погибнуть… А Миронову я всегда представляю себе с поднятой рукой: она хочет, чтобы ей разрешили перевыполнить норму. Если врач скажет: «Тебе нужно сделать десять уколов!» – Миронова, я думаю, обязательно спросит: «А можно одиннадцать?» Как только Святослав Николаевич объявил о кружке, Миронова сразу подняла руку и сказала:
– Можно мне записаться?
– А что ты будешь сочинять?
– Что вы скажете… – ответила Миронова.
Это было ее яркой особенностью: подчиняться приказам.
– Поэзия, – сказал Святослав Николаевич, – это сфера чувств, там конкретность не обязательна. Проза – другое дело. В прозе каждый должен писать о том, что он лучше всего знает. А с чем ты, Миронова, сталкиваешься ежедневно? Со школой, с уроками, с домашними заданиями, со своими соседями и одноклассниками. Вот об этом и напиши. Начни, к примеру, с литературных зарисовок: «Мое утро», «Мой вечер»…
Миронова подняла руку и спросила:
– А можно «Мой день»? Это ведь будет и утро, и полдень, и вечер – все сразу!
Она и тут хотела перевыполнить норму.
– Пожалуйста, – сказал Святослав Николаевич. – Если тебя влечет такая именно тема, не возражаю. Зачем же наступать на горло собственной песне! Но только побольше конкретных деталей, подробностей. Пусть острая наблюдательность подскажет тебе все это. Принеси зарисовку дней через пять.
– А можно через четыре? Или через три дня? – спросила Миронова, предварительно подняв руку. По привычке она, как на уроке, поднимала руку, даже если разговаривала с кем-нибудь в коридоре или на улице.
Через три дня она принесла зарисовку «Мой день». Начинала Миронова так:
Я проснулась в семь часов десять минут по местному времени. Было утро. Я умылась на кухне, потому что в ванной комнате мылся сосед. На кухне у нас стоят два стола, потому что в квартире живут две семьи: у каждой по одному столу. На кухне два окна: одно выходит лицом на улицу, а другое – лицом во двор. В семь часов тридцать минут по местному времени я съела одно яйцо всмятку, один бутерброд с сыром и выпила один стакан чая с сахаром. Так начался мой трудовой день…
Святослав Николаевич похвалил Миронову:
– Много конкретных, тебе одной известных деталей!.. Миронову приняли в литературный кружок.
– Ну, а над чем ты будешь работать дальше? – спросил Святослав Николаевич.
– Над чем скажете…
В ее груди билось послушное женское сердце!
Трех человек уж приняли. Но этого было мало. И тогда Святослав Николаевич предложил вступить в кружок Наташе Кулагиной.
Это было самое замечательное существо в нашем классе. И во всей школе. И во всем городе!
Ростом она была такой, как надо… Да что говорить!
От самого дня рождения я никогда не был ветреником. И никогда не вел рассеянный образ жизни. Наоборот, постоянство было моей яркой особенностью:
Наташа нравилась мне с первого класса. Она была полна женского обаяния. На переменках девчонки липли к ней со всех сторон: каждой хотелось походить с ней по коридору под руку. Это меня устраивало: если уж не со мной, так пусть лучше с ними!
Наташа часто записывала что-то в толстую общую тетрадку. Когда Святослав Николаевич пригласил ее в кружок, она сказала:
– Я не сочиняю, а просто записываю мысли. Так, для себя. О фильмах, о книгах…
– Это должно быть любопытно, – важно изрек Покойник. – Ты ведь и классные сочинения всегда пишешь оригинально, по-своему.
– Старик Покойник нас ааметил и, в гроб сходя, благословил! – сказал я с плохо скрываемым раздражением.
Мне не понравилось, что Покойник хвалил Наташу. Не хватало еще, чтоб над очередным его стихотворением появились новые буквы: «Н. К.».
– О книгах, о фильмах?.. – переспросил Святослав Николаевич. – Значит, у тебя критическое направление ума! Вот и прекрасно. Нам нужны разные жанры.
Поэзия и проза уже представлены. А теперь вот и критик! Будешь оценивать произведения членов кружка. Если острая наблюдательность подскажет тебе недостатки товарищей…
– Но я ведь просто записываю свои мысли… Что ж, я буду высказывать их вслух?
– А ты высказывай не свои, – посоветовала Миронова. – Поговори со Святославом Николаевичем, еще с кем-нибудь. Учебники почитай.
Наташа словно бы не расслышала ее слов.
– Нет, я не могу оценивать чужие произведения, – сказала Наташа. – С глазу на глаз могу. А так, в торжественной обстановке… Я не могу себе это позволить.
– Для начала послушай, – сказал Святослав Николаевич. – А потом творческий поток захлестнет тебя, увлечет в свое русло!
Она могла бы позволить себе все, что угодно, потому что ее считали самой красивой в классе. Но она не позволяла: в ее груди билось прекрасное сердце!
Через десять минут я попросился в литературный кружок.
– Ты тоже пробуешь силы в творчестве? – удивленно спросил Святослав Николаевич.
– Я хочу писать детективные повести…
– Прыгаешь через ступени?
– Как это?
– Нужна постепенность: сперва зарисовки, потом рассказы, а потом уже повести. Впрочем, не хочу наступать на горло твоей песне. Ты уже что-нибудь сочинил?
– Предисловие… И еще кое-какие наброски.
Все это я показал сперва папе, а потом Святославу Николаевичу. Тогда я еще не знал, какая страшная история вскоре произойдет, и в предисловии об этом ничего написано не было.
– Твои портретные характеристики несколько однообразны, – сказал папа, – а эпитеты, думается, крикливы. Ты подражаешь высоким, но старым образцам. Так уже нынче не пишут. Это не модно.
– Но ведь моды меняются, – возразил мой брат Костя. – Раньше носили длинные пиджаки, потом стали шить короткие, а теперь опять носят длинные…
В пиджаках Костя разбирался – у нас дома его считали пижоном.
– Да, я согласен, – сказал папа. – Мода – вещь переменчивая. И потом, первый опыт… Первый блин!
Святославу Николаевичу мой первый «блин» очень понравился.
– Кое-где ты продолжаешь благородные традиции рыцарских романов. В смысле стиля, конечно, – отметил он. – Могут сказать, что это несовременно…
– Мода – вещь переменчивая! – воскликнул я.
– Безусловно. К тому же я не хочу наступать на горло ни одной вашей песне!
Острая наблюдательность тебе многое подсказала. И еще подскажет! Так что…
Теперь в кружке уже…
– Пять человек! – быстро подняв руку, сказала Миронова.
Это было ее яркой особенностью: она любила подсказывать учителям.
– Нет, в кружке будет шесть членов, – поправил ее Святослав Николаевич. – Пять обыкновенных и один почетный: внук Бородаева!
Радость озарила усталые глаза Святослава Николаевича и его бледное, не всегда гладко выбритое лицо. Он не знал, к каким ужасным событиям это все приведет!..
И у меня на душе не было даже легкой тени тревоги. Даже смутное предчувствие чего-либо плохого не посетило, не коснулось меня в ту минуту.
Я радовался, как ребенок, что буду в одном кружке с Наташей Кулагиной! Я ликовал, как дитя!..
Глава 2,
в которой мы неумолимо приближаемся к страшной истории, хотя этого можно и не заметить
О, какие легкомысленные, поспешные выводы мы порой делаем!
Я всегда думал, что почетный участник чего-либо – это такой участник, который в отличие от обыкновенных участников может абсолютно ни в чем не участвовать. Но это было жестокое заблуждение.
Именно Глебу поручили организовать у нас в классе «Уголок Бородаева».
– Мне как-то… Самому-то… Это вроде не очень… – не договаривая фраз, отказывался Глеб.
– Заблуждение! – воскликнул Святослав Николаевич. – Неверное понимание…
Дети и внуки выдающихся личностей всегда пишут мемуары, воспоминания, открывают и закрывают выставки. Одним словом, чтут память. Кому же и чтить, как не им?
Острая наблюдательность подсказала мне, что Глеб писать мемуары не собирался и вообще ему было как-то не по себе. Но он все же принес фотографию, на которой его дедушка был изображен в полный рост.
Это был мужчина лет шестидесяти или семидесяти. Острая наблюдательность давно подсказала мне, что в молодости люди меняются каждый год, а у старых людей трудно определить возраст. Ростом он был невысок, в плечах неширок.
– Почти все крупные личности выглядят хилыми и некрупными, – объяснил Святослав Николаевич. – Природа устремляет свое внимание либо на мышцы, либо на мозговые извилины. На то и другое у нее не хватает сил.
У Бородаева не было бороды. У него были усы.
– Отталкиваясь от своей фамилии, писатель мог бы отпустить бороду, – сказал Святослав Николаевич. – Но он не пошел по пути наименьшего сопротивления!
Отсюда мы делаем вывод, что он не придавал значения внешним факторам, а только внутренним, то есть смотрел в существо, в глубь, в корень событий.
«Уголок Бородаева» расположился между подоконником и классной доской.
Здоровенный Принц Датский один приволок огромный фанерный стенд.
В центре поместили фотографию писателя, под которой был указан год рождения и через черточку – год смерти. Черточка была короткая, а жизнь Гл.
Бородаева была очень длинная: он скончался на восемьдесят третьем году жизни.
На стенде поместили любимые книги покойного писателя, которые Глеб тоже принес из дому. На каждой обложке стоял лиловый штамп: «Из личной библиотеки Гл. Бородаева».
Оказалось, что писатель любил детективы. И не стеснялся своей любви. Я сразу понял, что в его груди билось честное, благородное сердце.
Были тут и книги самого Гл. Бородаева. На них тоже стояли лиловые штампы.
Опытный глаз мог бы безошибочно определить, что чаще всего у писателя брали почитать его повесть, название которой заставило меня вздрогнуть: «Тайна старой дачи». Она была самой затрепанной.
– Детектив? – шепотом спросил я у Глеба. Он утвердительно мотнул головой.
– Дай почитать…
– Но это же экспонат! – вмешался стоявший рядом Покойник. И лениво кивнул на плакат, вывешенный Мироновой:
«Руками не трогать!» – Тебя не касается! – ответил я Покойнику с плохо скрываемым раздражением.
И вновь обратился к Глебу: – На одну только ночь!
– Хорошо, возьми, – сказал Глеб громко и внятно, как почти никогда раньше не говорил.
Мне показалось, ему было приятно, что он может разрешить, а мог бы и запретить. Но потом я подумал: «Нет, у него такой гордый вид просто потому, что я хочу почитать книгу его дедушки. Я бы тоже гордился. Это вполне естественно!» Повесть произвела на меня огромное впечатление. В предисловии было написано, что «она относится к позднему периоду творческой деятельности Гл.
Бородаева». Значит, на старости лет он вдруг полюбил детективы. А мои родители уверяли, что увлечение детективами – «это мальчишество». О, какие легкомысленные, поспешные выводы мы порой делаем!..
Да, «Тайна старой дачи» меня потрясла. Там было все, что я так ценил в художественной литературе: убийство и расследование.
Зимой на даче пропал человек. Исчез, испарился, как будто его и не было!
Это случилось ночью. Прямо под Новый год! Все окна и двери были заперты изнутри. Утром на снегу не нашли никаких следов. На протяжении трехсот двадцати трех с половиной страниц пропавшего искали следователи, собаки и родственники. Но напрасно… Это был единственный детектив из всех, которые я читал, где преступников не поймали.
В послесловии было написано: «Итак, преступников не обнаружили… Но зато обнаружила себя творческая индивидуальность автора! Он не пошел проторенным путем. В повести не найдешь „чужих следов“, как не было их возле старой дачи после таинственного исчезновения… „Тайна старой дачи“ так и осталась тайной. Зато читателю есть над чем поразмыслить!» Я размышлял несколько дней.
Глеб сказал, что дедушка описал дачу, на которой прошли последние годы его жизни.
– Детективный период? – спросил я.
– Нет, он только одну эту книгу… Больше он ни одной… Это была последняя…
– Лебединая песня! – воскликнул оказавшийся рядом Покойник. Он любил встревать в чужой разговор.
– Вот бы съездить на эту дачу! – сказал я.
– Всего час… Если на электричке… – ответил Глеб.
– Экскурсия на место событий? – усмехнулся Покойник. Убийства Покойника не волновали: он привык думать о смерти.
Святослав Николаевич сказал, что «Уголок Бородаева» необходимо украсить семейными фотографиями.
На следующий день Глеб принес старую карточку, на которой усы у Гл.
Бородаева почти совсем выцвели, лицо пожелтело. Он сидел в центре, а рядом стояли какие-то люди. Святослав Николаевич спросил у Глеба, кем они приходятся писателю. Глеб не знал.
– Вот наш кружок и прикоснется к поиску, к литературному исследованию! – воскликнул Святослав Николаевич. – Узнай дома, кто запечатлен фотографом на этой семейной реликвии.
Когда через три дня фотографию поместили на стенде, под ней была подпись:
«Писатель Гл. Бородаев в кругу близких. Слева направо: сосед писателя, соседка (жена соседа), брат жены писателя, жена брата жены, друг детства писателя, жена друга детства (вторая), дочь друга детства, сын друга детства, сын сына друга детства…» Это были результаты исследования, которое провел Глеб.
– А сам-то ты где? – спросила у Глеба Миронова, которой поручили делать подписи под семейными реликвиями. У нее был самый разборчивый и красивый почерк.
– Я с дедушкой никогда… Я был еще маленький… – ответил Глеб.
– Ну что-о же ты? – печально протянула Миронова. – Ка-ак же ты так?
На следующий день Глеб принес фотографию, где он сидел в гамаке рядом с каким-то мужчиной. Опытный глаз мог бы заметить незаметное сходство между мужчиной и Глебом.
– Это папа, – объяснил Глеб. – А это вот я… Под фотографией сделали подпись: «Слева направо: сын писателя, сын сына писателя».
Тогда Глеб принес еще три семейные реликвии: он был снят с дядей и тетей, с сестрой и братом, с двоюродным братом и двоюродной сестрой. Все его сразу узнавали на фотографиях:
– Вот он! Ну как же… Вот он, присел на корточки! Почти что не изменился.
Миронова интересовалась, кем точно родственники, изображенные на фотографиях, приходятся Гл. Бородаеву, и делала подписи.
Часто к нам стали забегать ребята из других классов.
– Кто это у вас тут внук писателя? – спрашивали они. Мы указывали на Глеба.
Сперва он пригибался к парте, словно хотел залезть в нее от смущения. Но потом стал выпрямляться, уже не прятался, а протягивал руку и говорил:
– Очень приятно. Давайте знакомиться!..
Однажды на какой-то конференции старшеклассников Глеба выбрали в президиум.
И объявили, из какого он класса. Чувство законной гордости возникло в наших сердцах! Если кто-нибудь теперь говорил, что не знает Гл. Бородаева, не читал его книг, мы возмущались: «Это позор! Каждому культурному человеку известно…» На разных школьных собраниях нас начали ставить в пример другим:
– В этом классе умеют чтить память знатного земляка! В этом классе любят литературу!..
– Каждый класс, как и человек, должен иметь свое лицо, свою индивидуальность, – объяснял Святослав Николаевич. – Раньше у нас этой индивидуальности не было. Теперь она у нас есть!
– Ты заметил, что Глеб стал говорить не хуже, чем мы с тобой? – спросила меня как-то Наташа Кулагина.
«…Мы с тобой», – сказала она. Сердце мое забилось. Я смотрел на нее с плохо скрываемой нежностью.
– Теперь он все фразы дотягивает до конца. Ты заметил? Когда она обращалась ко мне, я всегда хотел сказать ей в ответ что-нибудь умное. Но ничего умного мне на ум в такие минуты не приходило. И я отвечал: «О, как ты права! Я думаю то же самое!..» – О, как ты права! – ответил я ей и на этот раз. – Глеб стал говорить так же прекрасно, как мы с тобой. Я тоже заметил.
– Слава, оказывается, излечивает человека от застенчивости, от робости, – сказала Наташа.
А я подумал: «Эту мысль она обязательно запишет в свою тетрадку. Она рада, что Глеб излечился: ведь болезнь – это плохо, а излечение – всегда хорошо!» – Он по-прежнему кормит собак? – спросила Наташа.
– Я не следил… Но я это узнаю! Клянусь, я это выясню для тебя! – крикнул я с плохо скрываемым волнением, потому что давно мечтал сделать что-нибудь для нее, выполнить ее задание или просьбу.
– Не надо узнавать, – сказала Наташа. – Может быть, ему сейчас некогда?
– О, конечно! Ведь его даже на общешкольные конференции приглашают!.. – воскликнул я.
И сразу же пожалел, что воскликнул. «Почему она так интересуется Глебом?
Женщины любят знаменитостей. Я где-то читал об этом.. Может быть, и она?..» Эта мысль заставила меня похолодеть. Но лишь на мгновение. «Нет, она не такая!.. – сказал я себе. – Просто она патриотка нашего класса. А Глеб принес классу известность, вот она и интересуется». Ревность, которая готова была со страшной силой вспыхнуть в моей груди, уступила место доверию.
Однажды на уроке литературы, когда до звонка оставалось минут пятнадцать, Святослав Николаевич сказал:
– Сегодня Глеб по моей просьбе приготовил для нас всех небольшой сюрприз: он прочтет несколько писем своего дедушки. Они адресованы родным и близким писателя. Эти материалы из семейного архива представляют большую ценность: нам станет ясен круг интересов писателя, мы заглянем в мир его привязанностей, его увлечений.
Глеб, который раньше умирал от смущения, когда его вызывали к доске, на этот раз твердой, уверенной походкой прошел между рядами парт и сел за учительский столик. Святослав Николаевич уступил ему место.
О каждом письме Святослав Николаевич говорил, что оно «очень показательно».
Если письмо было длинным, он восклицал:
– Как это показательно! Несмотря на свою занятость, писатель находил время вникать в мельчайшие проблемы быта. Отсюда мы можем понять, что он никогда не отрывался от жизни, которая питала его творчество.
Если же письмо было коротким, напоминало записку, Святослав Николаевич восклицал:
– Как это показательно! Краткость, ни одного лишнего слова… Отсюда мы можем понять, как занят был писатель, как умел дорожить он каждой минутой!
В другой раз, в конце урока литературы, Святослав Николаевич сказал:
– Давайте попросим Глеба Бородаева вспомнить какие-нибудь истории из жизни его дедушки.
Глеб опять прошел между рядами своей новой, твердой походкой, опять сел за учительский столик. Но ничего вспомнить не мог. Весь урок я боялся, что Святослав Николаевич вызовет меня к доске, и поэтому закричал:
– Поду-умай, Глеб! Вспомни что-нибудь!.. Это так интересно. Так важно!
– Вспо-омни! – стали умолять его и другие, которые боялись, что их вызовут отвечать.
– Вот видишь, какой интерес к биографии твоего дедушки, а значит, к литературе, – сказал Святослав Николаевич.
Глеб вспомнил, что однажды ходил с дедушкой в магазин. До звонка оставалось еще минут десять.
– А что вы там покупали? – закричал я. – Это так показательно!
Глеб продолжал воспоминания…
В следующий раз мы с ребятами сами стали просить на уроке литературы:
– Пусть Глеб вспомнит еще что-нибудь. Пусть он расскажет!..
– Возникает живое общение с писательским образом! – сказал Святослав Николаевич.
Глеб вспоминал одну историю за другой. В его груди продолжало биться честное, благородное сердце, готовое прийти на помощь товарищам.
Ценность творчества Гл. Бородаева возрастала в наших глазах с каждым часом!..
Глава 3,
в которой мы делаем еще несколько шагов навстречу страшной истории
Все, о чем вы прочитали в первых двух главах, было моим далеким воспоминанием: это случилось в прошлом году
А в этом году Святослав Николаевич нас покинул. Раньше, когда мы делали что-нибудь не так, как ему бы хотелось, Святослав Николаевич предупреждал:
– Я сбегу на пенсию, если вы решительно не изменитесь!
А прощаясь с нами, он был не в силах сдержать волнение. Слезы душили его и чуть было не задушили совсем. Миронова подняла руку и спросила:
– Вам плохо?
– Нет, мне хорошо! – ответил Святослав Николаевич. – Хорошо оттого, что я осознал чувства, которые испытываю к вам. Я знал вас всего год, но не забуду никогда… Никогда! Говорят, первая любовь – самая сильная, а я думаю, что последняя!..
Мы были его последней любовью! Чувство законной гордости возникло в наших сердцах.
Вместо Святослава Николаевича к нам пришла Нинель Федоровна.
Это было стройное существо лет двадцати пяти. Может быть, об учительнице так говорить нельзя? Но она была совсем не похожа на учительницу. И когда шла на переменке по коридору, ее вполне можно было принять за ученицу десятого или даже девятого класса. Выражение лица у нее было такое, что казалось, она вот-вот расхохочется. Я никогда не встречал на лицах учителей такого странного выражения. За глаза ее никто не называл по имени-отчеству, а все стали звать просто и коротко: Нинель.
Когда Нинель Федоровна пришла к нам в первый раз, она сразу обратила внимание на стенд, который был между подоконником и классной доской.
Увидела огромную фотографию и спросила:
– А кто это такой, Гл. Бородаев?
Мы просто похолодели и приросли к своим партам. Только Миронова не растерялась. Она любила подсказывать учителям. И тут тоже подняла руку, встала и объяснила:
– Бородаев – наш знатный земляк. Он творил во второй четверти этого века.
– А что он творил? – спросила Нинель Федоровна.
– Разные произведения, – ответила Миронова. – У нас есть литературный кружок его имени.
– Имени Бородаева? – Нинель Федоровна рассмеялась. Она была из другого города, до которого слава нашего знатного земляка пока еще не докатилась.
Миронова подняла руку и объяснила:
– У нас в классе учится внук писателя Бородаева. Он сидит на самой последней парте в среднем ряду. Он почетный член нашего литкружка.
– Почетный? Зачем такой громкий титул? Нинель Федоровна заглянула в журнал.
– Пусть Глеб меня извинит. Я не читала книг его дедушки. Это моя вина.
Когда выставка закроется, – она указала на стенд, – тогда я возьму все эти книги и прочитаю. Так что ты, Глеб, меня извини.
Мы еще сильнее похолодели. Во-первых, ни одна учительница никогда не просила у нас прощения. А во-вторых, она собиралась закрыть «Уголок Бородаева»…
Мне стало тоскливо: «Неужели старшеклассники не будут больше забегать к нам? И никто больше не скажет:
«В этом классе умеют чтить… В этом классе любят литературу!» Мы станем самым обыкновенным классом. Как все… Неужели?» Другие ребята тоже затосковали. Я чувствовал это: все словно замерли, даже тетрадки не шелестели.
Миронова снова подняла руку.
– А мы готовим специальное собрание кружка, посвященное творчеству знатного земляка…
Она очень хотела помочь новой учительнице поскорей во всем разобраться.
– В какой четверти нашего века творил Бородаев? – переспросила Нинель Федоровна.
Миронова взметнула вверх руку и выпалила:
– Во второй!
Она любила подсказывать учителям.
– А мы давайте начнем с первой четверти прошлого века, – предложила Нинель Федоровна. – С Пушкина, например… Потом пойдем дальше. И так постепенно доберемся до Бородаева.
– У нашего кружка творческая направленность, – сказал Покойник. – Мы сами сочиняем.
– Я тоже пишу стихи, – сообщила Нинель Федоровна. – Когда-нибудь вам почитаю. Если наберусь храбрости. Что вам еще хочется узнать обо мне? Я не замужем. Играю в теннис.
Учителя никогда не рассказывают о своей личной жизни. А узнать интересно!
Это я по себе знаю. Помню…
Она начинала мне нравиться. Опытный глаз мог почти безошибочно определить, что и другие ребята ожили: они задвигались, зашевелились.
– В этом городе, – сказала она, – у меня нет ни родственников, ни знакомых, ни близких. Теперь вот вы будете… Если получится…
Раньше, когда раздавался звонок, все сразу выскакивали из класса. А тут стали медленно подниматься, будто отяжелели от разных дум и сомнений.
Я подошел к Нинель Федоровне и сказал:
– Знаете, у Бородаева есть повесть «Тайна старой дачи»… Потрясающий детектив! Весь наш кружок хотел съездить на эту дачу. Походить по местам событий… Это недалеко: всего час, если на электричке.
– Он писал детективы? – шепотом спросила Нинель Федоровна. И кивнула на фотографию Бородаева.
– А вы любите их? – воскликнул я с плохо скрываемым волнением.
– Все любят. Только некоторые не сознаются. Стесняются!..
«У нас полное родство душ! – подумал я. – Она угадывает мои мысли!..» Ребята начали выходить в коридор. Только Глеб остался сидеть на своем месте, пригнувшись к парте. Рядом стоял Принц Датский.
Нинель Федоровна подошла к ним. И я подошел.
– Мы решили поехать на старую дачу, – сказала она. – В одно из ближайших воскресений. Пока еще осень… Ты, Глеб, будешь нашим проводником?
– Я, пожалуйста… Если, конечно, вы… А я с удовольствием… – Он опять перестал договаривать фразы.
Когда Нинель Федоровна отошла. Принц Датский пообещал Глебу:
– Я напишу к этому дню стихотворение! Может, тебе будет приятно?..
И погладил Глеба по голове. Острая наблюдательность давно подсказала мне, что физическая сила сочеталась в Принце с детской застенчивостью и добротой.
В коридоре меня остановила Наташа Кулагина. Это случалось так редко, что я буквально затрепетал.
– На твоем месте я бы в нее влюбилась, – сказала Наташа. И так пристально посмотрела, что внезапная догадка озарила меня: «Испытывает! Ревнует!..» О, как часто мы выдаем желаемое за действительное!
– Влюбиться? – громко переспросил я. – Ну, что ты? Какие для этого основания?..
– Значит, у тебя нет вкуса. Она прелестна!
«Неужели и правда хочет, чтоб я влюбился? Неужели ей все равно?» С этой тягостной мыслью я слонялся по коридору всю перемену.
Примерно через неделю Нинель Федоровна сказала:
– Я готовлюсь к теннисным соревнованиям. На первенство города… Кто хочет, может прийти на тренировку. Я вас там встречу, на стадионе. Правда, это на краю города. Но вы доберетесь: троллейбус, потом трамвай. Знаете?
Приехали почти все. Она бегала по корту в белой майке и в белых трусах.
Не многие классные руководители решились бы бегать перед своими учениками в таком виде. А она решилась. Потому что она была молода и прелестна!
Все мы, выражая чувства, охватившие нас, орали: «Нинель Федоровна! Нинель Федоровна!..» – Никогда еще не слышал, чтобы болельщики называли своих кумиров по имени-отчеству, – сказал пожилой человек в шляпе, который сидел впереди меня.
Через несколько дней созвали родительское собрание. Мама и папа были в тот вечер заняты. Пошел мой старший брат Костя. Он уже не первый раз ходил на такие собрания.
Я не ложился спать, пока не дождался Костю: он всегда подробно пересказывал мне, что говорили родители, а что учителя. Это было так интересно!
Когда Костя вернулся, мама с папой были уже дома.
– Ну что?! – набросился я на брата.
– Защищал вашу Нинель!
– На нее нападали?
– Еще как!
– Кто посмел?
– Ваши родители… Не все, конечно. Но некоторые.
– Что они говорили?
– Во-первых, она отобрала у вашего класса его лицо, его индивидуальность.
Во-вторых…
– Во-вторых, ему давно уже пора спать! – сказал папа. Он считал, что нельзя в моем присутствии подрывать авторитет взрослых, особенно же учителей.
Костя махнул рукой.
– В общем, я ее защищал.
– Она ведь тебе понравилась? – спросил папа, тоном своим как бы подсказывая брату ответ. – Ведь понравилась?
– Да, очень хорошенькая! – ответил Костя.
Острая наблюдательность давно подсказала мне, что люди в трудную минуту хватаются за то, что у них болит: кто за голову, кто за сердце. Папа схватился за бок.
– А что такое? – спросил Костя. И пошел спать.
Глава 4,
в которой мы отправляемся на старую дачу
На следующий день опытный глаз мог почти безошибочно определить: никто в классе, кроме меня, не знал о том, что на собрании ругали Нинель.
«Все-таки лучше, когда на родительское собрание ходят не родители, а братья, – думал я. – Если бы папа не остановил Костю, я узнал бы все до конца!» Утром я поймал брата в ванной.
– Скажи, за что они набросились на нее?
– Пожалуй, старик прав: ты разболтаешь об этом в классе. А она такая хорошенькая! Хорошая, я хотел сказать…
– Никто не узнает! Никто!..
– Знаю тебя!
Костя полез под душ…
Перед уроками ко мне подошла Наташа Кулагина. «На этой неделе она подходит уже не первый раз! – подумал я с плохо скрываемой радостью. – Это, значит, уже не случайность!..» О, как часто мы выдаем желаемое за действительное!
– Мама вчера не была на собрании, – сказала Наташа. – Интересно узнать, о чем там говорили.
Ее желание было для меня законом! И я сказал:
– Там ругали Нинель.
– Кто ругал?
– Родители. Не все, конечно. Но некоторые…
Губы ее задрожали. Наташа сказала громко и возмущенно:
– А другие молчали?
– Мой брат не молчал! Он бросился на защиту Нинель. Она ему нравится.
– Значит, у него вкус лучше, чем у тебя. О, если бы в эту минуту она могла взглянуть в зеркало, она бы поняла, какой у меня замечательный вкус!
– Мама больна… – сказала Наташа. – Она бы сумела им объяснить.
– Чем больна твоя мать?! – воскликнул я. – Может быть, надо помочь? Прикажи мне, скажи одно слово, и я сделаю все.
Наташа взглянула на меня с испугом. И даже отступила на шаг.
– Ты сам-то здоров?
– О, не смейся! – воскликнул я с плохо скрываемой горечью и обидой. – Может быть, надо достать лекарство? Моя тетя работает в аптеке и всегда достает…
– Маме прописано только одно лекарство: не волноваться, полный покой! Это лекарство твоя тетя достать не сможет. Его в нашем веке просто не вырабатывают.
Я подумал, что эту мысль она непременно должна записать в тетрадку!
«Какой наша Нинель сегодня придет в класс? – размышлял я. – Наверно, никому уже не будет казаться, что она вот-вот расхохочется. Она будет взволнована. Что нам тогда делать? Успокаивать ее? Нет, нельзя. А может быть, она будет так спокойна, как никогда!..»
Нинель Федоровна была абсолютно такой же, как раньше.
– Мы с вами должны будем посоветоваться. Как-нибудь после… – сказала она.
– Может быть, в чем-то я была неправа. Кстати, и о старой даче пора уже вспомнить. Я вам обещала. Подышим, погуляем в осеннем лесу. Глеб будет нашим проводником.
«Мы поедем на старую дачу! Походим по комнатам, которые описаны в повести… Я увижу стол, за которым работал Гл. Бородаев. Это так интересно; ведь мы с ним, можно сказать, коллеги!» – так я мысленно ликовал, не подозревая в те радостные минуты, что страшная история была совсем близко, почти рядом…
«Уголка Бородаева» в нашем классе уже не было. На стенде, который притащил Принц Датский, была устроена выставка, посвященная Пушкину; мы как раз проходили его стихи. Верней, изучали… Нинель говорит, что «проходить» можно только мимо чего-нибудь.
Глеб принес мне из дому повесть Гл. Бородаева. И я прочитал ее еще раз. А полстраницы прямо-таки выучил наизусть:
«Никто не знал его имени, ни тем более отчества и фамилии. Все звали его просто Дачником. Это прозвище как нельзя лучше соответствовало его положению в ту зиму; он снял угловую комнату на втором этаже старой дачи, выходившую единственным окном своим прямо в сад. Дачник почти никогда не покидал эту комнату.
А природа между тем жила своей особой, но прекрасной жизнью! Сперва она явно заигрывала с Дачником: кокетничала ослепительными лучами, забиралась к нему в комнату студеным ветром, постукивала по стеклу обнаженными ветками… Но он не обращал на нее внимания, и она обозлилась: задула, засвистела, заулюлюкала… Обозлились и соседи по даче: он не пытался развлечь их разговором в монотонные зимние дни. Никто не видел, что он ест, что он пьет. Перед сном он прогуливался минут пятнадцать, не более.
Последний раз в жизни он прогулялся в канун Нового года. Слышали, как в полночь он поднялся в комнату по ворчливо-скрипучей лестнице. А утром его не стало…
Дверь, выходившая прямо на лестницу, была заперта изнутри. Окно, выходившее прямо в сад, было закрыто. На снегу – никаких следов. Дачник исчез». Так начиналась повесть. Потом, как я уже говорил, на протяжении трехсот двадцати трех с половиной страниц Дачника искали следователи, собаки и родственники, которых у него оказалось ужасно много. От них-то он, как выяснилось, и скрывался на даче: они мешали ему что-то изобрести… «Он искал покоя, – было сказано в повести, – но не того, который нашел. Хотя…
До сих пор ничего не известно… Поиски продолжаются…» – Дедушка хотел дальше… Продолжение… Но он… Понимаешь? – объяснил мне Глеб.
И вот мы должны были отправиться на место загадочного происшествия! Да, все, о чем рассказывалось в повести, оказывается, не было вымыслом, а случилось на самом деле. Об этом сообщил мне в то самое воскресное утро внук писателя. Он скрывал это раньше: думал, что мы побоимся ехать прямо на место совершенного преступления.
– Ты-то, я знал, что нет… – сказал Глеб. – Ты Детектив! А другие?..
– Другим – ни слова! – сказал я. Потом Глеб сообщил мне другую новость, и она повергла меня во временное смятение: Нинель Федоровна заболела.
– Ясно: нервное потрясение, – сказал я. – Довели!
— Не-ет, — стал объяснять Глеб. — Ей комнату в новом доме… Переезжала… И вот! Простуда…
Мы разговаривали в школьной канцелярии, где все члены литературного кружка договорились собраться.
— С остальными я поеду за город в другой раз: зимою, на лыжах, — пообещала накануне Нинель. — Всем сразу на дачу являться неловко: всё-таки там не музей. Там же люди живут…
Я пришёл минут за тридцать до срока: мне не терпелось. А Глеб ещё раньше.
— Дежурная передала… Ещё вчера вечером… Я заходил… — пояснил Глеб. — Нинель Фёдоровна ей… По телефону…
— А почему ты вчера же не сообщил нам? Или хотя бы мне одному?
— Боялся, что вы того… Не поедете… Может, мы сами? Без неё? А?.. Как ты считаешь? Или нет?.. Там можно дорасследовать… Раскрыть… Понимаешь? Ты ведь у нас Детектив!
Я погрузился в раздумье. И в этом состоянии находился довольно долго. До тех пор, пока не показались Наташа Кулагина, Принц Датский с Покойником и Миронова.
Принц Датский прямо с порога сообщил:
— Сегодня утром пришли на ум кое-какие строчки. Может, вам будет приятно?
Он протянул тетрадный лист Покойнику. Принц никогда не читал своих стихов сам: он стеснялся. Покойник громко, нараспев, подражая настоящим поэтам, продекламировал:
Мы давно стремились к старой даче!
И хотя закрыли тучи небо,
Едем мы под руководством Глеба!
Сквозь дождя и ветра кутерьму
Он везёт нас к деду своему!..
Добрый Принц учёл, что уже давно никто не просил Глеба вспоминать истории из жизни его дедушки, читать письма. Давно уже никто не разглядывал фотографии из семейного архива Бородаевых.
Прослушав стихи, Глеб как-то приосанился, лицо его просветлело. Опытный глаз мог почти безошибочно определить, что Глеб вспомнил о тех днях, когда им интересовалась вся школа.
Добрый Принц призвал его руководить нами, и Глеб сразу заговорил громче и уверенней, чем обычно.
— Неизвестно, поедем ли мы, — сказал он. — Нинель Фёдоровна заболела.
— Чем? — спросила Наташа Кулагина.
— Переезжала в новый дом… И вот… простудилась, — пояснил Глеб.
— Может быть, надо помочь?
— Где эта улица? Где этот дом? — лениво пропел Покойник.
— Адрес?.. Его, наверно, никто… — сказал Глеб. И твёрдо добавил: — Не знает!
Он старался дотягивать фразы до конца: ведь Принц назвал его нашим руководителем.
— Поедем на дачу сами! — твёрдо сказал я, обращаясь сразу ко всем.
Пока не было Наташи Кулагиной, меня полчаса терзали сомнения. Но как только она появилась, решимость немедленно овладела мною: «Не ехать нельзя! Когда я ещё смогу быть целый день рядом с нею? Сама судьба буквально подсовывает мне этот счастливый случай! Смею ли я отказаться? А вдруг я в её присутствии и правда что-нибудь дорасследую, распутаю что-нибудь такое, чего недораспутали следователи и родственники? Она поймёт, что я ношу своё прозвище не из-за синего мешка с галошами, а по более серьёзным причинам. И наконец-то оценит!..»
— Люблю грозу в начале мая! — сказал Покойник. — Но в двадцатых числах сентября…
Вялым жестом он указал на окно.
— И ещё неизвестно, как Нинель Фёдоровна отнесётся, — сказала Миронова. — Она хотела сама лично погулять с нами по лесу. Подышать!
— Нас там очень… Я вчера вечером по телефону, по междугородному… — сказал Глеб. И решительно дотянул — …предупредил, что мы сегодня приедем!
— Да-а, ехать или не ехать — вот в чём вопрос! — воскликнул Принц Датский.
Тут раздался телефонный звонок.
Глеб всё ещё чувствовал себя нашим руководителем и поэтому схватил трубку:
— Да! Кто? Это вы, Нинель Фёдоровна?.. — Нежная, бархатная кожа его лица покрылась румянцем. — Да… Мы все… Вот не знаем, ехать ли… — И он решительно дотянул: —…или без вас не ездить?
Внезапно глаза Глеба вспыхнули немыслимой радостью. Острая наблюдательность подсказала мне, что Нинель говорит ему что-то приятное.
И вскоре я понял, что именно.
— Ага, понимаю… Хорошо, мы поедем. Раз вы разрешаете… Передать трубку Алику?
Я выхватил трубку. Она была слегка сыроватой: так Глеб волновался.
— Слушаю вас, Нинель Фёдоровна! Ах, ангина? Ладно, я помогу Глебу. Обещаю вам! Спасибо, что доверяете!
Мне хотелось, чтобы Наташа Кулагина по ответам моим поняла: Нинель Фёдоровна именно меня попросила помочь Глебу, именно мне сказала, что доверяет. Чувство законной гордости переполнило моё сердце!
— Какая у вас температура? — крикнул я весело: у меня было отличное настроение. Но сразу же спохватился и с тревогой добавил: — Надеюсь, что невысокая?
— Тридцать восемь и пять, — сказала она. И повесила трубку.
— Мы должны оправдать доверие, — сказал Глеб чётко и громко.
— Да? Ты считаешь? — промямлил Покойник.
— Теперь уже надо ехать, — сказала Миронова. — Раз она сама позвонила!..
— Слушайте все внимательно! — скомандовал Глеб. — Электричка уходит в девять пятнадцать. Все — за мной, чтобы не потеряться. Не отставайте! Куда я, туда вы!..
— Слушайте все внимательно! — скомандовал Глеб. — Электричка уходит в девять пятнадцать. Не отставайте!
— Ты сказала как-то, что слава излечивает от робости и застенчивости, — прошептал я Наташе уже в вестибюле. — Верная мысль! Глеб опять излечился!..
— Очень жалко, — сказала Наташа.
Мы вышли на улицу.
А природа между тем жила своей особой, но прекрасной жизнью!..
Погода была отличная! Лил дождь, ветер хлестал в лицо, земля размокла и хлюпала под ногами… «Это создает нужное настроение! — думал я. — Ведь мы едем не развлекаться, а на место таинственного преступления!»
— Пушкин любил осень, — сказал промокший Покойник. — Спрашивается: за что?..
Глава 5,
которая подводит нас буквально к самому порогу страшной истории
Пока мы ехали на электричке, погода испортилась. Выглянуло солнце. Природа явно заигрывала с нами: она кокетничала осенними лучами, забиралась к нам под пальто прохладным ветерком, махала нам обнажёнными ветками… Разве можно в такую погоду как следует настроиться на мысль о преступлении?!
Но я всё же настроился… Накануне я услышал по радио, что, когда композитор Бородин умер, друзья из «Могучей кучки» закончили за него оперу «Князь Игорь».
Это было для меня абсолютным открытием! Оно натолкнуло меня на идею. И даже на несколько идей сразу… Может быть, мне удастся закончить повесть Гл. Бородаева! Вдруг я сумею разгадать тайну: куда девался тот человек! Я напишу вторую часть «Старой дачи». И Наташа запишет в тетрадку какую-нибудь замечательную новую мысль. «Конечно, его нельзя сравнить ни с Покойником, — напишет она, — ни даже с Принцем. И вообще ни с кем!..»
Я не знал, не мог даже предположить, что в тот день, в то самое обычное воскресенье… Но не буду забегать вперёд, хотя мне очень хочется забежать.
Бледный Покойник ожил под солнечными лучами и произнёс:
— «Да здравствует солнце!» — сказал как-то Пушкин. И в этом я с ним согласен.
Когда мы сошли с поезда на дощатую платформу маленькой дачной станции, Наташа стала оглядываться.
— Кого ты ищешь? — спросил я с тревогой.
— Вон расписание… Я должна вернуться к шести или семи часам. Не позднее! Чтобы мама не волновалась.
— Она всё ещё не встаёт?
— Нет, — сказала Наташа. — Сердце…
Я бросился к расписанию. Мне казалось, что кто-то хочет меня обогнать. Так всегда бывает, всегда: если какое-нибудь существо становится небезразличным, думаешь, что оно нравится всем вокруг и все испытывают те же чувства, что ты. Эта мысль не даёт покоя!
— Есть электричка в семнадцать ноль-ноль! — доложил я. — А потом — в двадцать ноль-ноль.
— Нам надо в семнадцать! Мы успеем?
«Нам… мы…» — я готов был слушать эти слова бесконечно!
— Идёмте! — скомандовал Глеб.
От станции шли минут сорок, не более. Но и не менее, потому что я следил по часам. Специально взял у Кости часы, будто заранее знал, что они в этот день… Нет, забегать я не буду. Не буду!
— За мной! За мной! — командовал Глеб. Ему нравилось быть начальником. — Только не отставать.
Я его просто не узнавал.
Судьбе было угодно, чтобы дорога к даче была очень запутанной. Это мне нравилось: мы двигались, словно по лабиринту: то сворачивали в лес, то шли между дачными заборами, то петляли вокруг каких-то сараев, то опять углублялись в лес… Казалось, удирая от кого-то, мы старались запутать следы.
Я подумал, что без Глеба нам ни за что не добраться обратно на станцию.
— За мной! За мной!.. — поторапливал Глеб. И вновь куда-то сворачивал…
Наконец он остановился. И мы тоже.
— Пришли! — сказал Глеб.
Я взглянул и увидел её. Она выходила одной стороной прямо на дорогу, а другой — прямо в лес. Меня сразу поразило то, что старая дача вовсе не была старой.
— Её покрасили, что ли? — спросил я у Глеба.
— Нет, она всегда такая была.
— «Тайна старой дачи» — это звучит? — спросил у меня Покойник.
— Звучит.
— А «Тайна новой дачи»?
— Не очень.
— Теперь понял? Знаешь, что такое — авторский домысел?
Принц Датский смотрел на Покойника с уважением.
А я лично терпеть не мог, когда Покойник начинал изъясняться «вопросами», будто устраивая кому-то экзамен.
— Почему не видно доски? — сказал он.
— Какой? — спросил Глеб.
— Мемориальной, конечно: «Здесь жил и умер…»
— А он не здесь…
— Тогда по-другому: «Здесь жил и не умер писатель Гл. Бородаев!»
«Может, Покойник всё-таки хочет поставить над своим очередным стихотворением буквы Н. К.? — подумал я. — Чего он вдруг в Наташином присутствии так старается?»
Принц продолжал смотреть на него с уважением.
Я решил немедленно перехватить инициативу!
— Больше я не могу молчать. Вы должны узнать кое-что важное, — сказал я. — То, что написано в повести Гл. Бородаева, — это не авторский домысел. Здесь, на этой вот даче, исчез человек… Как будто его и не было! Мы с вами пойдём не по следам повести, а по следам преступления…
Покойник притих.
— На даче кто-нибудь есть? — спросил я у Глеба.
— Дачники все уехали.
— До одного?.. — прошептал Покойник.
— Ну да, эго же видно! — бодро ответил я. — В посёлке сейчас ни души. Кричи не кричи, никто не услышит.
— А зачем нам кричать? — спросила Наташа.
— О, не бойся! — воскликнул я. — Конечно, всякое может случиться. Но я, то есть мы, тут, рядом. Всё-таки исчез человек…
«Если бы мне представили случай от чего-нибудь сё защитить!» — подумал я в ту минуту.
Миронова подняла руку:
— Нинель Фёдоровна сказала: «Подышим, погуляем в осеннем лесу!»
Острая наблюдательность подсказала мне, что Миронова не боится: она просто и на расстоянии подчинялась классной руководительнице. Такой у неё был характер.
— Сначала — подышим воздухом, которым дышал Гл. Бородаев! — ответил я ей.
— А как мы туда попадём, в эту дачу? — спокойно спросил Принц Датский.
— Дверь открыта, — сказал Глеб. — Я же предупредил, что мы будем. Вчера по междугородной…
— Пошли! — крикнул я. — Не бойтесь!
И первым вошёл в дачу.
Там было тихо. Только сверху раздавалось какое-то бормотание. Все застыли. Я тоже вздрогнул… Но даже опытный глаз не смог бы этого определить: я вздрогнул внутренне, про себя.
— Это племянник хозяйки, Григорий, — сообщил Глеб почему-то не сразу. — Он сторожит все дачи в посёлке. Он ждёт нас… И всё нам расскажет.
«Та самая лестница! — подумал я. — „Ворчливоскрипучая“, как написано в повести. По ней в новогоднюю ночь шёл Дачник после своей последней прогулки. Больше он не гулял!..»
Мы стали подниматься по «ворчливо-скрипучей» лестнице. Она не скрипела. «Понятно: авторский домысел!»— сказал я себе.
Сверху из комнаты стали ясно доноситься слова:
— Вы так?.. А мы вас — бац по загривку! Вы всё-таки трепыхаетесь? А мы вас — по шее трах!..
Покойник остановился. За ним и все остальные.
Сверху неслось:
— Ах, вы ещё живы? Тогда получите! И ещё, и ещё, и ещё!
— Что там происходит? — спросил Покойник.
— Может быть, надо помочь? — воскликнул я. Бросил прощальный взгляд на Наташу и кинулся наверх.
Дверь угловой комнаты была приоткрыта. Племянник Григорий играл сам с собой «в дурачка». Он «ходил» и за себя и за противника, которого не было.
— Ах, вы ещё дышите? Вот вам! Вот вам ещё!
Он стал подкидывать «королей».
— Сюда! Смелее сюда!.. — крикнул я, словно взобрался на вершину горы, а остальные были ещё где-то на склоне.
Миронова зашагала: она подчинялась командам.
Глеб тоже взбежал наверх. Поднялась и Наташа. Принц Датский прикрывал собою Покойника.
Племянник Григорий повернул голову к нам и погасил папиросу прямо об стол, на котором лежали карты.
Это было огромное существо лет двадцати пяти, не более.
— Он вырос на руках у дедушки, — сказал Глеб.
Я часто стараюсь представить себе взрослых людей детьми, которыми они были когда-то… Григория я почему-то представить себе ребёнком не смог. Острая наблюдательность давно подсказала мне, что почти в каждом человеке на всю жизнь остаётся что-нибудь детское: или взгляд, или смех, или какой-нибудь жест. У Григория ничего детского не осталось… И я не мог вообразить себе, как Гл. Бородаев таскал его на руках.
Я уже говорил, что прозвища стали у нас в школе повальным бедствием: почти никого не называли по имени. Я до того привык к этому, что, знакомясь с каким-нибудь человеком, сразу же мысленно давал ему прозвище. Григория я стал про себя называть Племянником. Очень как-то не подходило к нему это милое семейное слово, — вот я его и прозвал: мы часто давали прозвища как бы в насмешку. Низкорослому кричали: «Эй, Паганель!», а длинному: «Пригнись, лилипутик!»
Племянник поднялся со стула.
Можно было подумать, что ему от рождения досталась не своя голова: она была очень маленькой. И на лице было так мало места, что на нём не умещалось ничего, кроме усмешки. Усмехался Племянник всё время.
— Ну, чего вам показывать?
— Нам всё интересно! — сказала Миронова.
— В этой комнате тот самый чудак жил, который пропал. Залез сюда под Новый год — и баста. Провалился, как будто мать родная не родила. Соображаете?
Миронова сразу стала записывать. Она на всяких докладах, лекциях или творческих встречах записывала буквально каждое слово. Скажет докладчик: «Здравствуйте!» — она начинает писать. Скажет он: «До свидания!» — она тоже запишет и захлопнет тетрадь.
«Туго, как струны, натянутые провода чуть не касались окна его комнаты…» — вспомнил я строки из повести. Провода в самом деле «чуть не касались». Тут не было домысла.
«Пора уже, наконец, по-настоящему оправдать своё прозвище!» — решил я. И произнёс:
— Мне помнится, в повести сказано: «В полночь на даче потух свет. Утонул во тьме и весь дачный посёлок…»
— Слушай, парнёк, ты не выскакивай!.. — Племянник отмахнулся, будто на том месте, где я стоял, вдруг зажужжал комар. В слове «паренёк» он почему-то пропустил первое «е».
Я очень любил, чтобы на меня при Наташе Кулагиной поглядывали девчонки и чтобы она это замечала. Я был счастлив, если при ней ко мне обращались за помощью, просили что-нибудь объяснить: задачку или там теорему… Но когда при ней ко мне относились пренебрежительно, я ужасно страдал.
— Понимаете, — стал я объяснять сразу всем, — напрашивается такая догадка: раз электричества не было, Дачник мог вылезти через окно, схватиться за провода (они были в тот миг безопасны!), потом мог долезть, цепляясь за них, как циркач, до первого столба, а потом спуститься на землю. И навсегда скрыться от родственников! Поэтому и следов на дачном участке не было. Это, как говорят, гипотеза… То есть предположение.
— Окно было заперто изнутри, — сказал Глеб.
— Тогда гипотеза отпадает!
— Если ты, парнёк… — угрожающе начал Племянник.
Слово «паренёк» он упорно сокращал на одно «е», и слово звучало пренебрежительно. Сердце моё сжалось от боли: ведь рядом была Наташа.
— Гипотеза отпадает! — громко повторил я, трепеща всем телом при мысли о том, что он совсем уж унизит меня при ней. И я не смогу потребовать удовлетворения: всё-таки он был в два раза длинней меня.
Он снова махнул ручищей, словно прогнал комара. Но всё-таки оскорбительные слова не слетели с его насмешливых губ.
Мы спустились по «ворчливо-скрипучей» лестнице, которая не скрипела.
Племянник распахнул какую-то дверь, пригнулся и вошёл в комнату. Мы тоже вошли. Комната переходила прямо в террасу, а терраса выходила прямо во двор.
— Хороший был писатель, — сказал Племянник. — Он у тётки дачу сразу на полгода, а то и на год снимал. И деньги вперёд платил. Хороший писатель!
— В этой комнате он создавал свою «Старую дачу»? — спросил я.
— Слушай, парнёк, если ты будешь выскакивать… Если ты будешь…
— Понятно! Понятно! — перебил я. — Я нарушаю ваш план? Это, поверьте, от нетерпения!
Опять он не успел унизить меня при ней.
— Писатель здесь не писал, — сообщил нам Племянник. — Он про Дачника в подвале писал. В подземелье…
Миронова продолжала записывать.
— Здесь есть подземелье? — шёпотом спросил я.
— Он утром залезет туда — и баста. До обеда не видно, будто мать родная не родила… Соображаете?
— Философ Диоген сочинял в бочке, — лениво изрёк Покойник. — А этот, значит, в подвале?
— Он там страху на себя нагонял, — объяснил нам Племянник. — Там сыро, темно…
— Понимаю: входил в настроение! — продолжал выхваляться Покойник.
Племянник Григорий почему-то не крикнул ему! «Слушай, парнёк!..» — а рассказывал дальше:
— Я там бумажки какие-то нашёл, листочки… Хотел выбросить, а тётка говорит: «Снеси-ка в музей!» Я и снёс. Есть у нас музей на соседней станции.
— Видимо, краеведческий, — предположил Покойник.
Племянник и тут не цыкнул на него, а спокойно сказал:
— Ага, этот самый. Мне благодарность в письменном виде выдали! Бумажки эти под стеклом разложили и написали: «Найдены и доставлены Григорием Шавкиным». Теперь все читают! Экскурсантам про меня рассказывают!.. Соображаете?
— Ещё бы: рукописи, черновики! — снова вмешался Покойник.
— Они самые! — согласился Племянник.
Я давно заметил, что личности вроде Племянника обычно выбирают одного какого-нибудь человека и начинают к нему придираться: «Ну, чего смотришь? Чего уставился? Чего тут стоишь? Чего тут сидишь?» Хотя все остальные тоже смотрят, тоже стоят и тоже сидят. Но типы вроде Племянника выбирают кого-нибудь одного, и, как правило, самого симпатичного, самого интеллигентного человека. Племянник выбрал меня…
— Слушай, парнёк, чего в пол уставился? Слушать не хочешь?
— Он, вероятно, задумался, — сказал Покойник.
Все посмотрели на него с благодарностью: он вроде бы меня защитил. Это было невыносимо!
— Скорее туда! — крикнул я. — В подземелье!.. К рабочему месту писателя!
— Если не дрейфите, то айда! — сказал Племянник.
Это моё предложение его почему-то не разозлило. Позже я узнал почему! Но в ту минуту… догадка не захотела меня озарить, хотя вообще она делала это очень охотно.
Бледный Покойник топтался на месте.
— Боишься? — спросил я шёпотом, но так, чтоб услышала Наташа Кулагина. Я должен был раскрыть ей глаза!
Мы стали спускаться по ступеням, на которых скользила нога: может быть, это была сырость, а может быть, даже плесень… Волнение охватило меня: по таким вот ступеням спускались в подземелья настоящие сыщики. Они спускались, зная, что могут уже никогда не подняться!..
«О, если бы нас поджидала там какая-нибудь опасность! — мечтал я. — Наташа бы в страхе бросилась не к Покойнику, а ко мне, и я бы нашёл выход из положения. Я спас бы её! Но к несчастью… Раз туда каждый день залезал Гл. Бородаев, значит, ничего опасного там быть не может. И я не смогу доказать ей…»
— Эй, парнёк, опять ты того… поперёд батьки в подвал лезешь! Я свет зажгу.
Он повернул выключатель. И сквозь приоткрытую дверь, обитую, как и полагается, ржавым железом, выползла полоска тусклого света. В повести Гл. Бородаева свет всегда «выползал» из приоткрытых дверей или «мрачно выхватывал» что-то из темноты, а потом, когда двери закрывались, он «уползал» обратно. Это я хорошо помнил.
Племянник с трудом раскрыл дверь до конца. Она завизжала на плохо смазанных петлях. В повести у Гл. Бородаева все дверные петли были обязательно плохо смазаны и визжали. Это я тоже помнил.
Итак, всё было прекрасно: как в самых настоящих детективных произведениях!
— Валяйте! — сказал Племянник.
Миронова опередила всех: она любила выполнять приказания. Племянник пропустил нас в подвал. Последним вошёл Покойник… На меня приятно пахнуло гнилью и плесенью. Я вдыхал полной грудью!
Внезапно дверь с визгом захлопнулась. Потом железо проехало по железу: это Племянник задвинул щеколду. Он остался по ту сторону двери, которая, как мне показалось, захлопнулась навсегда!..
Глава 6,
из которой становится ясно, что мне ничего не ясно
Невольный страх овладел мною. Но лишь на мгновение! А уже в следующую секунду я отбросил его. Вернее сказать, отшвырнул!
Тем более, что Наташа сделала шаг по направлению ко мне. Совсем незаметный шажок, но я-то его заметил. Точнее сказать, почувствовал. Вообще, когда есть существо, которое тебе нравится, следишь только за ним и говоришь для него, хотя делаешь вид, что для всех. И наблюдаешь, как оно на всё реагирует. И подсчитываешь, сколько раз это существо на тебя посмотрело. Тот, кто любил, поймёт меня без труда!
«В эту опасную минуту она хочет быть рядом со мной! — решил я. — Хочет, чтоб я уберёг её, заслонил собой!»
О, как часто мы выдаём желаемое за действительное!..
— Я должна уехать электричкой, которая в семнадцать ноль-ноль! — сказала Наташа.
«Должна уехать…» Даже не сказала, что «мы должны». «Волнуется за свою маму», — подумал я. И вот удивительно: в ту минуту я позавидовал её маме, хоть у неё было очень больное сердце, а у меня сердце было абсолютно здоровое и, если как следует рассудить, её мама должна была бы завидовать мне. Но я не подчинялся рассудку!
— Племянник Григорий шутит, — сказал я Наташе. — Неужели ты не видишь, что он пошутил?..
— Тогда пусть откроет, — сказала Наташа.
Её желание было для меня законом! Но для Племянника оно законом не было.
— Откройте, пожалуйста, — попросил я его.
— Это ты, парнёк? — послышалось из-за двери. — Опять тебе больше всех надо? Все сидят тихо, будто мать родная не родила… А ты один ерепенишься!
Он тихо и противно засмеялся.
— Откройте сейчас же! — приказал я ему. И посмотрел на Наташу. Она стояла, опустив голову. Лица её я не видел, потому что тусклая лампочка, которую зажёг Племянник, была где-то далеко, в глубине подземелья.
— Ты же хотел узнать, куда тот Дачник девался? — спросил Племянник. — Вот теперь и узнаешь!
— Что он хочет сказать? — Я толкнул Глеба в плечо.
— Не знаю, — ответил Глеб.
И вдруг мы услышали за дверью шаги: Племянник поднимался наверх. Он уходил, оставляя нас в подземелье…
Страшная история началась!
— Остановитесь! — умоляюще воскликнул Покойник.
Громкие шаги Племянника были ему ответом.
Я снова схватил за плечо Глеба:
— Верни! Задержи!..
— Разве его задержишь?
— Кричи! — шёпотом, чтобы не выдать внутреннего волнения, сказал я Глебу. — Ори на всю дачу!
— Не услышит… Он ведь уже наверх… Там ни слова… Дверь-то железная… Кричи не кричи…
— А ключа у тебя нет?
— Ни у кого… Потеряли… Английский замок: дверь захлопывается — и всё… Открывается с той стороны… Он ведь и на щеколду…
— Погребены? — тихо спросил Покойник. — Живьём?..
Я вспомнил про Аиду и Радамеса, которых замуровали живьём. И снова взглянул на Наташу. Как мне хотелось, чтобы и она мысленно сравнила нашу судьбу с их судьбой! Но она думала только об электричке. Это мне было ясно. Да и можно ли было сравнивать? Ведь Аиду и Радамеса замуровали вдвоём, а нас было целых шесть человек.
— О, не печалься! — сказал я Наташе. — Я выведу вас отсюда. Вы снова увидите солнце!
Она взглянула на меня с лёгким испугом. И тогда я добавил:
— Всё будет в порядке!
Мне так хотелось, чтоб опасность сблизила нас.
Но Наташа никак не сближалась: она думала об электричке.
— Я должна быть дома не позже шести.
— И будешь!
Я огляделся…
Тусклая лампочка мрачно выхватывала из темноты отдельные предметы. Она выхватила таинственный круглый стол, который раньше, в дни своей молодости, я думаю, назывался садовым и стоял где-нибудь в беседке. У стола было три ноги, и он угрюмо кренился на ту сторону, где когда-то была четвёртая. Лампочка выхватила из темноты и таинственный стул, у которого тоже было всего три ноги, чтобы столу было не так уж обидно. Непонятная жестокая сила зло разбросала по земле странные ящики… К одной из стен загадочно прислонился кусочек фанеры, с которого на нас всех угрожающе глядели зловещие слова: «Опасно! Не подходить!» А чуть пониже свирепо чернели на фанерном листе череп и кости.
Проходя мимо фанеры, Наташа случайно коснулась её, — и на пальто остался чёрный след краски, которая, видно, никогда не высыхала в этой могильной сырости.
— Осторожно! Не подходите! — крикнул Глеб.
Все вздрогнули и подавленно замолчали. Даже не очень опытный глаз мог безошибочно определить, что настроение у всех было ужасное.
Я для виду пошептался с Глебом и громко, весело объявил:
— Вот Глеб говорит, что племянник Григорий часто так шутит: сначала запрёт, а потом отопрёт.
— И через сколько же времени он отпирает? — спросил Покойник.
— Через час. Максимум через два! — бодро сообщил я. — А пока давайте осмотрим окрестности! Познакомимся с достопримечательностями этого подземелья… Чтобы потом, когда мы выйдем наверх, было что рассказать!
— А мы выйдем? — спросил Покойник.
— Конечно! Когда мы увидим родных и близких, они спросят нас…
— А мы их увидим?
Лампочка всё время выхватывала из темноты лицо Наташи Кулагиной. Вернее сказать, я то и дело смотрел на Наташу.
— Кого ты больше всех любишь? — внезапно спросила она.
«Тебя!» — хотел я ответить. Но она бы мне не поверила, потому что это была неправда. Больше всех я всё-таки любил маму и папу. Потом Костю… А потом уж её. Не мог же я это сказать!
— Кого ты больше всех любишь? — повторила она.
— Вообще… или у нас в классе?
— Скажи ещё: в нашем звене!
— А ты кого?
— Маму.
— Я тоже маму и папу.
— Нет, я не маму и папу, а именно маму. Я могу за неё умереть. А ты можешь за кого-нибудь умереть?
«Могу! За тебя!» — рвался вперёд мой язык. Но что-то ему мешало.
— Можешь? За маму?..
— Я как-то не думал…
— И правильно делал: самое страшное для матери — пережить детей своих…
— Эту мысль ты должна записать!
— Какая же это мысль? Это истина. Вот и всё… Поэтому я должна уехать на электричке в семнадцать ноль-ноль! Ты понял?
— Так и будет! Я тебе обещаю!..
Но как я выведу её из подвала, — это было неясно. «О, если я что-то придумаю! — мечтал я. — Она будет считать меня избавителем, героем, спасителем своей мамы, за которую она готова отдать даже жизнь!»
— То, что было ещё час назад, кажется сейчас таким замечательным. Даже прекрасным, — сказала Наташа. — Хорошее по-настоящему ценишь на фоне плохого. Ты замечал?
— Да! Конечно… Ещё бы! Сколько раз! Эту мысль ты обязана записать!..
Наташа почти шептала. Но я улавливал каждое слово, потому что, когда она ко мне обращалась, слух мой становился каким-то особенным. И если бы рядом в такие минуты что-нибудь взрывалось и грохотало, я бы этого не услышал, а услышал бы только её голос.
«Странное дело, — лезли мне в голову мысли, — маму я люблю больше, но не думаю целый день о том, что люблю её. А Наташу люблю меньше, но думаю об этом всё время. О, как много в нашей жизни необъяснимого!»
Острая наблюдательность подсказала мне, что Наташа разговаривала только со мной. И это вернуло мне силы, которые понемножечку начинали уже уходить. Я снова готов был жить, бороться, искать выход из положения. Вернее сказать, из подвала!
Лампочка выхватила из темноты лицо Покойника. Но лучше бы она не выхватывала: бледные губы его дрожали.
Я решил оживить Покойника!
— Снаряжаем спасательную экспедицию, — объявил я.
— Сами себя будем спасать? — пролепетал Покойник.
— Да! И ты вместе со мной пойдёшь впереди! Где-то здесь должен быть выход. В крайнем случае мы будем пробиваться сквозь стену. Как в «Графе Монте-Кристо». Ты помнишь, Покойник? Эдмон Дантес и аббат Фариа пробились друг к другу. А ведь это было не на даче, а в замке Ив: там стены покрепче.
— Их обоих кормили. А мы умрём с голоду.
Принц Датский положил руку Покойнику на плечо. Глеб, казалось, изучал земляной пол, которого не было видно.
— Алик же сказал нам, что племянник Григорий будет шутить всего час или максимум два, — объяснила Миронова.
Она одна, мне казалось, сохраняла абсолютное спокойствие. Теперь она видела командира во мне, а команды волноваться я не давал: она и не волновалась.
— Конечно, Племянник откроет дверь. Ты права, — сказал я Мироновой. — Но мы не обязаны ждать его помощи. Освободиться своими силами — вот в чём задача!
Наташа улыбнулась — чуть-чуть, еле-еле, да ещё было полутемно, но я заметил её улыбку. Ну конечно: я говорил, как с трибуны. Но ведь надо было ободрить, поднять дух!
— А может, лучше кричать? — предложил Покойник. — Кто-нибудь да услышит…
— На даче же… И в посёлке тоже… — сказал Глеб. Он вдруг снова перестал договаривать фразы.
— Идёмте! Вперёд! — сказал я. Взял Покойника за руку, и мы двинулись. Мне хотелось взять за руку и Наташу, но я не решился.
Мы двигались по подземелью. Сверху падали леденящие капли. Ноги то и дело проваливались в коварные углубления. Кромешная тьма окружала нас, как заговорщица. Неверный свет тусклой лампочки остался в неясной, мрачной дали… Ядовитый запах сырости уже не радовал меня, и мне не хотелось дышать полной грудью.
«Читать детективные истории — это совсем не то, что участвовать в них, — рассуждал я. — Я хотел играть во что-нибудь страшное, а тут самый настоящий кошмар обрушился на нас всех. Только я не должен показывать виду, что тоже волнуюсь… Придёт ли племянник Григорий? Откроет ли дверь? И зачем он её закрыл? Зачем?! А что значат его слова: „Ты же хотел узнать, куда тот Дачник девался? Вот теперь и узнаешь!“».
— Покойник!! — крикнул Покойник.
Он весь дрожал. «Наверно, рехнулся, — подумал я. — Нервы не выдержали».
— Протяни… Ты сразу… Как я… — Верхние его зубы не попадали на нижние. И он, как Глеб, не дотягивал фразы до конца.
Я протянул руку и нащупал… скелет. Он стоял в темноте. Рёбра и череп… Уже не нарисованные, а самые что ни на есть…
— Назад! — крикнул я.
Мы бросились обратно, к неверному свету тусклой и мрачной лампочки. Но теперь она казалась нам целым солнцем.
Внезапно догадка озарила меня: «Так вот как погиб тот Дачник! Вот куда он исчез!..»
Неужели и нас ждала та же горькая участь?
Глава 7,
в которой снова знакомимся с героями повести, не все из которых будут героями
«Итак, судьбе было угодно, чтоб я понял и разгадал страшную тайну старой дачи, но тайна погибнет вместе со мной», — эта мысль заставила меня похолодеть. Но уже в следующую минуту я отогрелся, поняв, что не имею права поддаваться страху ни на мгновение! Рядом была Наташа и остальные… Я должен был их спасти. А пока что поднять или хоть чуть-чуть приподнять их дух!
Никто не узнал о моей догадке. Я остался с нею наедине.
Приятно быть наедине с лёгкими мыслями. А вот когда приходят тяжёлые, хочется, наоборот, не оставаться с ними с глазу на глаз, а с кем-нибудь посоветоваться, поделиться. Но посоветоваться я не мог!
Я должен был скрывать правду.
— Никакого скелета не было! Покойнику показалось…
— Как же не было? — промямлил Покойник. — А рёбра?..
— Галлюцинации! Вот и всё.
— Какие же галлюцинации… в темноте?
— Ты думаешь, бывают только зрительные галлюцинации? О, как ты наивен! Бывают и слуховые. И, как бы это сказать… осязательные.
— Зачем же ты тогда крикнул «назад»?
— Чтоб твои галлюцинации не передались другим. Дурные примеры, сам знаешь…
— Значит, я что же… сошёл с ума? — Губы Покойника задёргались.
Принц Датский обнял его за плечи.
— Все ненормальные считают себя нормальными, — сказал Принц. — А нормальным часто кажется, что они ненормальные. Так что не беспокойся. Вот послушай: мне на ум пришли кое-какие строчки. Может, тебе будет приятно?
И он стал декламировать, хотя никогда прежде своих стихов вслух не читал:
Когда мы все в подвале,
Среди вечной сырости и тьмы,
Мы ни капли духом не упали,
И готовы радоваться мы!
Да, пусть даже это подземелье
Нам подарит радость и веселье!..
Принц Датский обвёл всех застенчивым взглядом. На никто не веселился. Никто, кроме меня.
— Замечательно! — воскликнул я. — Ты очень верно отразил наше общее настроение!
Вслед за мной улыбнулась Миронова. Остальные не улыбались.
— Какие же галлюцинации? А рёбра?.. — продолжал сомневаться Покойник.
Я отвёл его в сторону.
— Покойник, будь человеком! С нами женщины. Подумай о них.
— Значит, это тот самый… Дачник?
— Скелет Дачника. Так я думаю. Всё, что осталось… Но держи это в тайне. С нами женщины… Найди в себе силы!
— Я поищу… — сказал бледный Покойник.
— Фактически мы с вами находимся в кабинете писателя! — воскликнул я, обращаясь сразу ко всем. — Покойник недавно сообщил нам, что один греческий философ сочинял в бочке. Вы слышали? А Глеб Бородаев творил в подвале! Пока Племянник ещё продолжает свои глупые шутки, давайте устроим выездное заседание нашего литературного кружка. Прямо тут, возле рабочего места писателя. Возле его, если можно сказать, станка! — Я приподнял бывший садовый столик, потряс им в воздухе и поставил на место. — Покойник, Принц и Миронова пусть что-нибудь сочинят. На тему дня! Они это быстро делают.
Миронова подняла руку и сказала:
— Принц уже…
Ничего, сочинит ещё. Ему ведь недолго! А Глеб вспомнит какую-нибудь историю из жизни дедушки.
У Наташи на руке были часики. Другие ребята, которые носят часы, всё время о них помнят, то и дело задирают руку, будто всегда куда-нибудь торопятся. А Наташа взглядывала на свои часики незаметно: просто опускала глаза.
— Электричка — в семнадцать… — сказала она. — Я надеюсь на тебя, Алик!
Она на меня надеялась. Не на Глеба. Не на Принца. Не на Покойника. А на меня! В эту минуту я был благодарен Племяннику, который запер нас в подземелье. Ведь если бы он не запер, я никогда не услышал бы этих слов.
— Их надо отвлечь, — сказал я Наташе. — Пусть они сочиняют и не мешают мне думать. Искать!.. Поверь: я оправдаю твои надежды. Мы успеем на электричку!
Она ничего не ответила.
— Итак, начинаем заседание кружка, — объявил я громко. — Смотрите, у каждого будет своё рабочее место: ровно пять ящиков.
Миронова подняла руку и сказала:
— Но нас шестеро.
— Я не буду садиться. Я буду ходить…
Я читал, что у знаменитых сыщиков были разные привычки, которые помогали им мыслить и распутывать преступления. Один, например, обязательно курил трубку. Это ему помогало. А я должен был непременно ходить взад-вперёд. И хотя говорят, что «в ногах правды нет», я докапывался до правды именно на ногах.
Заложив руки за спину, я стал бродить по подвалу. А все остальные присели на ящики.
Наташа просто отдыхала. Глеб пригнулся, будто сидел на своей последней парте в среднем ряду и боялся, что его могут вызвать к доске. Миронова сразу же раскрыла тетрадку и стала писать. Я был уверен, что она делает очередную «зарисовку». Принц Датский шевелил губами, а длинные руки его двигались как бы в такт словам, которых не было слышно, которые оставались где-то внутри и там же складывались в рифмованные строчки.
Покойник был похож на покойника. Я подошёл к нему.
— Всё кончено… — сказал он.
— Значит, сбудется твоя мечта!
— Какая?
— Ты ведь давно хотел умереть.
— Пожить бы ещё немного… — прошептал он.
— Я буду искать выход из положения. А ты возьми себя в руки. Отвлекись! Сочини стихотворение этой своей В. Э.
— Она не прочтёт его…
— Почему? Может, когда-нибудь обнаружат наши скелеты, и рядом с твоим будет лежать стихотворение. Она прочтёт и вздохнёт украдкой…
— Она не вздохнёт.
— Почему?
— Потому что её негу…
— Как — нету?
— Так… Не существует. Я не могу лгать тебе в эти последние часы своей жизни.
— А другая? А. Я.?.. Её тоже нет?
— Тоже.
— А Б. Ю.?
— И её…
— Ты что же, брал первые попавшиеся буквы?
— Почему первые попавшиеся? У меня была своя поэтическая система. Свой метод!
— Какой метод? Скажи. Раскрой тайну! Всё равно нам не много осталось…
— Поэтому я и скажу. Да, был у меня свой принцип! Я брал первую букву алфавита и последнюю, потом вторую от начала и вторую от конца, третью от начала и третью от конца. Так и получались: А. Я., Б. Ю., В. Э. Понимаешь?
— Ты здорово выучил алфавит! А любви, значит, не было?
— Почему? Я влюблялся, хотел умереть, потом охладевал, возвращался к жизни и снова влюблялся!
— В никого?
О, сколько на свете неожиданного и необъяснимого!
— Разве это первый случай в литературе? Разве и другие поэты не придумывали, не воображали себе образы любимых? И разве не поклонялись им, как живым людям? Разве не поклонялись?
— Я об этом не слышал.
— И не догадывался?
— Нет, не догадывался.
— Ну, как же ты так? Разве это не ясно?..
— Что?
— А то, что выдуманный образ почти всегда лучше реального?
— Ну уж, прости…
— Разве я могу простить, когда ты не понимаешь элементарных вещей?
Он снова заговорил в своей любимой манере, вопросами, чего я просто не выносил. Он всё время недоумевал: как это я не знаю, не слышал, не читал!
— Слушай, Покойник, хоть в этот последний час разговаривай по-человечески, — сказал я с плохо скрываемым раздражением. — Если хочешь, то объясни, а не хочешь…
— Почему бы мне не хотеть?
— Опять ты…
— Пойми, у каждого человека есть свой стиль разговора: это его индивидуальность. Разве это…
Я решительно сделал шаг в сторону.
— Не уходи! — Покойник схватил меня за руку. — Я хочу всё объяснить тебе… Может быть, ты случайно спасёшься и тогда откроешь тайну моих «посвящений»! Видишь ли, живые люди всегда обладают разными недостатками, слабостями. А вымышленный образ может быть без сучка и задоринки. Так сказать, идеальным! Ему как-то приятнее поклоняться. Как мечте! А люди всегда с недостатками…
— Зато ведь они живые!
— Разве это существенно?
— А разве нет?
Покойник взглянул на меня с жалостью:
— Когда-нибудь ты поймёшь. В общем, если ты случайно… Тогда прокомментируй мои стихи, чтобы не возникали вопросы. А то станут разыскивать всех этих А. Я. и В. Э., наткнутся на кого-нибудь не того…
— Покойник, не будь таким мрачным. Твой вид действует на других.
Он изобразил на лице «последнюю улыбку».
— Вот видите, какое у Покойника хорошее настроение! — сказал я. — А у тебя, Принц? Что ты там сочинил?
Не испытываю, нет!
Здесь, в подвале,
мы узнали,
Как прекрасен яркий свет!
Сердце радостное бьётся:
Всё в сравненье познаётся!
Принц Датский виновато развёл свои огромные руки в стороны:
— Вот… Пришло на ум. Может, вам будет приятно?
Физическая сила упорно продолжала сочетаться в нём с детской застенчивостью!
Добрый Принц хотел доставить нам радость, но стихи его никому особой радости не доставляли, потому что все уже к ним как-то привыкли. Кажется, первый раз в жизни Принц почувствовал это и, спрятав за спиной свои руки (он всегда не знал, куда их девать), тихо произнёс:
— Тогда простите…
— За что?! Ты очень точно выразил наше общее настроение! — воскликнул я с плохо скрываемым сочувствием.
Моё сочувствие не понравилось Принцу. Он вдруг разорвал стихи и выбросил в темноту. В ту самую, которая помогла ему оценить свет!
— Разве это не обычно? — задал свой очередной вопрос Покойник.
— Что? — не понял я.
— То, что произошло. Разве классики не уничтожали своих произведений? Не сжигали их?
— Но на это всегда были причины, — возразил я. — Их не признавали, не понимали… А мы Принца всегда понимаем. Но ничего… Заседание кружка продолжается!
Миронова подняла руку и сказала:
— Можно мне?
— Конечно. Чем ты нас порадуешь, Миронова? Зарисовкой?
Названия её зарисовок всегда начинались со слов «мой», «моя» или «моё»: «Мой день», «Моё утро», «Моя сестра», «Моя комната»… Эта зарисовка называлась «Моё воскресенье».
— Обычно по воскресеньям я встаю в 9 часов 30 минут по местному времени, чтобы в 10 часов послушать „Пионерскую зорьку“. Но в эго воскресенье будильник зазвонил, как в обычные дни, то есть ровно в 7 часов 10 минут. Умылась я быстро, как никогда: в ванной комнате было пусто, все ещё спали, никто не спешил на работу. В 7 часов 30 минут по местному времени я съела один бутерброд с колбасой и яичницу…
«Её последний завтрак!» — подумал я.
Миронова продолжала:
— В 8 часов 30 минут я была в школьной канцелярии. Там собрались все члены литературного кружка, чтобы ехать на старую дачу, где творил писатель, имя которого раньше носил наш кружок. Глеб Бородаев, внук писателя по папиной линии, сообщил нам, что наш классный руководитель Нинель Фёдоровна заболела. Накануне, то есть в субботу, она переезжала в новый дом и простудилась…
— Перечитай последнюю фразу! — крикнул я громко, потому что судьбе было угодно, чтоб в эту минуту меня озарила одна догадка.
Миронова перечитала.
— Что такое? — Покойник схватил меня за руку.
— Погоди, погоди! Кажется, я начинаю…
— Что?! — с надеждой спросил Принц Датский.
— Дайте время. Кажется, я уцепился за кончик верёвочки… Теперь надо не упустить её!
— Разве трудно тебе объяснить? — заныл Покойник.
— А разве трудно тебе подождать? — Подражая ему, я ответил вопросом на вопрос. — Читай, Миронова. Читай дальше!..
Она аккуратно сообщила нам всем о том, как мы сели на электричку, как сошли с неё, как добрались до дачи, как познакомились с Племянником и как «в одиннадцать часов сорок минут по местному времени за нами захлопнулась дверь…»
— Много конкретных, тебе одной известных деталей! — похвалил я Миронову.
Я был благодарен ей за её удивительное спокойствие (команды волноваться не было, она и не волновалась!). А главное, за ту фразу, которая натолкнула меня… Но не буду забегать вперёд. Хотя мне очень хочется забежать.
— Заседание кружка продолжается! — объявил я.
— Разве не лучше нам помолчать? — спросил Покойник. — Я чувствую, что твоя мысль заработала. Мы помолчим, чтоб не мешать…
— В самом деле, Алик! Так, наверное, будет лучше! — сказала Наташа.
Значит, она продолжала надеяться на меня! Я снова похолодел, но уже от радости. «Теперь я должен уцепиться за тот кончик верёвочки, который, кажется, у меня в руках!» — так я решил.
— О, не бойся вспугнуть мою мысль! Все эти детали, воспоминания питают её и укрепляют… Пусть теперь Глеб расскажет нам какие-нибудь случаи из жизни своего дедушки. Как это бывало раньше…
— Вот здесь, значит, дедушка… «Тайну старой дачи»… — растерянно начал Глеб. Он снова не дотягивал фразы. — В этом подвале… Там вот, на крышке стола…
Он отделил круглую крышку от ножек садового столика, переплетённых соломой.
На обратной стороне, внутри чёрной рамки, было что-то написано. Глеб прочитал:
— «Здесь, в течение одного года, трёх месяцев и семи дней, была написана повесть „Тайна старой дачи“».
— Мемориальная крышка, — сказал Покойник.
— Так, так, так… — произнёс я задумчиво. Все сразу притихли.
Наташа Кулагина, которая стояла сзади, смотрела на меня с надеждой. Я чувствовал её взгляд затылком и сердцем. Он обжигал меня!
— Значит, дедушка здесь, в подвале, входил в настроение? — спросил я Глеба. — Не торопись, сначала подумай…
— Да… входил.
— Он нагонял на себя страх, как сообщил нам племянник Григорий? Подумай хорошенько, не торопись.
— Да… нагонял.
— Оставайтесь на своих местах! — скомандовал я.
И храбро бросился в темноту.
Глава 8,
в которой я наконец… впрочем, сами поймёте
Я крепко обнял скелет. И потащил его сквозь густую, непроглядную тьму к слабому, неверному свету лампочки.
Идти было недалеко. Но ведь длинный путь может показаться коротким и лёгким, а короткий, наоборот, длинным и тяжким. Всё зависит от того, какая у тебя ноша. Если нет ничего, кроме весёлых, радостных мыслей, тогда легко, а если в руках скелет…
О, сколько неожиданных и глубоких мыслей посетило меня в тот день! Некоторые из них, я думаю, были даже достойны того, чтобы попасть в тетрадку Наташи Кулагиной. «Может, когда-нибудь её общая тетрадка станет действительно общей (её и моею!), — мечтал я. — И мы будем поочерёдно записывать в неё свои глубокие мысли. А потом будем читать… Не вслух, а каждый отдельно, про себя. И всё будем знать друг о друге! Хотя совсем уж всё знать, конечно, не обязательно, а вот самые заветные думы, которые касаются… чего касаются? Движений души!» Эти последние слова я вычитал недавно в книге. Они мне очень понравились: «движения души»! Оказывается, душа может двигаться. Раньше я этого не предполагал.
«О, если б я знал, в каком направлении движется её душа, я бы обязательно повернул и свою в ту же сторону. И наши души столкнулись бы… Вернее сказать, встретились. Или соприкоснулись!» — так мечтал я, прижимаясь к скелету. Он чем-то колол мне руку. А чем именно, я не мог разобрать во мраке.
«Когда-то это был человек! — думал я. — Он ходил в костюме, думал, удирал с уроков, сдавал экзамены… Может быть, даже любил. Как я! Неужели когда-нибудь…»
Внезапно передо мной выросло что-то большое и тёмное.
Я пригнулся и взглянул на эту фигуру сквозь рёбра, как сквозь планки забора.
— Кто это? — спросил я еле слышно: язык плохо слушался.
Мне ответил Принц Датский:
— Алик! Как хорошо! Я боялся, что ты заблудишься. Ты ведь один…
— Алик! Как хорошо! Я боялся, что ты заблудишься.
— Мы вдвоём… со скелетом! — Его добрый голос вернул мне дар речи. — Что-то здесь колется… Помоги! Но осторожно: не поломай ему рёбра.
Через минуту я уже объяснял Наташе Кулагиной, хотя не глядел на неё и делал вид, что говорю для всех остальных:
— Это не Дачник! Логический анализ убедил меня в том, что скелет, как и подвал, как и вообще вся эта муть, нужны были Гл. Бородаеву для вдохновения. Он сперва нагонял страх на себя, а потом уже на читателей. Таким образом, нет оснований думать, что нас заперли для того, чтобы… Чтобы мы дошли вот до этого состояния!
Я указал на скелет.
— Откуда такая уверенность? — спросил Покойник.
Опытный глаз мог почти безошибочно определить, что Покойник очень боялся смерти. Нет, он не хотел унизить меня. Он хотел, чтобы я его убедил, успокоил. Когда на тебя надеются, ждут от тебя защиты, успокоения, это очень приятно. Но и трудно!
Сколько неожиданных наблюдений и выводов посетило меня в том подвале!
— Почему ты уверен, что это не Дачник? — снова спросил Покойник.
И все ждали, чтоб я ответил на его вопрос.
— Откуда уверенность? Ну, во-первых, логический анализ. А во-вторых…
Тут я увидел то, что в темноте кололо мне руку.
— Смотрите! Смотрите все! Видите? Бирка с номером! И вот ещё металлическая пластинка. Тут что-то написано… — Я приблизил планку к глазам и прочёл вслух: — «Любимому писателю в благодарность за выступление. От биологического кабинета подшефной школы». Это подарок! — воскликнул я. — Он шефствовал, выступал — и ему подарили. Может, в биологическом кабинете было два скелета. И вот поделились с писателем! Ведь ему это было нужно для вдохновения. Теперь убедились? Не мог же Дачник жить с биркой и планкой внутри! Да ещё с проволокой, которой они прикручены!
Все смотрели на меня с благодарностью. Так мне казалось… А может быть, даже и с обожанием. В полутьме это трудно было определить.
Я тоже радовался, как ребёнок! Ещё недавно я мечтал раскрыть «тайну старой дачи», а теперь был счастлив оттого, что неверно раскрыл её, что ошибся, что скелет принадлежал вовсе не Дачнику, а биологическому кабинету подшефной школы. О, как часто жизнь меняет наши планы и настроения!
— Что значит иметь талант! — тихо, но с восторгом сказал Принц Датский. — С этим надо родиться!
Он уважал чужие таланты.
— А я вот… — Принц вытянул вперёд свои руки, словно упрекая их за то, что они, такие длинные, ничем сегодня не помогли.
— Ничего, ничего… Они ещё пригодятся! — Я приподнялся на цыпочки и похлопал Принца Датского по плечу.
— Но как же ты догадался? Ещё до того, как увидел бирку и планку? — спросил Покойник.
— Когда Глеб перевернул крышку…
Я подошёл к столику и тоже перевернул. Фразу я не закончил, потому что заметил на обратной стороне крышки… Я ничего никому не сказал. Но подумал о том, что в этот момент прибавился ещё один важный факт. Очень важный! И что я приближаюсь к разгадке…
— Не держи нас в неведении, — приободрившимся голосом попросил Покойник. — Почему тебя так заинтересовала ничего не значащая фраза в «зарисовке» Мироновой? Помнишь, ты сказал о верёвке, за которую ухватился. А в той фразе абсолютно не за что было хвататься!
— Как кому! — сказал я, — Именно ничего не значащие факты подчас значат в расследовании всё! А с виду значительные не значат ничего.
Миронова подняла руку:
— Можно мне?
— Пожалуйста.
— Я подчеркнула эту фразу, — сообщила она.
— Да, твоя фраза осветила нам путь…
— К чему?! — гордо прошептала Миронова.
— К спасению! — ответил я.
Все перестали дышать… Но я ничего больше не объяснил.
— Дайте время, — сказал я. — Мне нужно изучить факты. Оценить обстановку! Продумать, взвесить… И обобщить!
Все тихо присели на ящики. Все подчинялись мне, надеялись на меня. Давно я мечтал, чтобы Наташа была рядом в какой-нибудь выгодный для меня момент. Но о таком моменте я даже и не мечтал. Он даже не мог мне присниться!
О, как, оказывается, мудра поговорка: «Не было бы счастья, да несчастье помогло!» Только в темноте подвала мои способности могли вспыхнуть так ярко. Свет вообще поражает главным образом тогда, когда внезапно появляется в темноте. Хорошо бы записать эту мысль Наташе в тетрадку!
— Дайте мне время, — ещё раз попросил я.
— Но времени нет, — сказала Наташа.
— В каком смысле?
— До электрички осталось всего полтора часа.
— Я буду действовать ускоренным методом.
Расследование начинается! Я должен побыть наедине!..
Миронова подняла руку:
— С кем?
— С мыслями, с фактами.
Я сел на ящик, стоявший в стороне от других, и погрузился в раздумье.
Я знал, что у каждого настоящего сыщика или следователя должен быть помощник, благородный такой и наивный человек, который говорит разные глупости и споря с которым следователь легче нападает на след. Я не собирался никому подражать. Но, конечно, мне бы хотелось, чтоб Наташа была этим помощником и наблюдала, как я логически мыслю. Но заставлять её нарочно говорить глупости я не мог. Да у неё бы это и не получилось, если б даже я захотел!..
Итак, я начал анализировать в одиночку…
Мне было известно, что знаменитые сыщики и следователи, раскрывая преступления, прежде всего хотят выяснить: кому оно выгодно!
«Так, так, так… Я не пойду обычным путём! Буду действовать своим методом, — решил я. — Пойду от обратного, как иногда доказываются теоремы. Да, сделаю наоборот: продумаю сначала, кому невыгодно, чтоб мы сидели запертые в подвале».
Наверно, всем нам невыгодно. А больше всех? Наташе! У неё тяжело больна мама. И она обязательно должна сесть на электричку в семнадцать ноль-ноль! Так, так, так… Теперь надо выяснить, кому выгодно, чтобы Наташе было невыгодно. Сбиваюсь на чужой метод… Но ничего не попишешь! Кто же может Наташе мстить? И за что? Разберёмся! Вернее всего, кто-то был отвергнут ею — и вот решил… Любовь часто толкает людей на преступления! Об этом и в пьесах говорят, и в кинокартинах… Но кто же ей мстит? Племянник Григорий? Он мог быть только оружием мести! Так, так… Это ясно. Он не подходит: по возрасту и вообще… Вряд ли он способен на глубокое чувство. Но кто его сделал своим оружием? Кто?! Покойник? Он любит вымышленные образы. И вообще умирает от страха. Но прежде чем вынести окончательное решение, я должен во всём сомневаться. А если Покойник притворяется? Если на самом деле он ничего не боится? Да нет! Достаточно взглянуть на него… Принц Датский? Он благороден. Физическая сила сочетается в нём с детской застенчивостью. Но я должен во всём сомневаться! А вдруг он притворяется добрым?
Как-то противно всех подозревать! Но всё-таки… Я должен провести подробнейшее расследование! Значит, надо проверить всех. Кроме Наташи… Может, Миронова? Допустим, она завидует Наташе. Нет, ерунда. Исключается! Она завидует только тем, кого учителя ценят больше, чем её. А больше, чем её, они никого не ценят! Значит, методом исключения, который иногда применяется при расследованиях… Опять пойду старым путём. Говорят, «старый друг стоит новых двух». Может, это относится не только к друзьям? О, как мудры народные поговорки!
Итак, я добрался до Глеба… Он опять запинается на каждом втором слове. А больше — молчит. Но дело не в этом. Не поэтому он вызывает у меня наибольшие подозрения. Так, так, так… А почему? Во-первых, он единственный из нас всех был раньше знаком с Племянником. Улика номер один! А во-вторых и в-третьих… Мои наблюдения, о которых никто не знает! Те две догадки… В них — ключ! Я уверен… Но я должен во всём сомневаться. Так, так, так… Надо всё доказать! Доказать! Доказать!..
Я обернулся. Все тихо сидели на ящиках. И ждали… А Миронова задремала. У неё был железный характер! Я всех обвёл взглядом и остановился на Глебе.
Настала пора допроса! Поведу его осторожно, чтобы предполагаемый виновник ни о чём не догадался. И чтобы не обидеть его раньше времени подозрением. Прежде всего, соблюдение законности! Об этом часто пишут. Я не должен её нарушать. Должен во всём сомневаться, пока не будет доказано… И никакого насилия! Никакой грубости! Так, так, так…
— Глеб, не хочется ли тебе подойти ко мне? Если тебе не хочется, не подходи. Я тебя не принуждаю. Я сам могу подойти. Но если ты хочешь…
— Я что же… — сразу откликнулся Глеб. — Я пожалуйста…
Он не договаривал фразы. Но это не было уликой: он и раньше не дотягивал их до конца. Да, это и прежде было его яркой особенностью.
Однако острая наблюдательность подсказала мне, что он слишком уж быстро откликнулся, словно ждал, что я к нему обращусь. И слишком уж стремительно подбежал, будто боялся, что я спрошу его о чём-нибудь громко и услышат все остальные.
— Что?.. А?.. — сказал он совсем шёпотом, словно предлагая и мне вести разговор так, чтоб о нём знали только мы двое. Моя острая наблюдательность стала ещё острее, будто её только что наточили.
— Хочешь знать, как я догадался насчёт скелета? Очень просто. Когда ты перевернул «мемориальную крышку» и прочитал, что именно здесь была написана вся повесть от начала и до конца, догадка сразу озарила меня: не только подвал, но и скелет был нужен твоему дедушке для вдохновения! Чтобы нагонять на себя страх… Я бросился в темноту, чтобы проверить свою догадку. Бирка и планка её подтвердили. Но это не всё…
— А что же ещё?..
— Глеб, если тебе не трудно, переверни снова крышку и прочти, пожалуйста, ещё раз, что там написано, — сказал я с плохо скрываемой вежливостью.
Мне хотелось, чтобы Наташа видела, как умно и тонко я веду дело, как с каждой минутой всё больше оттачивается моя наблюдательность. Но нельзя было сделать так, чтоб Наташа слышала наш разговор, а все остальные не слышали. А если бы услышали все остальные, у них бы раньше времени возникли подозрения против Глеба. «Если же он не виновен? — рассуждал я. — Если мои предположения — всего только предположения? Нет, законность прежде всего!» И продолжал вести расследование шёпотом:
— Там, при всех, не надо переворачивать крышку. Принеси стол сюда, если тебе не трудно. Здесь переверни и тихо мне прочитай. А то у меня что-то рябит в глазах. Наверное, от окружающего нас мрака! Помоги мне, Глеб, если можешь.
— Я, конечно… переверну. Мне не трудно…
Он подтащил стол к ящику, сидя на котором я анализировал события. Перевернул крышку и прочитал:
«Здесь в течение одного года трёх месяцев и семи дней была написана повесть "Тайна старой дачи"».
«Так, так, так… — сказал я себе. — Он прочитал так же, как в первый раз. Значит, это уже не случайность».
— Глеб, почему же ты пропустил одно слово? — прошептал я. — Объясни, пожалуйста, если тебе не трудно. Подумай хорошенько, не торопись.
— Я?.. Слово?.. Какое?
— Всего только одно. Но очень существенное!
Я взял «мемориальную крышку» в руки.
— Написано так:
«Здесь в течение одного года трех месяцев и семи дней была придумана и написана повесть "Тайна старой дачи“».
А ты слово «придумана» пропустил. Почему? Соберись с мыслями. Не торопись.
— Я не заметил… Не обратил…
— Оба раза? Одно и то же слово? Согласись, дорогой: странное совпадение!
— Не обратил…
— Два раза?
— Два…
— А может быть, целых три?
— Нет… Только два…
— Прости, дорогой: тебе изменяет память. Первый раз ты не заметил это слово ещё гам, в городе. Когда говорил мне, что всё было на самом деле: вся история с Дачником. А оказывается, Гл. Бородаев её придумал. Зачем же ты мне сказал, что Дачник здесь действительно жил и пропал в новогоднюю ночь? Не тот, придуманный твоим дедушкой, а какой-то настоящий, живой, так сказать, человек? Взял и исчез… Зачем ты это сказал? И Племянника подучил сказать то же самое? Подумай хорошенько, не торопись.
Глеб не торопился. Он молчал.
— Так, так, так… — сказал я уже с плохо скрываемой угрозой.
— Хорошо… Я тебе… Всю правду…
— Вот именно: правду, одну только правду! Ничего, кроме правды!
— Иначе бы ты сюда… А так тебе сразу стало… И другие поехали…
— Подведём некоторые итоги, — сказал я. — Значит, ты очень хотел, чтобы мы сюда приехали. И чтоб заинтересовать нас, сказал, будто всё произошло здесь, на этой даче, в самом деле, а не было придумано дедушкой.
— Ну да…
— А почему ты так уж сильно хотел, чтобы мы приехали?
В это время подошла Наташа Кулагина. И тихо сказала:
— Алик, осталось совсем мало времени.
— Считай, что ты уже на пути к своей маме! — воскликнул я. — Скоро она обнимет тебя…
Покойник услышал мои слова. И не то с надеждой, не то с сомнением произнёс:
— «Темницы рухнут, и свобода нас встретит радостно у входа…»
Страх, значит, ещё не отшиб ему память: он помнил стихи Пушкина. Не совсем точно, но помнил.
— Да, встретит! — подтвердил я. — Ещё несколько минут — и я выведу вас отсюда…
— Как Данко? — спросил Покойник.
Острая наблюдательность подсказала мне, что он сомневается. Захотелось поскорее поразить всех своими находками и открытиями.
— Ты помнишь фразу из «зарисовки» Мироновой? — спросил я у Глеба.
— Какую?..
— В ней не было ничего особенного. Но она кое-что напомнила и озарила меня догадкой! Я даже запомнил её наизусть. Там было сказано про Нинель: «Накануне, то есть в субботу, она переезжала в новый дом и простудилась…» Значит, Нинель въехала в совсем новый дом?
— Мне дежурная в школе… А потом она сама… По телефону…
— Разве в совсем новых домах бывают телефоны? Их ставят уже потом, позже. Почти всегда так бывает. Откуда же она звонила? И разрешила нам ехать сюда без неё? Или, может быть, она с температурой тридцать восемь и пять пошла в автомат?
— Я вам всё… Я сейчас же…
— Нет времени! Мотивы преступления объяснишь потом. В электричке! А сейчас смотри мне в глаза. Говори правду, одну только правду, ничего, кроме правды: где выход отсюда? Или прикажи Племяннику! Ведь это ты его подучил?
— Я сейчас же… Я вас… Не беспокойтесь…
«Всё проанализировал я, а освободителем будет он?» — полоснула меня неприятная мысль.
Глеб уже хотел броситься в темноту. Но судьбе было угодно, чтобы очередная догадка молнией озарила меня! Стремительным движением руки я остановил его.
— Наташа! — воскликнул я. — Покажи свой рукав!
— Следствию нужны вещественные доказательства? — съехидничал Покойник с видом покойника. Он всё ещё не верил, что мы выберемся из подвала.
Я прикоснулся к Наташиному рукаву. Сердце моё заколотилось так сильно, что это услышали все и повернулись в мою сторону. А может быть, им просто было интересно, что я обнаружил на её рукаве? Эта мысль пришла ко мне позже. А в ту минуту вообще никаких мыслей у меня не было: я держал её руку в своей…
— Алик, нет времени, — сказала она.
Я не хотел торопиться. Но её слова вернули меня на землю.
Решали минуты! До электрички оставалось совсем мало времени. Совсем мало! А Наташу ждала дома больная мама…
Мысль моя вновь заработала: «Раз эта краска испачкала её рукав, значит, слова „Опасно! Не подходить!“ были написаны кем-то незадолго до нашего прихода: краска ещё не успела высохнуть. Так, так… И Глеб, помнится, крикнул тогда: „Не подходите!..“ Значит, надо немедленно подойти!»
Я подбежал к фанерному щиту, отбросил его. Вернее сказать, оттащил… Он заслонял собой дверь. Я толкнул её, и она нехотя заскрипела. Старая, покосившаяся, она, видно, не закрывалась — в этом было наше счастье: Племянник не смог запереть её. Дверь с трудом поддалась, открывая нам путь к свободе!
— Пожалуйста! Выходите! — воскликнул я. И взглянул на Наташу.
Она ответила мне взглядом, полным благодарности и даже… Но, может быть, это мне показалось.
Покойник бросился к выходу… Еле заметным движением руки я задержал его:
— Пусть первыми выйдут женщины!
«И дети», — чуть не добавил я по привычке.
Свет робко проник в подвал. Мне казалось, что это свет нашего полного освобождения!
Но как часто жизнь ставит на пути неожиданные преграды!
Подвал не хотел выпускать нас из своих цепких, сырых объятий. Старая дверь, обитая ржавым железом, не закрывалась, но и не открывалась тоже. Со скрежетом проехав чуть-чуть по каменной ступени, она словно вросла в неё и не двигалась дальше. Просвет между стеной и дверью был очень узким.
— Надо пролезть! — сказал я. — Первыми выйдут женщины…
И указал на Наташу.
Она не стала спорить, уступать место другим, чтоб показать, какая она добрая и благородная. Нет, ничего и никогда она не делала напоказ!
Тонкая и стройная, она не «пролезала» и не «протискивалась» между дверью и кирпичной стеной, а как бы освободилась, вырвалась из их плена — и оказалась на улице. Она сделала это изящно, не напрягаясь и не смущаясь.
— Теперь Миронова! — сказал я.
Даже тут она действовала как отличница: обдуманно, серьёзно, не торопясь. Сначала измерила внимательным взглядом просвет между стеной и дверью. Потом оглядела свою фигуру. Что-то прикинула, высчитала в уме… А потом подняла руку:
— Можно мне снять пальто?
Сняла и полезла… Миронова и здесь выполняла приказ: она аккуратно, старательно преодолевала препятствие и рапортовала мне как начальнику:
— Осталось всего полспины… Осталось плечо! Осталась рука… Всё в порядке: ничего не осталось!
Первым застрял Покойник. Он оказался самым толстым, а по его словам — «самым плотным» из нас.
— Много ешь, — сказал я. — А ещё поэт!
— У меня неправильный обмен. Это болезнь! — сообщил Покойник.
— Тогда скинь пальто.
Он скинул. Но и без пальто снова застрял.
— Я помогу тебе, — предложил Принц Датский. И стал осторожно проталкивать Покойника.
— Что-то хрустнуло! — вскрикнул тот. — Кажется, не пролезаю…
— Тогда я нажму на дверь, — сказал Принц.
Он сильно навалился плечом на ржавое мокрое железо. Дверь сдвинулась с мёртвой точки, но лишь еле-еле. Хотя детская застенчивость сочеталась в Принце с большой физической силой, ему ничего не удалось сделать.
— Снимай пиджак, рубашку, штаны! — приказал я Покойнику.
— Разве это возможно? — промямлил он.
— У нас нет времени рассуждать!
— Разве осенью раздеваются?
От волнения он заговорил в своей любимой манере: вопросами.
— Он простудится, — сказал заботливый Принц.
— Лучше спастись простуженным, чем погибнуть здоровым! — воскликнул я.
Покойник разделся. Девочки отвернулись.
Голый Покойник (то есть почти голый: трусы оставались на нём) пролез сквозь узкое отверстие.
— Разогрейся! — посоветовал из подвала Принц Датский. — Побегай!
Покойник забегал.
— Сначала оденься, а потом уж… — сказал добрый Принц.
От холода Покойник дрожал и плохо соображал. Наташа и Миронова стали натягивать на него рубашку, пиджак и пальто. Брюки он надел сам.
— Теперь Глеб! — сказал я.
— Я потом… Раз из-за меня… — тихо сказал Глеб. — Ведь всё это…
— Расследование закончим потом, — шёпотом перебил я его (хотя мне очень хотелось спросить прямо в упор: «Зачем ты всё это сделал?»). — Сейчас выяснять не время, потому что дорого время!
Глеб тоже скинул пальто и протиснулся.
Принц Датский указал на просвет:
— А теперь уж ты, Алик!
— Я покину подвал последним! — сказал я так, будто был капитаном гибнущего корабля: капитаны всегда покидают судно последними.
Принц Датский смущённо развёл свои огромные руки в стороны:
— Мне ведь тоже придётся… Как Покойнику…
Девочки отвернулись.
— И вы тоже, — сказал Принц мне, Глебу и Покойнику.
Большая физическая сила продолжала сочетаться в нём с детской застенчивостью.
Принц не был толстым, но мышцы вздувались у него на руках, на груди, даже на животе — и он запросто мог застрять в узком проходе.
По-спортивному быстро он перекинул одежду на улицу, преодолел препятствие, оделся и сказал:
— Можете смотреть!
Он стал по-спортивному высоко поднимать ноги, совершать пробежку по пустому, мокрому саду. Вслед за ним затрусил Покойник. Они согревались. А я?..
Я остался один по ту сторону двери, в подвале. С друзьями всегда приятней, спокойней, а в подвале особенно! «Что, если сейчас из другой двери появится племянник Григорий?» Эта мысль подтолкнула меня: я заторопился, сбросил пальто. И тут же подумал о другом: «Как я буду протискиваться сквозь узкую щель на глазах у Наташи Кулагиной?..»
Я всегда очень боялся предстать перед ней в невыгодном свете, в каком-нибудь смешном виде. Парикмахер сказал как-то маме: «У вашего сына сзади красивая форма головы. Благородная!» И я старался почаще поворачиваться к Наташе затылком… «А сейчас она увидит, как я буду краснеть и сопеть, пролезая с трудом между стеной и дверью». Эта мысль заставила меня похолодеть. Думаю даже, что мне было холодней, чем Покойнику, когда он остался в одних трусах, потому что я похолодел внутренне!
К тому же оказалось, что мне нужно снять не только пальто, но и куртку: выяснилось, что я тоже довольно плотный. А под курткой была старая рубашка, которую мама заштопала на самых видных местах. Она была тёплая, и поэтому я надел её в тот день. Мне не хотелось, чтоб Наташа видела эту рубашку. «А всё из-за Глеба! Зачем ему было нужно? Зачем?! — Я, кажется, впервые взглянул на него со злостью. — И из-за Племянника! Как бы этому Племяннику отомстить? Хоть немного! Хоть чем-нибудь…»
В тот же миг идея озарила меня!
Я нащупал в кармане карандаш и бросился обратно во мрак подвала: мне захотелось оставить кое-что на память Племяннику, какие-нибудь строчки, которые бы его разозлили.
— Куда ты?! — крикнул Покойник так, будто прощался со мной навсегда. Он боялся без меня оставаться. Это было приятно!
— Не бойся: вернусь! — успокоил я Покойника. Подбежал к старому садовому столику — и вдруг…
С ужасом услышал я, что со стороны двери, запертой на щеколду, послышались шаги. Это спускался племянник Григорий. Он, наверно, хотел поиздеваться над нами: спросить, как мы себя чувствуем, не соскучились ли или что-нибудь вроде этого. «Если ему никто не ответит, — подумал я, — он сразу поймёт, что мы убежали, и устроит погоню. Выйдет во двор и снова захватит всех!»
События с головокружительной быстротой сменяли друг друга!
Сердце замерло у меня в груди, а может быть, вовсе остановилось. Каждый шаг за дверью, на лестнице, отдавался трагическим эхом у меня внутри, будто от ужаса там образовалась какая-то пустота…
Так и есть.
— Эй, гаврики! Что это вы молчите, будто мать родная не родила? Заснули? — крикнул Племянник.
— Так точно. Все спят! — громко ответил я.
— Это ты, парнёк?
— Я!
— Опять выскакиваешь?
Он не знал, что выскочили как раз все остальные, а я остался.
— Куда же я выскочу, если вы дверь закрыли?
— Посидите ещё немного! Закаляться надо. Ты как считаешь, парнёк: надо вам закаляться?
— Ещё бы!
— Ты ведь хотел познакомиться с Дачником?
— Ещё как!
— Теперь познакомился?
— Конечно!
— Ну, вот видишь! Может, и о тебе когда-нибудь книжку напишут.
— Если я дойду до его состояния!
— Ага!..
Он засмеялся мелким и дробным таким смешком, будто монеты рассыпал по лестнице.
«Зачем ему нужно, чтоб мы сидели в подвале? — рассуждал я. — Да ни за чем! Просто он выполняет чужую просьбу». Я знал, чью именно! Но выполнял он её с удовольствием: ему приятно было кого-то помучить. Такой у него был характер.
Племянник зевнул длинно, словно завыл:
— Пойду-ка тоже вздремну…
«А не вздумает ли он перед сном погулять? Выйти во двор?..» — подумал я. И сердце опять замерло у меня внутри.
Всё же я не стал торопиться, а вынул из кармана карандаш и крупными буквами написал на крышке садового столика:
«Племянник! Передай привет своей тёте!»
И подписался: «Алик Детектив».
А потом помчался обратно — к узкой полоске света!
«Как же мне сделать так, чтоб Наташа не увидела заштопанную рубаху? — думал я. — Пожалуй, как Принц с Покойником, разденусь догола и попрошу всех отвернуться!..»
— Что ты там делал? Куда убежал? — набросились на меня все, когда я высунул голову из подвала.
Соскучились! Это было приятно.
— Отвернитесь! — скомандовал я.
Было холодно, откуда-то с крыши падали капли… Дрожа всем телом, я протискивался навстречу свободе.
Дрожа всем телом, я протискивался навстречу свободе.
Глава 9,
в которой события опять с головокружительной быстротой сменяют друг друга
Когда мы наконец вырвались на свободу, нужно было немедленно бежать, мчаться на станцию, но я словно прирос к земле и жмурился, хоть солнца не было и даже начало уже понемножку темнеть. Мы отвыкли от света и радовались ему, как дети!
Неожиданные мысли заполнили мою голову. Они наталкивались одна на другую, потому что их было много. Да, жизненные испытания делают человека мудрее!
Я думал о том, что если человек каждый день получает одни только радости, он, значит, их вовсе не получает. И о том, что если он с утра до вечера отдыхает, то, наверно, от этого устаёт. И о том, что если человек каждый день видит деревья и небо, он их не видит, просто не замечает, а вот если он посидит в подвале… Может, я был не совсем прав, но мысли на то и мысли, чтобы в них можно было сомневаться!
Наконец спокойствие вернулось ко мне, и я заорал:
— На электричку!!
— Мы всё равно не успеем, — сказала Наташа.
— То есть как это? Почему?
— Потому что осталось всего двадцать три минуты, а до станции — сорок с лишним.
— Я вас… — начал Глеб.
Но тут раздался длинный, солидный гудок тепловоза. Электрички гудят по-другому: короче и как-то, я бы сказал, легкомысленнее.
Догадка внезапно озарила меня.
— Глеб!.. — воскликнул я, желая перекричать тепловоз, который уже умолк. — Глеб! Я чувствую по гудку, что станция совсем близко. Ты вёл нас дальним путём… Запутанным! Ты хотел, чтобы мы… — Я не стал вслух объяснять, чего именно хотел Глеб: расследование ещё не было закончено. — В общем, веди нас кратчайшей дорогой. Самой короткой!
— Я и сам… Я вот как раз об этом…
Мы побежали. Предчувствие подсказывало мне, что станция должна показаться сразу же, как только мы обогнём сосновый лесок, в который упирался дачный забор. Но ведь, как я уже; кажется, отмечал, длинный путь может показаться коротким, а короткий ужасно длинным, особенно если поглядываешь на часы и прислушиваешься, не шумит ли вдали электричка.
«Иногда электричка на минуту-другую опаздывает, — думал я. — Но если нужно, чтоб она опоздала, то обязательно придёт вовремя или даже немного раньше…»
Покойник всё время отставал. Предчувствие подсказывало мне, что он может рухнуть, упасть: в тот день страх совсем измотал Покойника. К тому же ему пришлось голым вылезать из подвала. И это окончательно подкосило его.
Покойник не рухнул — он вскоре присел на пень.
Наверно, среди молодого леска росла ещё недавно могучая, старая сосна, но её почему-то срубили: может, чтобы не выделялась или по какой-то другой причине. Пень был широченный, на нём вполне могли уместиться все шестеро. Но Покойник сел посредине, и никто, кроме него, не уместился. Впрочем, мы отдыхать и не собирались!
У Покойника всё дышало: и нос, и грудь, и живот, и плечи… И даже ноги дышали. Вернее сказать, подрагивали.
Мы тоже остановились.
— Оставьте меня одного, — сказал Покойник таким голосом, словно был тяжело ранен. — Бросьте меня здесь. Нету сил…
— Я потащу тебя! — сказал Принц Датский. И собрался уже взвалить Покойника на себя.
Но к ним подбежал Глеб:
— И я тоже его… Чтоб легче…
В этот момент издали подала голос электричка.
— Из города… — сказал Глеб.
— Конечно. Для нашей ещё рано, — согласился Принц Датский.
Наташа взглянула на свои часики.
— У нас есть семнадцать минут. Нет, шестнадцать…
Принц Датский и Глеб попытались схватить Покойника за руки, но он гордо отстранил их:
— Я сам!
Пожалуйста, Гена… — тихо сказала Наташа. — Если можешь…
Покойник вздрогнул: давно уже никто из нас не называл его по имени. Мы просто даже забыли, что его зовут Генкой. Кажется, лишь в ту минуту Покойник по-настоящему понял, как волновалась Наташа. И он вдруг помчался вперёд с такой быстротой, что мы с трудом за ним поспевали.
Ни одна детективная история не обходится без беготни и погони. И вот мы опять бежали… «Жалко, конечно, что нет погони, — успел я подумать. — Если б за нами по пятам гнался племянник Григорий, а мы бы успели вскочить в электричку и двери перед самым его носом захлопнулись, это было бы совсем здорово! Хотя ведь гнать человека, заставлять его мчаться вперёд со всех ног может не только плохое, но и что-то хорошее, благородное!»
Одних из нас гнала забота о Наташиной маме. А других или, вернее сказать, другого, а ещё точнее сказать, Глеба, я думаю, подгоняла совесть… Опытный глаз мог почти безошибочно определить, что она в нём уже просыпалась. А предчувствие подсказывало мне, что скоро проснётся совсем!
В тот день я всё время о чём-нибудь думал, что-то замечал или предчувствовал… «Когда не происходит никаких интересных событий, то и интересные мысли не появляются, — рассуждал я. — Потому что нет никаких наблюдений… А когда происходит что-нибудь важное, мысли в голове прямо-таки теснятся. Поэтому в моей повести могло бы быть очень много лирических отступлений и разных раздумий. Но сюжет торопит меня, и от лирических отступлений приходится отступать… Да, именно события рождают умные мысли! Это я чувствую по себе. И это ведь тоже мысль! Мысль о мыслях!»
С этой мыслью я застыл, остановился как вкопанный.
Ноги мои сразу, без всякого предупреждения приросли к земле, и кто-то налетел на меня сзади. Но я даже не повернулся и не посмотрел, кто именно. А в того, кто налетел на меня, врезался ещё кто-то… Всё произошло так же, как бывает на шоссе, когда машина неожиданно тормозит.
Я смотрел вперёд, сквозь сосновый лесок. Он был молоденький, редкий, и сквозь него было ясно видно, что электричка подкатила к станции не из города, а с противоположной стороны. «Значит, та самая… которая в город. На которую мы спешим!» Я не успел ещё как следует в это поверить, а электричка снова гуднула и тронулась.
О, как часто жизнь преподносит нам неожиданности! События продолжали с головокружительной быстротой сменять друг друга…
Наташа поднесла часики к уху, и я заметил, что рука её дрожит. Эта дрожь немедленно передалась мне! Но я дрожал внутренне, про себя, и не подавал виду.
В тот день дрожь уже не первый раз посещала нас всех. И было отчего подрожать!
— Идут… — сказала Наташа. — Я их утром по радио проверяла.
Она оторвала часы от уха, на которое я смотрел. Никогда раньше я не замечал, что оно такое маленькое, аккуратное, плотно прижатое к волосам. Как мне хотелось, чтоб оно, это ухо, услышало что-нибудь приятное, радостное!
— Бывает, что электрички приходят раньше, — сказал я. — Особенно если нужно, чтоб они задержались… Это я замечал. Но ведь не на четверть часа! Ну, на минуту, другую…
— Так что ж это было? — тоскливо вскрикнул Покойник. — Как тогда со скелетом? Галлюцинация?
— Не умничай, — сказал я. — Разберёмся. Сегодня у нас…
Миронова подняла руку и торопливо, словно боясь, что её кто-то опередит, подсказала:
— Воскресенье!
— Стало быть…
— Выходной день! — подсказала Миронова.
Я медленно рассуждал:
— А в выходные дни бывают…
— Дополнительные поезда! — поспешно закончила мою фразу Миронова. Когда нужно было подсказать учительнице или вообще начальству, она очень быстро соображала.
— Вот именно! — согласился я. — Это был дополнительный поезд. Электричка в семнадцать ноль-ноль придёт. Я видел расписание… На станцию!
Мы снова сорвались с места и побежали. Я мчался быстрее всех: мне хотелось первому убедиться, что это был действительно дополнительный поезд, а не самый обыкновенный, не тот, который подчиняется ежедневному расписанию.
Только Глеб пытался меня обогнать. Я понял: ему хотелось отличиться, чтобы хоть чем-нибудь искупить… Всё-таки я раньше других подлетел к окошечку кассы: желание моё сбылось. Но уж лучше бы оно не сбывалось!.. Возле окошечка висел металлический щит с колонками цифр и словами: «ежедневно», «по воскресеньям», «далее со всеми остановками»… Щит был разделён на две половины: «В город» — «Из города».
Я забегал глазами по расписанию.
— Вот… Конечно! Семнадцать ноль-ноль!
— Это из города, — раздался за моей спиной тихий Наташин голос.
— Как? Разве? Не может быть! — Слова вылетели у меня изо рта просто так, от волнения. Я и сам видел, что Наташа была права.
— А нам нужно было на шестнадцать сорок пять! Эта электричка как раз и ушла…
— Разве? Не может быть! Как же так?
— Следующая будет через четыре часа, — сказала Наташа. — По этой ветке поезда ходят не часто. Совсем редко… Особенно осенью. Поэтому я и просила тебя посмотреть… когда мы приехали…
«Как же это могло получиться?! — думал я, бессмысленно водя глазами по расписанию. Мне было стыдно обернуться и взглянуть на Наташу. — Утром я поспешил… Хотел поскорей выполнить её просьбу. О, как мудра народная мудрость, которая учит нас: поспешишь — людей насмешишь!»
Но никто не смеялся.
— Мы доберёмся до дому не раньше одиннадцати, — сказала Наташа. — А я обещала маме в шесть или в семь… Не представляю, что с ней теперь будет. Не представляю… Как же так, Алик?
— Разве не ясно? Если б он утром внимательней посмотрел, мы могли бы успеть, — сказал тот самый Покойник, который ещё недавно прощался с жизнью в подвале. — Мы бы поторопились.
Какие жестокие сюрпризы порой подсовывает нам жизнь! Теперь получалось, что я во всём виноват. О Племяннике успели забыть. Забыли и о том, что я, подобно смелому Данко, осветил всем дорогу к спасению (этот свет ворвался в подвал, когда я подошёл к щиту со словами «Не подходить!» и отбросил его). Забыли, что я, именно я вывел всех из подвала, подарил всем свободу и независимость! Независимость от Племянника, который бы ещё неизвестно сколько держал нас в страшном плену.
Давно я заметил, что люди помнят лишь о последнем твоём поступке. Можно совершить много больших и прекрасных дел, но если последнее дело (пусть даже самое маленькое!) будет плохим, его-то как раз и запомнят.
Путаница с расписанием произошла утром, но казалось, что именно это было моим последним поступком, и ошибка, моя случайная утренняя ошибка, сразу как бы перечеркнула всё. Теперь помнили только о ней. Ощущение чёрной несправедливости больно ранило моё сердце… Но я не показал виду, что ранен!
О Глебе никто ничего не знал. Это тоже было несправедливо: ведь если бы он не попросил Племянника запереть нас, вообще не было бы никакой страшной истории. Но я не хотел позорить его. «Не делай чужое горе фундаментом своего счастья!» — учит нас народная мудрость. Так сказал папа моему старшему брату Косте, когда тот хотел пригласить в театр девушку, которая нравилась его другу. И Костя не пригласил.
Расследование ещё не было завершено. Мотивы преступления ещё не были выяснены. «Зачем? Зачем Глебу понадобилось…» Этот вопрос жестоко терзал меня. И всё же я не подал виду, что Глеб хоть в чём-нибудь виноват. Хотя делить вину на двоих всегда легче, чем принимать её всю на себя! Глеб был рядом и, казалось, просил: «Поручи! Поручи мне что-нибудь трудное!» Он хотел искупить…
Наташа стояла возле окошка кассы и смотрела на расписание, будто всё ещё проверяла, надеялась… Выражение её лица было таким, что капли дождя на щеках можно было принять за слёзы. Решимость вновь овладела мною: «Я должен тут же, не отходя от кассы, что-то придумать! И осушить эти капли! И вернуть улыбку её лицу! Да, я обязан. Тогда и она и все остальные снова увидят во мне спасителя: люди помнят о последнем поступке».
И тут… Идея как яркая молния сверкнула в моём мозгу. Но никто не заметил, потому что это было в мозгу…
Глава 10,
в которой слышится крик из подвала
— У вас тут есть почта? — спросил я Глеба.
— За станцией, недалеко. По ту сторону… — торопливо и старательно, как Миронова, объяснил Глеб: ему хотелось, чтобы я позабыл о его тёмном прошлом!
— Там есть телефонная будка? — спросил я, — Для междугородных переговоров?
— Одна будка есть…
— Нам хватит одной! — крикнул я так громко и радостно, что все подбежали к нам.
— Я знал, что ты придумаешь… Что ты найдёшь выход! Такой у тебя талант! — сказал Принц Датский, который продолжал ценить чужие таланты.
— Сейчас мы помчимся на почту, чтоб спасти Наташину маму и вообще всех наших родителей. Позвоним и скажем, что всё в порядке: задержались, но к ночи будем! Глеб укажет дорогу.
— Это великое дело! — сказал Принц, протягивая свои длинные руки, чтобы обнять меня. — И как всё великое, так ясно и просто: позвонить, успокоить. Это находка!
К чужим находкам он тоже относился с большим уважением.
Снова все посмотрели на меня с плохо скрываемым восхищением: люди помнят о последнем поступке.
Вдруг Принц помрачнел.
— Что случилось? — спросил я.
— Совсем забыл: у нас дома нет телефона… Но ничего. Мои родители, к счастью, здоровы.
И всё-таки я погрузился в раздумье. Но ненадолго! Когда я начинаю что-нибудь изобретать, возникает настоящая цепная реакция: одна идея цепляется за другую. Так было и в тот раз. Я поднялся на цыпочки и обнял благородного Принца:
— Дашь мне свой адрес! Я продиктую его старшему брату Косте, а он сбегает и успокоит твоих родителей.
В том, что у Наташи есть телефон, я не сомневался. Я это просто знал. Иногда я набирал её номер и, если она подходила, молча дышал в трубку. «Что вы там дышите?» — сказала она однажды. С тех пор я перестал дышать.
— Веди нас, Сусанин! — обращаясь к Глебу, торжественно произнёс Покойник.
Я бросил на Глеба мимолётный, но острый взгляд; сам того не подозревая, Покойник попал в точку: утром Глеб, как Сусанин, сбивал нас с пути. Только Сусанин поступал так с врагами, а Глеб со своими друзьями. В этом была принципиальная разница!
Мы побежали за Глебом. Почему мы спешили, трудно было сказать: до следующей электрички оставалось ещё много часов. Просто мы в тот день привыкли бегать, будто нас всё время настигала погоня. Но погони, к сожалению, не было!
А природа между тем жила своей особой, но прекрасной жизнью. То тут, то там виднелись лужи, в которые мы безошибочно попадали. Грязь напоминала густую серую кашу, которая аппетитно чавкала под ногами. Дождь всё усиливался, приятно освежая в пути. Деревья ласково протягивали нам свои кривые чёрные руки…
Глеб бежал впереди всех. И не только потому, что мы не знали дороги: он по-прежнему очень старался.
— Во-он там! — на ходу крикнул Глеб, указывая на одноэтажный домик, над которым была синяя, с белыми буквами, вывеска: «Почта. Телеграф. Телефон».
«Ещё немного, — мечтал я, — и Наташа войдёт в будку, из которой всё бывает слышно. И я уловлю слова: „Мамочка, не волнуйся!“ Потом она выйдет и бросит на меня мимолётный, но благодарный взгляд. А потом и мы будем звонить… Денег хватит: ведь родители дали „на всякий случай“, а в подвале тратить их было не на что!»
Окна домика звали, манили меня к себе так сильно, что я обогнал Глеба. Эти окна казались мне близкими и родными до той минуты, пока я не увидел, что они с внутренней стороны плотно закрыты ставнями.
Я сразу немного отстал, и Глеб достиг домика первым. Но он не взбежал на крыльцо, а уступил мне дорогу. Я взбежал, дёрнул за ручку, которая оказалась холодной и мокрой. А дверь оказалась закрытой.
«Выходной день — воскресенье», — прочитал я на облезлой табличке.
О, какие печальные сюрпризы подсовывает нам жизнь!
Все смотрели на меня. В глазах не было и тени недавнего восхищения. Я был на крыльце, а чуть пониже стояли пятеро моих друзей — в пустом посёлке, на мокрой земле, под дождём, возле закрытой почты. И они снова считали, что я виноват: если бы я утром не перепутал, они бы сейчас ехали в тёплом вагоне к своим мамам и папам. Я перепутал… Это вновь стало для них моим последним поступком. А о том, что, если б не я, они бы все сидели в подвале, никто уже и не помнил!
Так я думал, пока не заметил в глазах у Наташи нечто иное. Я увидел в них ожидание и надежду. Как это было уже не раз в тот день. Она ещё надеялась на меня!
И вновь началась цепная реакция: идеи одна за другой полезли мне в голову!
— А если добежать до соседней станции? Это далеко?
— Полчаса бега, — ответил Глеб. — Но районная почта здесь… А там нету будок…
— Воскресенье — для всех воскресенье! — мрачно изрёк Покойник. — Ты думаешь, там уже начался понедельник?
— Зачем же так? — неожиданно оборвал его Принц. — Зачем говорить под руку?
— Ну, если он будет думать рукой, наши родители обречены!
— Покойник, не трогай Алика! — сказал Принц Датский так же грозно, как говорил раньше мне: «Не трогай Покойника!»
В его груди билось честное, благородное сердце!
Поддержка вдохновила меня:
— А куда ты, Глеб, вчера звонил по междугородной? Чтобы предупредить Племянника… Ну, о том самом… о чём, ты знаешь. Куда ты звонил?
— На дачу.
— Значит, там есть телефон?
— Да. Его дедушке… Он выступал на телефонной станции, и ему… Там даже табличка… На аппарате… «Гл. Бородаеву от благодарных читателей…»
— По этому телефону ты, Наташа, и позвонишь! — провозгласил я с крыльца, словно с трибуны. — А потом, если останется время, и мы позвоним.
— Нет… — сказал Глеб. — Ты не знаешь Григория. Он не позволит… Раз мы его…
Глеб ещё не знал главного — он не читал моей надписи на столе: «Племянник! Передай привет своей тёте!» А если Племянник, в отличие от Глеба, уже прочитал эти слова? Тогда он и подавно не пустит нас к телефону! А то ещё и загонит обратно в подвал… Встречаться с ним страшно!
Так я думал, а вслух сказал:
— Что нам Племянник! Шестеро одного…
— Не ждут! — подсказала Миронова. И первый раз в жизни, подсказывая, не угадала.
— Не боятся! — поправил я её. И повторил: — Шестеро одного не должны бояться!
— Ты не знаешь Григория, — опять сказал Глеб. — Он же сидел… А мы не сидели… Нам не справиться…
— Посмотрим! — воскликнул я. Но по-прежнему стоял на крыльце: торопиться на «старую дачу» как-то не очень хотелось.
На выручку мне пришла цепная реакция: новая идея ярко вспыхнула средь рано спустившихся сумерек!
— Он нас пальцем не тронет!
— Пальцем, конечно, — заныл Покойник. — А ты видел, какой у него кулак?
— Не видел! И ни один из вас не увидит, — сказал я уверенно. — И самого Племянника вы не увидите!
— Разве это возможно? — продолжал сомневаться Покойник.
— Возможно!
— Разве Племянник исчез? Испарился? — От страха Покойник опять стал изъясняться вопросами.
— Когда вы войдёте в дачу, она будет пуста, — сказал я. — Вы верите мне?
— Верим, — сказала Наташа.
Это было мне скромной наградой.
— Бежим! — крикнул я.
И все опять побежали.
Если бы кто-нибудь в тот день наблюдал за нашими передвижениями со стороны, он бы решил, что происходит нечто весьма странное и подозрительное. Сперва мы мчались от дачи к лесу. Остановились, помахали руками вокруг Покойника и снова помчались. Потом остановились на платформе, снова помахали, посовещались и, обдавая друг друга брызгами грязи, устремились к почте. Опять остановились, опять помахали, посовещались и со всех ног помчались обратно к даче… Теперь уж я всё время бежал впереди, как вожак, который обязательно есть в любой стае — птичьей, собачьей и всякой другой. Мне не нужна была теперь помощь Глеба: я сам знал дорогу.
По пути к даче мы несколько раз отдыхали. Каждый по-своему. Покойник сразу бухался на пень или на скамейку и дышал всеми частями своего тела: носом, ртом, животом и плечами. Принц Датский ходил, по-спортивному высоко поднимая ноги, вскидывая и опуская руки, глубоко и ровно дыша. Глеб начинал прогуливаться где-нибудь подальше от меня: он избегал моих глаз и вопросов. Казалось, он хотел, чтоб я позабыл о его существовании. И о расследовании, которое всё ещё не было закончено: у меня не хватало времени! Внезапно он поворачивал голову, словно за деревьями и за кустами его настигали мои мучительные сомнения: «Зачем ты, Глеб, это сделал? Зачем?!»
Миронова, с трудом переводя дыхание, всё же поднимала руки и спрашивала: «Надо отдыхать?», давая понять, что, если потребуется, если будет отдано распоряжение, она тут же, без остановки помчится дальше.
Но, в общем-то, у всех вид был потный, взъерошенный. Даже я еле заметным движением стирал со лба капли усталости. И только Наташе усталость была к лицу. Лишь по лёгкому, едва проступавшему румянцу да по блеску больших серых глаз, которые меня ослепляли, можно было догадаться, что она немного утомлена. Я был уверен, что не существует в жизни таких положений, которые бы застали Наташу врасплох и могли бы ей повредить. Всё ей было к лицу, и от этого мне становилось страшно…
Когда показалась «старая дача», которая вовсе не была старой, мои друзья решили вновь отдохнуть. Они боялись к ней приближаться. Да, острая наблюдательность подсказала мне, что они робели.
Глеб всегда чуть-чуть пригибался и, казалось, любил изучать землю у себя под ногами. Раньше это было от скромности, а в тот день, как я уже говорил, он боялся встретиться взглядом со мной. Со мной, который многое понял, многое знал о нём, но кое-что ещё не дорасследовал.
Однако на последнем привале Глеб подошёл и сказал:
— Ты не знаешь Григория… Его все тут… Как огня! Он ведь сидел… За драку… Сидел!
— И ещё посидит! — сказал я.
— Где?
— Не там, где раньше, но посидит. Пока это тайна.
Остальные молча переминались с ноги на ногу, но глаза их старались остановить, удержать меня. «Умный в дачу не пойдёт, умный дачу обойдёт!» — говорили взгляды друзей. И хотя я в тот день убедился, как мудра народная мудрость, но на сей раз она меня не устраивала. Я вступал с ней в конфликт!
Наконец Принц Датский не выдержал и воскликнул:
— Ты смелый, Алик! Ты самый смелый из нас!
Он уважал чужую отвагу.
— Я знаю, что мои стихи не приносят никому особенной радости, — сказал он. — Но я никак не могу отвыкнуть…
— От чего?
— Высказывать свои чувства в стихах.
— Почему ты об этом заговорил?
— Потому что пришли мне на ум кое-какие строки. Пока мы бежали. Отойдём на минутку. И я прочту. Тебе одному!
Я понял, что ничего плохого Принц обо мне сочинить не мог. Поэтому мне захотелось, чтобы Наташа тоже услышала строчки, которые пришли Принцу на ум. Это ведь так приятно, когда тебя хвалят в присутствии любимого существа!
Я, как бы по просьбе Принца, отошёл в сторону. Но в ту, где стояла Наташа. И сказал:
— Прочитай! Не обязательно мне одному. И не обязательно тихо. Зачем же наступать на горло собственной песне?
Вот что он прочитал:
Остаются в памяти навек.
В этот день ты доказал нам, Деткин,
Что делами славен человек!
Чтоб хвалу могли воздать мы смелости,
Ты вернись в сохранности и целости!
Но и сам Принц Датский никогда не был трусом. Он предложил:
— Хочешь, я пойду вместе с тобой?
— И я пойду, — сказала Наташа.
В её фразе было только три слова. И в двух из них было всего по одной букве. Всего по одной! Но слова эти обожгли меня (в положительном смысле!).
Я не собирался, подобно Покойнику, говорить, что мечтаю погибнуть. Наоборот, после трёх Наташиных слов мне захотелось продолжить своё существование, как никогда раньше! Но и, как никогда раньше, я готов был рисковать собой во имя высокой цели: спасти её маму. И всех наших мам! Папы, мне казалось, меньше нуждались в спасении.
На том последнем привале я понял, что любовь способна вдохновить человека на многое!
— Мне понятно ваше желание разделить со мной трудности, — сказал я. — Поверьте: мне очень не хочется наступать на горло вашей песне! И народная мудрость гласит: «Один в поле не воин!»
Тут я подумал, что уже второй раз за какие-нибудь пять минут вступаю в конфликт со старой народной мудростью. «Наверно, ни одна мудрость не годится на все случаи жизни!» — решил я. В тот день мысли и обобщения буквально одолевали меня.
— В данном случае, — сказал я, — совершенно необходимо, чтобы воин был в поле один. Но вы всё время будете рядом со мной! — Я взглянул на Наташу. — Ну, а если я не вернусь…
— Ты вернись в сохранности и целости! — сам себя процитировал Принц.
— Постараюсь, — ответил я.
— Ты уходишь? — с тоской сказала Миронова: она боялась остаться без руководства. Всё-таки командиром был я!
— Что ты задумал? — спросила Наташа. — Может быть, скажешь? Что ты задумал?..
— Я открою вам путь к телефону! Я устраню Племянника!
— Устранишь? В каком смысле? Физически? — испуганно прошептал Покойник. — В каком смысле?..
— В том смысле, в котором надо!
— Устранишь? — растерянно сказал Глеб. — Но ведь это… он, знаешь… Его все тут… Как огня!
«Уж ты бы помалкивал!» — хотел я ответить Глебу. Но удержался: расследование не было завершено, и я не имел права при всех его обвинить, вынести ему приговор.
— Значит, идёшь один? Окончательно? — спросил Принц.
Я чувствовал, что друзья хотят оттянуть тягостную минуту. Они смотрели так, будто прощались со мной навсегда. Это было выше моих сил. И я сделал решительный шаг: сбросил с себя пальто.
— Ты простудишься, — сказала Наташа.
— Что поделаешь? Это необходимо.
Она протянула руки и взяла моё пальто. «Если что… пусть это будет памятью обо мне», — хотел я сказать. Но не сказал.
— В случае чего… ты кричи, — попросил Принц. Он предложил это из лучших намерений.
Но я взглянул на него с удивлением:
— Кричать? Ни за что!
— Что же нам делать? Бездействовать?
— Спрятаться за деревьями и ждать моего сигнала! Когда я высунусь из окна и незаметно махну рукой, знайте: с Племянником покончено!
— Навсегда? — спросил Покойник.
— Навсегда или временно — какое это имеет значение? Важно, что путь к телефону будет свободен! Я вам незаметно махну…
— Почему незаметно? Ты маши позаметнее. А то мы не заметим, — сказал Принц.
— Будь осторожен… — тихо попросил Глеб.
«Думал бы раньше!» — мысленно дал я ответ.
И смелым, решительным шагом двинулся к даче, навстречу риску, подвигу и неизвестности!
А природа между тем продолжала жить своей особой, но прекрасной жизнью. Дождь усилился. Я знал, что друзья, следящие за каждым моим движением, видят, как ветер развевает мою одежду и как фигура моя постепенно словно бы растворяется в густой дождевой пелене…
Я вошёл в дачу. Сердце моё билось так сильно, что я придержал его рукой. И стал подниматься по «ворчливо-скрипучей» лестнице, которая не скрипела. Каждый шаг приближал меня либо к торжеству, либо… Но об этом я старался не думать.
Сверху опять донеслось бормотание:
— Ах, вы всё ещё трепыхаетесь? Тогда уж мы вас добьём! Ах, вы так?.. Тогда мы вас — бац! — по загривку!
Мне казалось, что эти слова относились ко мне. И я остановился. Но лишь на секунду. А потом, чтобы не оставлять себе времени для сомнений, быстро взбежал по лестнице. На пороге бывшей комнаты Дачника я вновь на миг задержался: распахнул куртку, разорвал свою старую рубашку на тех самых местах, где она уже была заштопана, потом и её распахнул, чтобы было видно моё голое тело. И толкнул дверь. Племянник по-прежнему играл сам с собой «в дурака».
Вид у меня был такой мокрый и растерзанный, что Племянник, мне показалось, в первую минуту меня не узнал. Но потом пригляделся и поднял своё огромное тело из-за стола:
— Это ты… парнёк?
— Я… — ответил я, дыша так, чтоб он понял, что я почти задыхаюсь.
— Сквозь стену прошёл?
— Нет… Я через дверь. Через ту, которая перекосилась и открывается только чуть-чуть. Сбросил пальто и пролез. Видите, рубашку порвал. Но пролез. Остальные застряли и вернулись обратно. А я прямо к вам!
— Чего же не смылся?
— Мне вам нужно сказать… Сообщить!
— Смелый ты, я погляжу, парнёк. А если я тебя обратно туда запихну, как сельдь в банку?
— Запихните! Пожалуйста!.. Я сам с удовольствием запихнусь. Но сначала послушайте. Я должен вам сообщить…
На его маленьком личике вновь не умещалось ничего, кроме усмешки.
— Я бы вас выпустил. Немного попозже. — Он захихикал. — Но раз вы сами хвост подымаете, смотрите, гаврики! Там ведь написано: «Не подходить!» А ты, парнёк, подошёл? Начихал, значит? Запихну я тебя обратно. И будешь сидеть тихо, будто мать родная не родила!
— Запихните! Пожалуйста! Но сначала послушайте!
— Чего там?.. — Он махнул на меня, словно на комара.
— Мы обнаружили там… исключительно интересную запись! На крышке стола. Прямо на крышке, сверху! Вы не заметили, потому что эта запись сделана карандашом и чуть-чуть стёрлась. Но зато очень важная! И адресована лично вам!
— Мне?
— Лично вам! Представляете?
— Мне лично?
— Вам! Не верите? Можете посмотреть!
— На столе?
— Прямо на круглой крышке. Если вам за какие-то бумажки музей объявил благодарность, то уж за стол с надписью… Наверно, портрет ваш в музее повесят. И всем экскурсантам будут рассказывать!..
— А может, и деньжатами пахнет?
— Заплатят! — уверенно сказал я. — Во-первых, за стол: это же предмет, непосредственно связанный с жизнью писателя. И его творчеством! Потом, он же всего на трёх ножках… А в музее знаете как? Чем старее вещь, чем больше поломана, тем сильней за неё хватаются. Слышали, говорят: «Музейная редкость»? Это, значит, что-нибудь поломанное или разорванное. А во-вторых, там же надпись, обращённая к вам! Табличку прибьют: «Из личного архива…» Я такие читал. И повесят портрет… Ваш портрет!
— Ну, ты не умничай! — Племянник вновь махнул на меня рукой. — Не твоих мозгов дело, парнёк.
Веди-ка меня. Если правду говоришь, всех выпушу. А если наврал, тоже выпущу… дух из тебя! Понял?
Довольный собой, он рассыпал мелкий, противный смешок. И за гопал вниз, перешагивая через две или три ступени. Я еле за ним поспевал.
«Лишь бы не сорвалось! — думал я. — Ну, а если сорвётся… Я погибну в подвале. И не так, как Аида и Радамес, которые всё-таки были вдвоём. Нет, я закончу свою жизнь в тёмном, сыром одиночестве! Всё решится буквально через секунды. Вот сейчас! Вот сейчас…» Я вытер со лба капли страха. Даже не очень опытный глаз мог бы безошибочно определить: меня трясла лихорадка. Как хорошо, что Наташа была далеко!
Мы остановились у двери, ведущей прямо в подвал.
Племянник схватился за щеколду. Железо со ржавым стоном проехало по железу. Потом он повернул круглую головку английского замка.
— Проходи-ка, парнёк…
— Нет, вы вперёд проходите. Вы ведь старше! Я себе не позволю…
— Вежливый ты, парнёк! Не люблю вежливых.
Он шагнул в сырой мрак подвала.
И в то же мгновение дверь, которую я смело и решительно толкнул ногой, захлопнулась. Щёлкнул замок, от которого ни у кого не было ключа… На всякий случай я тут же навалился на щеколду и с трудом задвинул её.
— Парнёк, ты что? — послышалось за дверью.
— Не хочу вам мешать, — с плохо скрываемым злорадством ответил я.
— Открой дверь! Откр-р-р-ой!
— А вы нам открыли?
— Ну, пар-р-рнёк! Ну, ты у меня…
— Пока что не я у вас, а вы у меня… сидите в подвале.
— Сейчас я твоих дружков… Я их всех! Будто мать родная не родила!.. Я их…
— Сначала найдите!
— Да я их!
— Посидите вдвоём со скелетом!
Он стал колотить в дверь ногами. Но она была прочно обита ржавым железом.
— Попробуйте пролезть через другую дверь, — посоветовал я, зная, что через неё пролезет только маленькая головка Племянника. Или его нога.
— Навр-рал? Ты мне навр-рал?
— Нет, я сказал правду. Подойдите к столу и убедитесь!
Послышался топот его ножищ.
«Вот сейчас он остановился возле стола… — думал я. — А сейчас вот читает: „Племянник! Передай привет своей тёте!“».
— Откр-р-рой! — раздался крик из глубины подземелья, похожий на рёв циклопа, запертого в пещере.
Чувство законной гордости переполняло меня! Был открыт путь к телефону. Наташина мама была спасена!..
Глава 11,
в которой мы слышим разные голоса и топот погони…
— Как тебе удалось? Как ты это совершил? Как сделал? Как?! Расскажи!
— Важен результат, — отвечал я на вопросы своих друзей. — Он сидит в подвале? Сидит! Он кричит в подвале? Кричит! Остальное, как говорится, детали.
— Победителей не судят! И не расспрашивают!.. — изрёк Покойник.
Ему не хотелось, чтобы мной восторгались, чтоб меня расспрашивали. И хоть наши желания решительно не совпадали, я тоже сказал:
— Зачем оглядываться назад? Лучше будем смотреть вперёд!
— Я слышал, что у военных принято анализировать военные операции, которые привели к победам, — сказал Принц Датский. — На них учатся остальные!
Мне не хотелось вслух анализировать свою «операцию». Ведь я перехитрил Племянника… А хитрость со стороны всегда выглядит менее выгодно, чем прямая схватка, чем смелость, проявленная в открытом бою. «Если бы они слышали своими ушами, как Племянник грозил запихнуть меня обратно в подвал, словно сельдь в банку, — рассуждал я, — они бы поняли, что я проявил не только находчивость, но и храбрость. Но они этого не слышали и уже не могут услышать. Пусть же догадываются сами. Вдруг Наташа подумает, что Племянник струсил, испугался меня! Я не буду с ней спорить. К сожалению, она вряд ли так может подумать…»
И хотя я предложил не оглядываться назад, мне внезапно захотелось, чтоб они услышали рычание Племянника и поняли, какого противника я победил!
Всем не терпелось добраться до телефона, но я предложил:
— Давайте спустимся на минутку!
Спустились все, кроме Глеба… Он, который старался первым выполнять мои приказания и даже, подобно Мироновой, заранее угадывать их, тут вроде бы не расслышал. Я не стал насиловать его волю.
Может, он боялся, что я и его тоже загоню в подземелье. А может быть, считал себя не вправе издеваться над Племянником, который ещё недавно был его верным сообщником. Соучастником его преступления! И вновь передо мной возникла загадка, которую ещё предстояло понять, разгадать: «Зачем Глеб звонил Племяннику? Зачем просил его запереть нас в подвале? Зачем?!»
Мы подошли к двери, обитой ржавым железом, и я крикнул:
— Ну, как там дела? Какое у вас настроение?
Племянник стоял по ту сторону, возле самой двери, как тигр возле металлических прутьев клетки.
— Откр-рой! — заорал он. — Откр-рой!
Все отскочили в сторону. Но я остался на месте. Я даже не шелохнулся. И с плохо скрываемой насмешкой произнёс:
— Мы же освободились собственными силами. Без вашей помощи. Вот и вы постарайтесь! Проявите инициативу, находчивость. Посидите, похудейте — тогда, может быть, пролезете через ту дверь, через которую мы…
— Я р-разнесу дачу! — кричал Племянник.
— Тётя будет очень огорчена, — спокойно ответил я. И обратился к своим друзьям: — Прошу вас наверх! К телефону. Прошу!
Все тихо мне подчинились.
Мы вошли в комнату, которую когда-то снимал у тёти Племянника Гл. Бородаев. Она переходила прямо в террасу, а терраса выходила прямо во двор.
Телефона я в комнате не увидел. И внутренне похолодел: неужели все мои старания оказались напрасными?
Но уже в следующий миг я внутренне отогрелся: Глеб поднял со стола старый женский халат, и оказалось, что телефон скрывался под ним.
— Зачем это? — спросил я.
— Тётя очень боится… Если соседи, которые с других дач… То всегда будут просить… Она прячет, чтобы не знали. Он ведь прямой!
— В каком смысле?
— Сразу соединяется с городом… Такой только дедушке… В благодарность…
К аппарату была прибита потускневшая пластинка: «Гл. Бородаеву от благодарных читателей».
Рядом лежала бумажка, на которой были записаны телефоны милиции, «скорой помощи», пожарной команды и ещё какой-то.
Это чей? — спросил я.
— Тёти Племянника… — сказал Глеб. — Она в городе. Он ей звонит. Сообщает…
— Понятно.
Острая наблюдательность немедленно подсказала мне, что никто не решается первым снять трубку. Вдруг отключён за неуплату? Или испорчен?..
Смелым движением руки я поднёс трубку к уху: раздался гудок. Наташин телефон я знал наизусть. Но она не знала, что я его знал. И я не хотел, чтоб она об этом догадывалась: ведь я чуть не с первого класса звонил ей и долго дышал в трубку, а потом перестал дышать.
— Наташа, какой у тебя номер?
Она ответила. Я набрал… Послышался женский голос.
Он был мне отлично знаком: раньше, услышав его, я сразу же вешал трубку. Но сейчас не повесил, а передал Наташе:
— По-моему, твоя мама.
— Мамуля, — сказала она так нежно, что острое чувство зависти вновь проникло мне прямо в сердце. Если б она сказала Таким голосом «Алик», я отдал бы всё самое дорогое: новый велосипед (двухколёсный!), и шариковую ручку, и бильярд с металлическими шариками!
Она продолжала:
— Нет, не из города… Мы ещё здесь, на даче. Опоздали на электричку. Всё хорошо. Ты не волнуйся. Я буду часов в одиннадцать. Попроси, пожалуйста, Анну Петровну, чтобы не уходила. Чтобы ещё посидела с тобой… дождалась меня, если может. Попросишь? Честное слово? Нет, всё хорошо! Сейчас мы на даче. Нет, не на улице. Ты не волнуйся. Просто опоздали на электричку. Целую тебя!
«Уж этого-то мне никогда не услышать!» — с плохо скрываемой грустью подумал я.
И вдруг она сказала:
— Спасибо, Алик!
— Не стоит. Пожалуйста… — ответил я и громко закашлялся, чтоб не услышали, как заколотилось в груди моё сердце.
Я вновь поднял трубку и протянул её Мироновой: я уступал место женщинам!
— Сколько минут можно разговаривать? — спросила Миронова.
— Сколько хочешь. Ты же не в автомате.
— Разве не ясно? — задал вопрос Покойник.
— Что? — спросила Миронова.
— Разве не ясно, что и другие родители тоже волнуются? И что поэтому не надо затягивать? Разве не ясно?..
Он заговорил в своей излюбленной форме. Миронова быстро набрала номер. Я, как детектив, постарался представить себе весь её разговор полностью, угадывая и то, что ей отвечали.
— Валентин Николаевич! — закричала Миронова.
— Ты говоришь…
— Издалека! — закричала Миронова.
— Очень плохо…
— Слышно! — крикнула она. — Это потому, что я нахожусь за городом.
— Тебе нужно…
— Маму! Или папу. Или брата. Или сестру.
Я понял, что Миронова любит подсказывать не только учителям, но и соседям по квартире. Всем, кто старше её. И главнее!
Потом подошёл брат, потому что Миронова назвала его по имени.
— Передай маме, Михаил, что я приеду в одиннадцать. Или в одиннадцать часов десять минут. Потому что мы опоздали на электричку. Повтори всё это слово в слово!
— Ты приедешь в одиннадцать. Или в одиннадцать часов десять минут, — повторил брат Михаил. — Потому что ты опоздала на электричку.
— Не я опоздала, а мы. Мы все опоздали! — строго поправила Миронова. — Повтори ещё раз.
Он повторил. На этот раз без ошибок, потому что она повесила трубку. Не сказала ни «целую», ни «до свидания», а просто повесила.
Я понял, что Миронова умеет не только подчиняться, но и приказывать. Тем, кто моложе её. В том, что брат был моложе, я почти не сомневался, хотя она и называла его Михаилом. И всё же, чтобы проверить свою догадку, спросил:
— Это младший твой брат?
— Он моложе на один год и семь месяцев, — ответила Миронова.
Острая наблюдательность и на этот раз не обманула меня.
Как только Миронова отошла от аппарата, Покойник, не дожидаясь моего приглашения, сам бросился к телефону.
Но его номер был занят.
— Разве нельзя было в другое время? Разве можно так долго? — ворчал Покойник. И неожиданно заорал: — Мамочка, это я! Телефон был так долго занят… Ты звонила дежурному? Какому? Ах, по городу? В больницу? И в морг?!
Его мама волновалась так, будто Покойник умер.
Потом Покойник зачем-то сообщил, что мы на даче одни, то есть без взрослых. Тут уж голос его мамы стал так ясно слышен, будто она была не в городе, а на соседней даче. Покойник объяснил:
— Нет, мы не сами… Нам Нинель разрешила!
— Зачем? Зачем ты это сказал?! — Я дёрнул его за рукав.
Но было уже поздно. Мама кричала, что она родила Покойника не для того, чтоб его потерять. Или что-то похожее.
Я вновь, как опытный детектив, мысленно представил себе весь разговор.
— Как ваша учительница могла это сделать? Ведь мы же её предупреждали! — кричала мама.
— Когда предупреждали?.. — удивился Покойник.
И я ещё раз понял, насколько лучше, если на родительское собрание идут не родители, а идёт старший брат: Покойник не знал никаких подробностей.
— Ну, уж это последняя капля! — кричала мама, будто с соседней дачи. Но всех слов не было слышно, и мне приходилось догадываться.
— Как это последняя? В каком смысле? — продолжал удивляться Покойник.
Я понял, что его мама была среди тех, которые нападали на нашу Нинель.
Глеб пригнулся так низко, как не пригибался ещё никогда.
— Иди! Твоя очередь! — сказал я с плохо скрываемой злостью.
— Я потом… После тебя… Я могу после…
— Ещё бы: у тебя дома ведь никто не волнуется! Ты, конечно, заранее предупредил. Уж ты-то знал…
Никто из ребят нас не понял. Но мы хорошо поняли друг друга: Глеб заранее знал, что мы поздно вернёмся. Он сделал для этого всё, что мог. И конечно, ещё утром предупредил, чтоб его не ждали.
— О Нинель Фёдоровне ты не подумал? — тихо, немного притушив свой справедливый гнев, спросил я. И угрожающе, но шёпотом, чтоб другие не слышали, добавил: — Скоро я выясню всё. Все мотивы! Зачем тебе было нужно?.. А? Потом объяснишь! А теперь звони. Как ни в чём не бывало! Иначе все догадаются раньше времени.
Он колебался.
— Звони, будто и у тебя дома волнуются!
Он подчинился.
— Мы тут… Я поздно… В одиннадцать… — сообщал он то, что его папа, сын писателя Гл. Бородаева, и раньше прекрасно знал.
Я издали обдавал Глеба холодной струёй презрения. Но так, чтоб эта струя не попала случайно в других, то есть чтоб мой взгляд не перехватили и не догадались о чём-нибудь прежде, чем я закончу расследование.
Потом я узнал адрес Принца, записал его и набрал номер своего телефона.
Он тоже долго был занят.
«Может быть, тоже звонят в морг? — подумал я. — Или Костя разговаривает со своими приятелями? А точнее сказать, с приятельницами…» Телефон был занят минут пятнадцать, не менее. Но и не более, потому что я проверил по часам, которые были на руке у Наташи. У меня тоже были часы, но я старался как можно чаще обращаться к её маленьким часикам. Брал Наташину руку, подносил к самым глазам. Это были незабываемые минуты!
Номер был занят, а я радостно улыбался. Все смотрели на меня с удивлением.
— Если так долго, значит, это наверняка Костя, — стал объяснять я. — Мой брат! Именно он должен сбегать к родителям Принца. Хорошо, что он дома!
Наконец я высказал Косте свою просьбу.
— А Нинель Фёдоровна с вами? — спросил он таким тоном, каким обычно не спрашивают об учителях. — И она тоже просит меня?
— Да! — Я солгал. Но ради высокой цели!
— Тогда я сделаю это немедленно. Передай ей приветик! И сообщи, что я буду ходить на все родительские собрания. Пусть почаще их созывает. Салют! Я мчусь к родителям Круглова!..
Круглов — это была фамилия Принца.
Даже не очень опытный глаз мог безошибочно определить, что у всех стало хорошее настроение: мы уже не волновались за наших родителей, потому что они уже не волновались за нас.
Моя мама не была так тяжело больна, как Наташина. Но я часто думал о здоровье мамы и папы. Однажды я услышал по радио, что долголетие часто как бы получают в наследство от родителей, от бабушек и дедушек. Одним словом, от предков. Это меня очень обрадовало: мои бабушки и дедушки — все четверо! — были бодры и здоровы. Значит, их дети, то есть мама и папа, тоже должны были прожить очень долго!
Один дедушка был даже до того здоров, что лет десять назад развёлся с бабушкой, которая тогда ещё не была бабушкой в полном смысле этого слова, и потому тоже смогла выйти замуж второй раз. Теперь иногда дедушка (по маминой линии) приходил к нам в гости, как говорили, «с молодой женой», а бабушка (тоже по маминой линии) приходила со своим «молодым мужем», который был старше её лет на пятнадцать. Мы всегда встречали их очень гостеприимно. Единственное, за чем приходилось следить, — это за тем, чтобы бабушка с мужем и дедушка с женой не приходили в один и тот же день, то есть, как говорил Костя, «чтобы не сталкивались». Я поинтересовался однажды прабабушками и прадедушками, — оказалось, что они тоже жили на свете долго. Теперь оставалось мечтать только о том, чтобы врач, выступавший по радио, был прав: я очень надеялся на наследственность! Я очень хотел, чтобы мама и папа всегда были здоровы…
Ещё я слышал о том, что дети переносят любые болезни гораздо легче, чем взрослые люди. И когда мама или папа заболевали, я огорчался из-за того, что болезни внутри семьи нельзя распределять по своему усмотрению: я бы с удовольствием принимал на себя их гриппы, ангины, спазмы сосудов. И даже камни, которые где-то откладывались у папы, я бы, не задумываясь, взял и «отложил» где-нибудь у себя.
Я знал, что у взрослых от волнения повышается давление, сосуды сжимаются и происходит ещё много такого, чего со мной никогда не случалось. В общем, мы вовремя позвонили!
Все смотрели на меня так, будто хотели вслед за Наташей сказать: «Алик, спасибо!..»
И хотя все наши родители были уже успокоены, мне показалось, что телефон мы использовали не до конца.
— Давайте позвоним кому-нибудь из ребят? — предложил я.
Начали с Парамонова. Это был человек лет двенадцати с половиной, не более. Восторженность была его яркой особенностью. Он мог сделать слона не только из мухи, но даже из комара. Я знал, что, если позвонить Парамонову, он растрезвонит об этом звонке на всю школу.
— Парамонов, — произнёс я в трубку чуть приглушённым, таинственным голосом. — Привет тебе прямо со старой дачи!
— Вы ещё там?
— А где же нам быть?
— Потрясающе! С Нинель Фёдоровной?
— Нет, абсолютно одни.
— Просто не верится!
— Приезжай посмотри!..
— Одни в целой даче?
— Да. Она полностью в нашем распоряжении.
— Потрясающе!
— Мы вернёмся глубокой ночью.
— Не может быть…
— Позвони ко мне домой и проверь у родителей. Или к Покойнику. Уж родители не соврут!
— Почему же так поздно?
— Мы сидели в подвале.
— Долго?
— Четыре с половиной часа. А может быть, больше.
— Потрясающе! Что вы там делали?
— Раскрывали страшную тайну.
— И раскрыли?
— Да, мы раскрыли. Тайну скелета!
— Кого?
— Скелета, скелета… Не удивляйся!
— Настоящий скелет?
— А ты думал — игрушечный?
— Чей?
— Трудно сказать с абсолютной точностью. Мы не были с ним знакомы…
— Вы в той самой даче? Которая описана в повести? Ну, в той, в которой исчез человек!
— Мы тоже могли исчезнуть. Но мы боролись!
— Их было много?
— Один человек.
— Всего один? А вас — целый литературный кружок!
— Если бы ты видел его, ты бы понял… Но мы победили. Теперь он наказан и находится в заточении. Мы посадили его в подвал!
Потом уж мы стали звонить и другим своим одноклассникам.
— Слушайте старую дачу! — говорил я. Или так: — На проводе — старая дача! Мы вернёмся глубокой ночью…
Нам завидовали и поэтому сомневались…
— Наверно, сидите дома?
— Можете проверить у наших родителей. Уж родители не соврут!
Чтобы Наташа не сочла меня в чём-то нескромным, я говорил: «Мы боролись… Мы разгадали… Мы посадили в подвал…» Хотя на самом деле боролся с Племянником я один и я один загнал его в подземелье. «Пусть для своих одноклассников я буду пока безымянным героем, зато для Наташи навсегда останусь скромным и чистым!» Эта мысль меня утешала.
— Разве нам не пора на станцию? — спросил Покойник.
— Пора, мой друг, пора! — со вздохом ответил я: мы ещё не успели обзвонить всех — в нашем классе учились сорок два человека.
Время у нас было, но сомнения меня подгоняли: «А если я снова что-нибудь перепутал? А если электричка придёт раньше, чем полагается?..»
— Бежим! — сказал я. Ходить мы в тот день вообще разучились.
— Но сначала надо выпустить из подвала Племянника, — сказала Наташа.
— Зачем его выпускать?
— Чтобы он там не умер.
— О, как ты добра! — воскликнул я и прижал руки к груди.
— Пусть сидит «за решёткой, в темнице сырой», — сказал Покойник. — Разве он не заслужил наказания?
— По-моему, он своё отсидел, — сказала Наташа. И взглянула на часики.
— Мы сидели гораздо больше, — возразил я. — Хотя ни в чём не были виноваты. Почему же он должен сидеть меньше, чем мы?
Мне не хотелось ей возражать. Выполнять любое её желание — вот что было моей мечтою! «Но как же нам его выпустить? Каким способом? — молча рассуждал я. — Пожалуй, освободить его из подвала ещё трудней, чем загнать туда!»
Мы вышли из комнаты и стояли возле лестницы: она вела прямо к железной двери, которая вела прямо в подвал.
— Он ведь не сам… Это же я, — тихо начал Глеб.
— Молчи! — Грозным шёпотом я закрыл ему рот: не хватало ещё, чтобы он сознался и сам всё раскрыл. Нет, это должен был сделать я, Детектив!
— Наташа права, — сказал добрый Принц Датский. — По-моему, племянник Григорий уже осознал… Сидит тихо.
Как раз в эту минуту из подвала донеслось:
— Откр-рой! Слышишь, парнёк? Сломаю стену! Оторву тебе голову!
— Я готов пожертвовать своей головой! Но она ещё может вам пригодиться: следствие не закончено! — крикнул я, перегнувшись через перила, чтобы Племянник услышал. — Кое-что мне неясно… Следствие будет доведено до конца! До победного! И может быть, я найду смягчающие вину обстоятельства. Так что сидите тихо!
Я взглянул на Глеба. Он пригнулся, и нежная, бархатная кожа его лица покрылась нервными пятнами. Я пощадил Глеба и не стал объяснять, что именно я уже выяснил и что осталось неясным. Кроме того, по всем правилам я не мог его обвинять, не установив мотивов совершённого преступления. А может быть, среди этих мотивов действительно найдутся смягчающие вину обстоятельства? Для Глеба и даже, может быть, для Племянника. Законность! Прежде всего законность!..
— В конце концов, я могу пожертвовать своей головой, — повторил я. — Но одной головы ему будет мало… А вами я рисковать не могу! — и взглянул на Наташу.
— Откр-рой! — орал из подвала Племянник. — Дачу сожгу! Не пожалею себя!
— Вот видите: он себя не хочет жалеть. А вы думаете, что он пожалеет вас. О, как вы доверчивы!
— Что же делать? Время идёт, — сказала Наташа. — Где выход, Алик?
Все повернулись ко мне. И в глазах я прочёл надежду, которую не мог обмануть!
Судьбе было угодно, чтоб именно в ту минуту мой взор проник прямо в комнату, дверь которой была открыта, и упал прямо на бумажку, лежавшую возле телефонного аппарата. На ней (я это запомнил!) были написаны номера милиции, «скорой помощи», пожарной команды и тёти Племянника.
Идея тут же, без промедления, озарила меня!
— Мы позвоним к тёте, она завтра утром приедет и освободит его!
— Вон… На бумажке… — подсказал Глеб.
— Спасибо, — ответил я таким тоном, будто нуждался в его подсказке. Мне вдруг захотелось самому подкинуть Глебу какие-нибудь смягчающие обстоятельства. Дать ему возможность чем-нибудь искупить… Хотя каждый раз, когда я взглядывал на него, один и тот же вопрос обжигал меня: «Зачем? Зачем он всё это сделал?!»
— До утра держать человека в подвале нельзя, — сказала Наташа.
— Человека нельзя. Но Племянника…
Второй раз в жизни я возражал ей. Это было невыносимо!
— Жестокостью нельзя победить жестокость, — сказала Наташа.
Я был уверен, что эту мысль она обязательно должна записать в тетрадку! Хотя я с этой мыслью и не был согласен. Доброта к противнику — не жестокость ли это? И можно ли, пожалев противника, не наказать при этом себя? Такие сомнения терзали меня и чуть было не растерзали совсем.
Я был уверен, что и мои мысли попадут в общую Наташину тетрадь, когда она наконец станет общей в самом прекрасном смысле этого слова: её и моею!
Может быть, Наташины мысли были благородней моих. Но с благородными мыслями, как я понял в тот день, очень много мороки: очень уж они осложняют жизнь. Позвонили бы тёте — и всё. Так нет же: нельзя держать человека в подвале!
— Освободить должен кто-то один, — сказал я. — А остальные должны перед этим исчезнуть. И в условленном месте ждать того, кто отправится навстречу опасности.
Все подумали, что навстречу опасности непременно отправлюсь я. В глазах друзей я прочёл нетерпеливое ожидание моего подвига. Именно моего! Что ж, я сам их к этому приучил. И вдруг Наташа сказала:
— Ты не пойдёшь.
И хотя на этот раз я отправляться на подвиг не собирался, но в ответ на её слова грустно вздохнул и сказал:
— А почему бы мне не пойти?
— Потому что тебя он ненавидит больше, чем нас. И именно тебе собирается оторвать голову.
«Значит, она дорожит моей головой!» Эта мысль заставила меня устремить все свои силы на поиск решения.
Взор мой стал напряжённо блуждать по комнате и неожиданно остановился на Глебе. Он не пригнулся, не спрятал взгляда. В тот день я всё время читал что-нибудь в чужих глазах. На этот раз я прочёл: «Дай мне возможность помочь вам и искупить…»
Я отвёл Глеба в сторону:
— Понимаешь ли ты, что в это жуткое положение мы попали из-за тебя?
— Понимаю.
— Я ещё выясню, для чего, с какой целью ты это сделал!
— Я сам… Хоть сейчас…
— Нет, не теперь. Ни в коем случае не теперь! Пойми: решают секунды. Мы можем опоздать на последнюю электричку. И тогда… Одним словом: готов ты на подвиг?
— Я бы… Конечно… Если бы…
— Никаких «если бы»! Готов или нет?
— Готов.
— Тогда именно ты спустишься в подвал и освободишь оттуда Племянника. Только тебе одному из нас всех он не сделает ничего. Ведь вы же сообщники. Соучастники преступления!
— Да он меня… Ведь это же я его сначала… А потом с вами вместе… Он не простит!
— О, как ты наивен! Неужели ты думаешь, что я всего этого не предвидел? Излагаю свой план коротко, или, как говорят, конспективно. Разжёвывать нету времени. Для Племянника всё должно выглядеть так… Ты не с нами. Ты против нас! Запомнил? Сначала мы силой вытащили тебя из подвала, потому что ты, как верный сообщник Племянника, хотел там остаться. Запомнил? Потом ты всё время рвался выполнить свой долг соучастника преступления и освободить Племянника из подземелья. Чтобы ты так сильно не рвался, мы тебя связали верёвками. А сами убежали на станцию… Тогда ты нечеловеческими усилиями воли порвал верёвки, кинулся на помощь сообщнику и освободил его! Запомнил? Можешь не повторять: нету времени! Скажи: ты согласен?
— Согласен… Но если он вдруг…
— Риск — благородное дело. Это известно. А тебе сейчас как раз самое время совершить что-нибудь благородное. Ты согласен?
— Согласен…
Перед всеми остальными я раскрыл лишь часть этого плана: ведь они не знали, что Глеб был сообщником…
— Мой скромный замысел осуществит Глеб Бородаев! — сказал я. — Чтобы наш бедный узник не растерзал его, всё будет выглядеть так… Поскольку дедушка Глеба таскал Племянника на руках, Глеб будто бы сразу хотел освободить его из заточения. Но мы не давали. И даже связали бедного Глеба. Когда же мы убежали на станцию, он развязался и освободил того, кого дедушка таскал на руках. Племянник обнимет своего благородного освободителя! А мы будем ждать Глеба в лесу, возле того огромного пня, на котором сидел Покойник. Помните? Так… Теперь остаётся его связать!
— Кого? — испуганно прошептал Покойник.
— Глеба, конечно! Его внешний вид должен говорить об отчаянной борьбе, которую он вёл с нами. Синяки, царапины… У тебя нет синяков?
— К сожалению, нет… — виноватым голосом сказал Глеб.
— Поищи! Иногда мы незаметно ударяемся обо что-нибудь, а синяки остаются. Надо, чтобы Племянник увидел их!
Глеб оглядел свои руки.
— А на теле? Поищи как следует!
Девочки отвернулись.
— Нигде нету… Ни одного синяка… — грустно сообщил Глеб.
— И царапин нет?
— Ни одной…
— Очень жаль. Не царапать же нам тебя специально! — сказал я громко. И добавил тихо, на ухо Глебу: — Хотя ты это и заслужил.
— Как же теперь… Что делать? — спросил Глеб.
— Ну, хотя бы расстегни рубашку, оторви от неё несколько пуговиц… Но не выбрасывай их, а держи в кулаке: покажешь Племяннику. Это будет вещественным доказательством!
Глеб оторвал пуговицы прямо, как говорится, с мясом: очень уж он хотел добиться смягчающих вину обстоятельств!
— Теперь как следует растрепли волосы! Так… Хорошо. А теперь главное: мы перевяжем твоё туловище верёвкой. А руки оставим свободными, чтобы ты мог открыть ими английский замок. Или лучше так: привяжем тебя к стулу. И ты прямо со стулом на спине пойдёшь его выпускать. Выберем стул полегче. Вот этот, плетёный…
— Я и тяжёлый… Пожалуйста…
Глеб был готов на всё!
— Давайте верёвку, — скомандовал я.
Но никто мне её не дал. Верёвки не было…
— Может быть, без неё обойдёмся? — сказал Покойник, которому очень уж не терпелось поскорее удрать на станцию.
— Не обойдёмся! — ответил я. — Царапин нет, синяков нет!.. Ещё и верёвки не будет? Надо побольше доказательств борьбы, которую вёл с нами Глеб. Чтоб Племянник поверил. Мы не можем рисковать жизнью товарища! — И тихо шепнул Глебу на ухо: — Хотя твоей жизнью можно было бы и рискнуть.
Я всё время забывал о священном правиле: не закончив расследования, не предъявляй обвинения! Забывал и спохватывался. Спохватывался и опять забывал…
Но Глеб не обижался. Острое чувство вины терзало его.
— Там, на чердаке… — сказал он. — Сушат бельё… Значит, верёвки…
— На чердаке? — переспросил я.
— Наверху… Там темно. И вообще…
— Покажи дорогу!
— Я с вами! — сразу вызвался благородный Принц Датский.
— Нет, оставайся здесь, — сказал я. — Вдруг Племянник вырвется на свободу! Придётся защищать женщин. Хоть одного мужчину надо оставить!
— А я? — тихо спросил Покойник. — Разве я…
— Да, конечно! Ты давно хотел умереть. Вот, может быть, и представится случай…
Мы с Глебом отправились на чердак. Когда мы уже выходили из комнаты, нас догнал голос, который я не мог спутать ни с каким другим на всём белом свете:
— Осторожно!
Одно только слово… Но в нём было всё, о чём я мечтал: тревога, просьба скорее вернуться и нежное обещание ждать! Так провожают на подвиг. Что встретит нас там, на чердаке? Этого никто бы не мог сказать.
Сперва мы поднялись на второй этаж, где была комната, из которой обычно неслось: «Ах, вы живы? А мы вас — бац! — по загривку! Ах, вы ещё трепыхаетесь? А мы вас по шее — трах!» Из комнаты выполз па полоска света. Я заглянул… На столе, который был без скатерти и даже не был накрыт газетой, валялась колода карт. Горела лампочка без абажура. Дальше наверх вела лестница без перил.
— Сюда… — сказал Глеб.
Мы стали подниматься ещё выше по лестнице, которая ворчливо заскрипела, хотя она и не была описана в повести Гл. Бородаева. Над ней навис бревенчатый потолок без штукатурки. Да, всё здесь было какое-то голое, словно бы неодетое: стол без скатерти, лампочка без абажура, потолок без штукатурки, лестница без перил…
Мы шли вперёд без страха!
Я сначала нащупывал в темноте ступеньку, а потом уже делал шаг: одно неосторожное движение — и я бы полетел без всякой надежды ухватиться за перила, которых не было.
Наконец мы достигли цели!
Чердак был построен в форме гроба, накрытого крышкой. Мы были внутри этого гроба. На меня приятно пахнуло гнилью и сыростью.
Я снова был в родной детективной обстановке: темно, таинственно, сквозь треугольное окно ветер заносил свист и холодные капли…
Природа, стало быть, продолжала жить своей особой, но прекрасной жизнью: на улице, как прежде, шёл дождь.
Окно было без стёкол, а верёвки, протянутые через чердак, без белья. И тут тоже всё было голое, неодетое, словно кем-то ограбленное. Это мне нравилось!..
Казалось, из мрачных углов на нас вот-вот что-то набросится. Но этого, к сожалению, не случилось.
Протянув вперёд руки, мы пошли нетвёрдой походкой по нетвёрдому земляному полу в глубь чердака. Глеб шёл впереди. В темноте я наткнулся на что-то твёрдое и мысленно вздрогнул. А может быть, и не только мысленно. Глеб не заметил этого.
Он торопился отвязать одну из верёвок. Он очень старался: ему нужно было набрать побольше смягчающих обстоятельств.
Противоречивые чувства разрывали меня и чуть было не разорвали совсем. С одной стороны, я был благодарен Глебу за то, что он был свидетелем моего минутного падения, но не заметил его — то ли из-за темноты, то ли из-за того, что был занят верёвкой. Но, с другой стороны, я понимал: если бы не Глеб, мои нервы не расшатались бы и не дошли бы до такого ужасного состояния. «Зачем же он совершил то, что он совершил? С какой целью?» Это мне ещё было неясно.
Через несколько минут мы спустились в комнату Гл. Бородаева. Внук писателя нёс верёвку, которой мы должны были его связать.
— Волосы у тебя в порядке: растрёпаны! — сказал я, внимательно осмотрев Глеба. — Рубашка в порядке: без пуговиц!
— Может быть, и на пальто оторвать? Две или три?.. — предложил Глеб. Он готов был на всё!
— Нет, не надо. Ещё замёрзнешь! — Я читал, что к подследственным надо проявлять доброту, или, вернее сказать, чуткость.
— Теперь осталось только привязать тебя к стулу. К самому лёгкому, вон к тому…
Глеб покорно задрал руки, словно сдавался в плен. И мы привязали его к плетёному стулу.
Мы привязали Глеба к плетёному стулу.
Его спина и спинка стула были тесно прижаты друг к другу.
— Запомни: ты так отчаянно рвался на помощь Племяннику, что нам пришлось тебя привязать! Впопыхах мы не рассчитали, что стул лёгкий и ты можешь бегать по даче вместе с ним. Запомнил? И главное: мы давно удрали. То есть покинули дачу… И уехали в город. Чтобы Племянник не устроил погоню. Усвоил?
— Усвоил.
— Сколько времени потребуется тебе на эту операцию?
— Не знаю… Минут десять… Или пятнадцать…
— Сверим часы!
— У меня нет часов.
— Ну ладно. Ждём тебя возле того самого пня ровно четверть часа! Будем следить по Наташиным часикам. Наташа, сколько сейчас?
Она протянула мне руку. Я взял её руку в свою. И долго держал.
— Что, плохо видно? — спросила Наташа.
— Нет… просто я хочу дождаться, пока будет ровно двадцать часов двадцать минут. Хорошо запоминается: двадцать двадцать!
Она тоже взглянула на часики:
— Но ведь нужно ждать ещё целых четыре минуты.
— Ничего, я подожду.
Ровно в двадцать двадцать я воскликнул:
— Операция начинается! Ты, Глеб, ничего не забудешь? Племянник должен поверить: мы давно покинули дачу! И уехали в город… А на самом деле ждём возле пня!
— Не забуду…
Я приблизился к Глебу и шепнул:
— Ну, а если… Считай, что мы тебя простили. Однако я надеюсь, что мы ещё встретимся!
— Я тоже…
— Теперь все — на улицу! На цыпочках! Чтоб Племянник ничего не услышал, — скомандовал я.
Не только Миронова, но и все остальные охотно подчинились приказу, потому что Племянник изо всех сил барабанил по ржавому железу и казалось, что он вот-вот высадит дверь.
Глеб остался один, с растрёпанными волосами, со стулом на спине и в рубашке без пуговиц.
Мы на цыпочках покинули «старую дачу» и опять побежали.
Природа между тем продолжала жить своей особой, прекрасной жизнью, но уже в темноте. А что может быть печальнее опустевшего осеннего посёлка! Да ещё в вечернюю пору… Несколько раз я жил летом на даче. И вот когда к концу августа одна дача за другой пустели, становилось тоскливо и одиноко. Ну, а тут уж во всём посёлке не было ни огонька! И мы то и дело попадали в лужи, в ямы, в канавы.
Мы вновь стали огибать сосновый лес, который днём был красивым, молоденьким, а сейчас потемнел и насупился, будто за один день постарел. И все деревья казались мне издали притаившимися злоумышленниками…
Утром я бы этому, конечно, обрадовался. А тут даже дождь, и слякоть, и сырость не радовали меня. Мне неожиданно захотелось домой, в тёплую комнату… Но это было только минутной слабостью! Я ей не поддался. Я отбросил её. Вернее сказать, отшвырнул!
— Разве это не мой пень? — воскликнул Покойник. И снова уселся на самую середину: другим уже сесть было некуда. И так же, как утром, всё у него дышало: и нос, и живот, и плечи. Я это чувствовал в темноте.
— Уступи место женщинам! — сказал я.
— Разве мы в трамвае? Или в троллейбусе? — усмехнулась Наташа. — В лесу вежливость ни к чему.
Покойник вскочил. Но она не села. И даже Миронова продолжала стоять.
— А ещё лирик! — сказал я Покойнику. — Посвящаешь стихи красавицам! — И тихо добавил: — Несуществующим…
— Не надо трогать Покойника, — попросил добрый Принц. Он по-прежнему думал, что Покойник испытал уже счастье любви. А чужие чувства Принц уважал.
— Согласен: не будем ссориться в такую минуту! — сказал я. — Что там сейчас с нашим Глебом?
Я сказал «с нашим», потому что, представляя себе, какой опасности (может быть, даже смертельной) подвергал себя Глеб, я готов был забыть о его вине, о его преступлении. «А если Племянник ему не поверит? — думал я. — А если разъярённый выскочит из подвала и набросится на беззащитного Глеба? Или затолкает его в подвал и запрёт?»
Да, я готов был простить Глеба, потому что в тот момент он совершал подвиг во имя нас всех!..
— Конечно, можно было бы и не выпускать Племянника, — сказал я тихо.
— Можно ли так поступать с человеком? — ответила мне Наташа.
Под холодным дождём она думала о справедливости!
— Сколько сейчас времени? — спросил я у неё.
— В темноте не вижу, — сказала Наташа.
— Дай руку. Я разгляжу!
Она протянула руку, и я долго разглядывал.
Потом я ещё три или четыре раза просил её дать мне руку и снова долго разглядывал, потому что трудно было увидеть, рассмотреть стрелки. И вообще…
Наконец я стал волноваться! Пятнадцать минут прошли. А Глеба всё не было.
«Он пожертвовал собой и тем искупил вину, — думал я. — А я был с ним недостаточно чутким… Правда, я не проявлял грубости. Но всё-таки упрекал его. А он один на один, связанный и растрёпанный, со стулом на спине, встретился в подземелье с Племянником. Не каждый бы на это решился. Вот Покойник бы ни за что не пошёл! А я сам?»
На последний вопрос мне трудно было ответить. И я, чтоб не думать об этом, ещё раз взглянул на Наташины часики. Прошло уже двадцать минут.
Это было ужасно… «Во-первых, вероятно, погиб Глеб, — думал я. — А во-вторых, до электрички остаётся совсем мало времени. Уж если мы опоздаем на этот раз, нам не добраться до дому раньше завтрашнего утра. А как мы сообщим об этом родителям? Никак! По телефону теперь уж не позвонить: Племянник выпущен на свободу! Наши мамы и папы просто погибнут. Не в прямом смысле слова, а в переносном… Хотя некоторые, может быть, и в прямом. Особенно мамы! За пап я как-то меньше волнуюсь. А где ночевать? Не пойдём же мы в гости к Племяннику! Может быть, уехать без Глеба? Нет, невозможно. Помочь ему? Как?!»
— С Глебом что-то случилось, — с плохо скрываемым беспокойством сказал я.
— Это из-за меня, — сказала Наташа. — Я виновата. Только я!..
В лесу, в темноте, под холодным дождём она продолжала думать о справедливости!
— О, не казни себя! — воскликнул я шёпотом. Она с плохо скрываемым испугом отодвинулась от меня. — Ты не виновата, — уже спокойно, нормальным голосом сказал я. — Это же я запер Племянника в подземелье. Правда, у меня не было другого выхода. Значит, никто не виноват. Такова жизнь!
— Сэ ля ви! — воскликнул Покойник. Он любил встревать в чужой разговор.
Это самое «сэ ля ви» было известно каждому первокласснику, но Покойник произнёс так, будто знал французский язык. Вообще, убежав со «старой дачи», он осмелел.
— Ещё возможна погоня, — сказал я.
И Покойник сразу заговорил обыкновенно, по-русски:
— Какая?
— Племянник!.. Ну, а если Глеб не вернётся, нам придется освобождать его!
Покойник умолк.
«Что же делать? — рассуждал я. — Не пойти ли в разведку? Но тогда мы наверняка опоздаем на электричку. Так, так, так… Где же выход? Может быть, мне одному остаться, а всем другим мчаться на станцию?»
Я предложил это. И затаив дыхание ждал, что мне ответят: оставаться одному всё-таки не очень хотелось.
— Давай вдвоём, — предложил Принц Датский.
— Пусть женщины уедут! — воскликнул я. Посмотрел на Покойника и добавил: — И ты с ними.
Покойник не возражал. Но Наташа не согласилась:
— Ещё есть минуты. Несколько минут… Подождём. Одного я тебя не оставлю.
Меня! Одного! Хотя и Принц тоже хотел остаться… Она сказала про меня одного! Если б это было не в холодном лесу, а в какой-нибудь другой обстановке, я бы, наверно, умер от счастья. А так я остался жить.
Хотя в следующую минуту могло показаться, что все мы умерли. Все пятеро! Потому что мы затаили дыхание, прислушиваясь к тому, как чьи-то пятки шлёпали по лужам и грязи. Они шлёпали очень звонко…
И вот появился Глеб. Вернее сказать, возник!
— Что у тебя в руках? — спросил я.
— Ботинки… Чтобы не падать… Скорее! Скорее… Погоня!
— Где?!
Мы помчались!..
Но, даже задыхаясь от бега, я всё-таки умудрился спросить Глеба:
— Он?
— Да… Очень был благодарен…
— Благодарен?
— Ну да… Очень хотел… Меня до станции… А их, говорит, убью! Ну, я и… Пока он за плащом…
Глеб, как всегда, не дотягивал фразы. Но тут уж трудно было его не понять: сколько он пережил!
«А всё-таки, если б не он, вообще бы ничего не случилось! — опять пришла мне на бегу упрямая мысль. — Значит, всё равно будет дорасследование. Надо довести до конца!..»
Глеб теперь был с нами, я уже за него не волновался, и желание забыть всё и простить куда-то сразу исчезло.
Так иногда бывало дома со мной… Если мама начинала меня ругать, я убегал и долго слонялся по улицам. Или сидел где-нибудь у товарища. А когда возвращался, мама вновь за меня принималась. И тогда Костя по секрету мне сообщал: «Пока тебя не было, она волновалась, и называла тебя ласковыми словами, и готова была простить… А вот появился, успокоилась — и опять за своё. О женщины! Кто их поймёт?» Я не был женщиной. Но с Глебом у меня получалось так же, как у мамы со мной. Сэ ля ви!
На этом мои рассуждения прекратились. Прервались… Потому что сзади мы услышали топот ног. Тяжёлый, увесистый…
— Это Григорий… — с ужасом, задыхаясь то ли от бега, то ли от страха, прошептал Глеб. — Он вас… И тебя первого! Он обещал…
Я тоже не сомневался, что Племянник выполнит своё обещание. И убьёт меня! Или, в крайнем случае, оторвёт голову…
— Надо уйти от погони! Успеть! — скомандовал я шёпотом, чтобы Племянник не услышал моего голоса.
Покойник бежал впереди: он боялся больше нас всех! Но и меня покидало мужество.
— Быстрее! Быстрее! — крикнул я во весь голос. Шептать было уже не нужно: Племянник наверняка видел нас. Его горячее дыхание было у нас за спиной.
Я обернулся. Ну да, это он! Племянник!.. Огромная, тёмная фигура с каждой секундой приближалась, нагоняла нас…
«Всё погибло! Мы не справимся с ним, — промелькнуло в моём сознании. — Но если даже возникнет борьба и мы неожиданно возьмём верх, победим его, электричка всё равно за это время уйдёт… Да мы и не победим! Женщины и Покойник не в счёт. Остаёмся мы трое — Принц, Глеб и я. Но как ещё поведёт себя Глеб? Неизвестно. Ведь это он всё придумал! Он!.. Всё случилось из-за него. Значит, может быть, в борьбу вступим мы с Принцем вдвоём… Наташа, конечно, бросится мне на помощь. Но я этого не допущу. „Спасайся! Беги!“ — крикну я. И прегражу Племяннику путь своим телом!»
Все эти мысли пронеслись в моей голове за какое-нибудь мгновение. Топот погони был уже рядом… Совсем рядом! И жаркое, обжигающее мне спину дыхание Племянника… Вот сейчас! Сейчас всё погибнет! Все мои усилия и находки окажутся ни к чему. Ещё один его шаг… Только один! Ужасный, тяжёлый… И он поравняется с нами! Уже поравнялся. Уже!..
— Опаздываем, ребята? — раздался рядом взволнованный мужской голос.
Я повернул голову и увидел (уже не сзади, а сбоку!) высокого мужчину в плаще и с портфелем.
— Опаздываем на электричку? — переспросил он.
— Разве? — ответил я, готовый обнять и расцеловать его.
— Увидел, что вы бежите, и тоже помчался. Хотя и нельзя: сердце выскакивает…
«Наверно, больное! Как у Наташиной мамы…» — подумал я. Я любил этого незнакомого человека в плаще. Я обожал его!
Глава 12,
самая короткая и самая последняя (в этой повести)
С одной стороны к платформе неумолимо приближалась электричка. А с другой — приближались мы.
«Если бы мы успели, тогда бы все наши родители остались живы в прямом и переносном смысле этого слова! Тогда все мои догадки, находки, сомнения и мучения оказались бы не напрасными!» С этой мыслью я взбежал на платформу.
Судьбе было угодно, чтобы как раз в этот момент и электричка тоже поравнялась с нею.
— Садитесь! — крикнул Глеб. — А я билеты…
— Не надо! — ответил я.
«Лучше пусть нас всех оштрафуют, но зато родители будут живы-здоровы!» Я успел так подумать, но не успел объяснить это Глебу, потому что он уже ринулся к кассе. Он хотел совершить ещё один подвиг: ему нужны были смягчающие вину обстоятельства!
Машинист высунулся из окна и глядел вдоль состава. Никто не вышел, и никто, кроме нас, не собирался садиться. Мужчина в плаще, оказывается, ждал электричку из города и вообще зря торопился.
Проводница последнего вагона помахала зелёной лампочкой: можно было трогаться! С её точки зрения…
Что было делать? Вскочить в вагон и уехать без Глеба? Покойник вскочил. А все остальные не знали, как поступить. Покойник высовывался и печально глядел на нас всех:
— Разве не ясно? Она сейчас тронется…
А Глеб всё ещё стоял, пригнувшись, возле окошка кассы.
Двери вздохнули, словно сочувствуя нам, и медленно стали закрываться. Голова Покойника всё ещё торчала, и казалось, двери вот-вот зажмут её с двух сторон. В какую-то миллионную долю секунды идея озарила меня.
— Осторожно, ребёнок! — заорал я. Я знал, что эти слова: «Осторожно, ребёнок!» — всегда очень сильно действуют.
Двери, не успев прихлопнуть Покойника, медленно поехали обратно.
— Где ребёнок?! — крикнул злой, испуганный машинист.
— Во-он! — неопределённо ответил я, зная, что время неумолимо работает на нас.
— Да где же?
— Во-он! — Я указал на печальную морду Покойника, который всё ещё высовывался из тамбура.
— Я думал: он под колёсами…
— Большое спасибо! — ответил я машинисту, потому что необходимая нам минута была окончательно выиграна: Глеб бежал от кассы с билетами.
Мы ворвались в вагон!
Двери облегчённо вздохнули, словно были рады за нас, поехали навстречу друг другу, захлопнулись… И мы наконец-то отправились в город, домой!
Мы успели на последнюю электричку! Наши родители были спасены. Чувство законной гордости переполняло меня.
— Вот… билеты! Купил… — сказал Глеб, садясь рядом со мной.
— Не думаешь ли ты так дёшево откупиться? — шепнул я ему. И сразу же пожалел о своей необдуманной фразе: ведь расследование ещё не было закончено. Значит: никакой грубости! Я всё должен раскрыть до конца. Только вежливо, без насилия!
Вагон был пустой… Я пошёл в самый конец, сел на лавку и позвал:
— Глеб, если хочешь, подойди, пожалуйста. Если хочешь…
Он подошёл и снова сел рядом.
— Нет, сядь напротив: я должен видеть твоё лицо. Займёмся мотивами…
— Какими? — спросил он, вздрогнув. И пересел.
— Мотивами преступления.
— Ты потом всё Наташе…
— Ни за что! Никому! Можешь быть абсолютно спокоен. И откровенен, как с родным человеком!
— Нет, пусть она обязательно… Я не хотел, чтоб её мама… Я по другой причине…
Глеб неожиданно громко, прямо на весь вагон крикнул:
— Наташа!..
Она подошла и села возле него.
— Я думал всё выяснить тайно, но Глеб хочет, чтоб и ты слышала, знала…
— Что слышала?
Я уже не злился на Глеба: он дал мне возможность рассказать Наташе обо всём, что я выяснил там, в подвале, обо всех своих догадках, находках, открытиях. И я рассказал… Ведь он сам попросил об этом!
— Пойдём дальше, — сказал я. — Итак, мы установили, что Нинель не звонила. И ехать сюда нам одним не разрешала. А кто же звонил? Не торопись. Хорошенько подумай!
— Моя двоюродная сестра, — признался Глеб.
— Так, так, так… Вот, значит, зачем ты из всех болезней выбрал для Нинель именно ангину: болит горло, голос хриплый — и не похож. Понятно, понятно… Зачем же тебе нужно было, чтоб мы поехали без неё? И чтоб все думали, что Нинель разрешила? Не торопись. Правду, одну только правду! Ничего, кроме правды!..
— Мне мама рассказала про собрание… Там некоторые родители… За то, что Нинель нам самостоятельность… Ну, разрешала одним ездить на стадион и вообще… Говорили, что если она ещё…
— Стоп! — крикнул я, потому что испугался, как бы Глеб всё до конца не раскрыл, не рассказал сам. А между тем догадка озарила меня так ярко, как никогда ещё раньше не озаряла! И я мог продолжить его рассказ, окончательно доказав, что прозвище своё ношу недаром, не просто так. — Следите за мной! — торжественно сказал я. — Следствию всё абсолютно ясно. Конечно, я должен во всём сомневаться. Но я не сомневаюсь, что было так… Именно так! И никак иначе! Ты, Глеб, решил: если Нинель ещё раз предоставит нам самостоятельность (да ещё какую: разрешит одним ехать за город!), родители добьются, чтобы она ушла из нашего класса. Тем более, что она молода и прелестна, нету опыта и так далее. Пойдём дальше! Все мы слышали, что она звонила. Хоть звонила твоя сестра… А если бы Нинель и доказала, что не звонила, ей всё равно сказали бы: «Вы приучали их к самостоятельности — и вот результат!» Знаем мы наших родителей! В общем, твоей целью было: всех их разволновать! Так, так, так… Состав преступления налицо! Ты хотел, чтоб мы не успели на электричку и попросил Племянника запереть нас в подвале. А следующая электричка — вот эта. Мы возвращаемся чуть ли не ночью… Родители в панике! Нинель уходит. А к тебе, наоборот, всё снова приходит: кружок имени дедушки, уголок имени дедушки… Ты снова выступаешь с воспоминаниями о своём дедушке, опять становишься почётным членом кружка! И вообще самым почётным в классе… И даже во всей нашей школе!
Глеб молчал. Расследование было закончено. И тут уж я позволил себе сказать:
— Это подлость.
Наташа покачала головой.
— Он не так уж и виноват.
— Он?!
— Конечно… Глеб был раньше совсем другим. А потом не смог отказаться от того, к чему мы его приучили. Мы сами! Он любил собак. Но мы заставили его о них позабыть…
— О, как ты добра! — крикнул я.
В пустом вагоне мой голос усилился, все обернулись. Миронова подняла руку. Но я ей слова не дал.
— Очень страшная история… — тихо, чтоб никто, кроме нас троих, не услышал, сказала Наташа.
— Ещё бы: столько часов просидели в подвале!
— Это не так уж страшно.
— Не так уж? А что же страшно?
— Когда начинают ни за что ни про что восхвалять человека!
— А как быть с Нинель Фёдоровной? — спросил я. — Вдруг некоторые родители всё же поднимут шум: «Предоставила самостоятельность — и вот результат. Приехали ночью!» Мама Покойника, например…
— Возьмём мам и пап на себя, — сказала Наташа. — Объясним, растолкуем! Дети должны отвечать за родителей.
Это была прекрасная мысль. И всё-таки я сказал, кивнув на Глеба:
— Расследование закончено. Обвинительное заключение есть. По всем законам должен быть суд.
Волнение душило Глеба и чуть было не задушило совсем. Румянец покрыл его лицо, но он уже был не ровный, не бархатный, а нервный, пятнистый. Плечи его судорожно вздрагивали.
Предчувствие подсказывало мне, что он вот-вот разревётся, или, вернее сказать, разрыдается.
— Слезами горю не поможешь, — сказал я. — Так учит народная мудрость!
— Глеб помог нам не слезами, — сказала Наташа. — Он один спустился в подвал к Племяннику, который мог бы… Неужели ты забыл, Алик? Ведь ты же сам это придумал! Как и всё остальное…
Наташа посмотрела на меня таким взглядом, о котором я не мог и мечтать! В нём была благодарность. И даже… Но, может быть, это мне показалось.
— Всё в твоей власти! — воскликнул я. — Ты хочешь его простить?
— Нет… Я не знаю. Но скажу тебе вот что… Если слабый и глупый человек жесток, это противно. Но если умный и смелый жесток — это страшно. Такой человек обязан быть добрым. Обязан!..
Умный и смелый! Чтоб услышать от неё эти слова, я был бы готов просидеть в подвале трое суток. Или даже целую учебную четверть!
Послесловие
Судьбе было угодно, чтоб на этом кончилась моя первая детективная повесть. Но предчувствие подсказывает мне, что не последняя!..





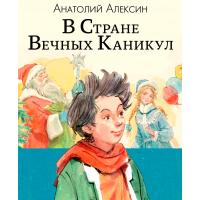
Комментарии