Стряпухина радость
Виктор Астафьев
Блины, к ребячьей и мужицкой радости, пеклись на селе часто, в субботу или в воскресенье уж непременно. Особым разнообразием: гречневые там, овсяные, крупчаточные, какие пеклись издревле на Руси, — у нас они не отличались. Заводили блины из той же, что и на хлебы, молотой муки, просеяв ее на два раза, а если время гнало, черпали густую смесь из квашни, заведенной на общую домашнюю стряпню, и разводили “кислые” блины, стало быть, блины из квашеного теста.
Блин, он что и пельмень, в изготовлении спор, в еде ходок. Чалдоны говорят, коли последний блин или пельмень в рот вкладываешь, а на первом сидишь, значит, все, насытился человек. Однако ж, бывало, объедались, чаще всего пельменями, варенными в костном бульоне. Горячими блинами тоже объедались. Если пробегаешься, поработаешь, они как-то сами собой катятся и катятся на мягкое дно, мимоходно согревая нутро и радуя душу. Только дышать становится труднее, горячие и масляные пары скапливаются в тебе и “нутренность спирают”, требуют выходу. Когда первый блин поспеет, макнешь его, не макнешь в масло, порой даже в трубочку его свернуть не успеешь и мятым лопушком пихаешь в рот. Там он уж сам собой ищет ходу и проваливается в какую-то радостно притихшую пустоту.
Но вот движения твои замедляются, глаза и нос не так востро ловят шум блина на сковороде, отмечая его зажаристость и духовитость. Праздничным платочком-уголочком складываешь блин и макаешь почти до пальцев в чашку с маслом, да еще и повалять его, а то и поплюхать в масле-то норовишь — так просто, насухую он уже не идет, застревает в верхней части туловища. “Э‑э, парень! — скажет бабушка. — Кажись, сверху глаз пошло!” — и, пощупав мое округлившееся брюхо, иногда и пошлепав по нему, как по сдобному караваю, отправляет досыпать, если это случалось в заговенье иль после поста, на праздники. Сам едок от тяжести шевелиться иль следовать в постель не мог, норовил здесь же, на месте истребляемых блинов, положить голову на стол. Тогда просмешницы-тетки говорили: “Во, ухряпался работник!” — и отводили меня на печь, но чаще в горницу, потому что от блинов всюду, особенно под потолком, плавал удушливый чад. Дедушка, тот и не вел, а нес меня, зажав, как котенка, под мышкой, и не ронял, не кидал в постель, как тетки, он осторожно опускал в нежно холодящую подушку, в притихшую, ласковую тишину, да еще украдкой погладить масляной рукой по голове ухитрялся.
Но, постойте! Это я от сладостных, чревоугодных воспомина- ний забежал вперед, сразу к столу, к блинам. Так дело не делается. Надо ж основательно, все по порядку, как и положено в крестьянском житье и в хозяйственном деле.
Что главное в блине? Тесто? Закваска? Масло? Соль? Стряпуха? Нет, дорогие товарищи, не угадали! Главное в блине — ско-во-ро-да! Ну и сковородник не последний инструмент.
В больших сибирских семьях сковород водилось несколько. Первая и главная сковородища, банному тазу округлостью не уступающая, с толстым бортом и с толстым же, основательным дном. Разогревается эта посудина уж надолго, стойко удерживая накал и температуру пищи. Такой сковородой можно убить, но самое ее истребить нельзя, разве что пустить под чугунную бабу, истолочь в куски, в крошево, употребить на заряды вместо пуль и картечи, что и делалось в гражданскую войну партизанами, да во время разорения крестьян в период коллективизации, когда мужики или парнишки, отбившись от дома, бедовали в тайге, кормились “с ружья”.
Далее — одна или две сковороды ходовых, не на всю семью, лишь на работников рассчитанные, на заимку посылаемые. В них, в этих походных сковородах, упрятаны, в запечье сложены сковородки детские, почти игрушечные. Да они игрушечные и есть. В них или на них, как на испытательном стенде в век энтээра, девчонки пробуют постичь искусство стряпухи, испытывают себя, готовятся в настоящее дело, переходя от глиняных постряпушек в стеклянных черепушках, творимых на задах двора, к настоящей печи, к вечному огню, к всамделишному тесту. В этакой сковородке, если и случалась проруха, сожжены будут или испорчены оладьи, блины — мало теста изводится, кроме того, брак полагалось самой же стряпухе подъедать, значит, не очень пострадает ее живот, недолго ему ныть и болеть от некачественной продукции.
Среди этого грубого, на виду хранимого, чугунного литья у настоящей, уважающей себя хозяйки есть сковорода заветная, именная, по родству из поколения в поколение передаваемая, иногда уже с выломанным, и не в одном месте, бортом, но все же не выброшенная на свалку, не пренебреженная, суеверно хранимая — “Пока бабушкина да мамина сковорода в доме — и блин в печи не переведется!”
Тоненькая, изнутри всегда от масла блестящая, празднично сверкающая, цвета воронова крыла, она еще и многозвучна, музыкальна была, и сковородник для нее изготавливался отдельный, на тонком черенке, не для ведерной, семейной сковороды, а для того, чтоб, выпрыгнув, кого-то схватить и унести да скушать.
Где, как хоронила и спасала от ребятни свою “заветную” хозяйка ‑спросить уже не у кого, примерли они, хозяйки-то наши, или доживают свой век в городах, на казенном грубом хлебе, черствеющем за полдня.
Ее, “заветную”, знал весь дом по звуку, и, бывало, играешь в горнице иль спишь на печи, даже сквозь всякий содом и непробудный сон, заслышав и отличив звон, приостановишься в игре иль перебивку в ровном сне сделаешь, как бы вынырнешь из-под него поплавком наверх: “Во, бабушка блины будет печь!” — да и проглотишь враз возникшую слюну. Играешь уж как-то с перебоями, а спишь в полсна и слышишь, вот оно внизу-то припекло, жаром повеяло — протопилась русская печь, нагорели крупные угли из сухих березовых дров, непременно березовых, непременно сухих — хороший от них, ровный жар и угару мало…
Бабушка нагребла горстку углей ближе к шестку, разровняла их, пробно пока, чтоб “струмент” накалился, но не лопнул при этом, трещиной не повредился, в дело без помех вошел, держит сковороду некоторое время на угольях и ждет, помешивая в бывшей у нас посудине, какую нынче не встретишь и как ее называют — все позабыли — горшок не горшок, что-то наподобие его, только без затей он, горшок-то, без пузатостей, с ровным, устойчивым дном и готовно широко открытым жерлом.
“Ну, Господи, баслови!” — тихо роняет бабушка и вынимает из печи сковородником черную, пока еще беззвучную, неодушевлен- ную сковороду и так вот, держа ее на весу, мажет изнутри рябеньким крылышком, макая его в масло. Сунув крылышко обратно в посудину с маслом, чуть наклонив левой рукой сковороду, льет на нее жидкое тесто — и сразу громкое “ш‑ш-шах!” слышится в кути. Бабушка — дирижер, фокусник, мастер — сковородником так и этак поворачивает сковороду, расстилая по ней тонкий блин до самых краев, но не выше, не ближе, не дальше их — “ш‑ш-ш-ша‑а”, — умиротворенно откликается сковорода, дескать, все, полный порядок. На минуту-другую, как курица на гнезде, приникает сковорода чутким дном к угольям, “насиживает” блин. Бабушка стоит, опершись на сковородник, возле чела печи и смотрит, как он вспухает пузырями и пузырьками, блин-то, дышит парами, шевелится сам в себе, набирается жаркого угольного свету, становясь и сам с исподу жарким, золотистым, словно золотой рубль, по краям еще не оббитый и не отшлифованный.
Уловив какой-то, ей лишь ведомый момент, бабушка выхватывает сковороду и, мотнув сковородником, подбрасывает кругляшок блина будто фокусник монету — и он ложится на сковороду обратной стороной, и снова, совсем уж на короткое время, обратно блину в печь надо, на зажарку и подсушку с обратной стороны. Было это уж архитектурным излишеством, форсом бабушкиным, который она позволяла себе, когда была поудалей и моложе да когда едоков в доме поубавлялось. Прежде-то ей некогда было фокусы показывать и баб-соседок поражать этакой вот ловкостью и разудалостью. “Ой, тетка Катерина!” — ахнут соседки. “Да уж!..— важничает бабушка. — Жито, девки, стряпано, пито и пето… Теперь уж чЕ? Рука ломата, поясница надсажена, а тут ведь, коло печи, вся ты, как талинка, изгинаться должна… А нонеча подбросишь блин, он мимо сковороды шлеп на пол. Самоскоком питаюсь, совсем уж скус блина со сковороды забыла, давай ножиком блин переворачивать, нужда заставит свежие блины исти…”
Но, внимание! Первый блин, он как первый лист в тетрадке — начнешь его без помарки, на поля не залезать, ошибок не натворишь — пятерка тебе за труд, за аккуратность и прилежание.
Слышно его, слышно! Утих он и тем слышнее сделался. Нюхом уже слышен, не ухом. Первый блин, если он не комом, — мой блин. Я самый малый в доме, и, хоть варнак, баловать и радовать больше некого. Чаще-то всего сам я и являлся на запах первого блина, выглядывал из-за косяка передней, и бабушка вроде бы и не видела меня. Чтоб не быть забытым, я высовывался дальше, но “под руку” не лез — не дай Бог, блин клином пойдет, тогда получится, что я помешал, сбою в работе способствовал, вредил, а не помогал.
Однако памятнее всего, когда заспишься или разнежишься на печи, полуспишь, полудремлешь и вдруг услышишь прикосновение бабушки: “Батюшко! На-ко первенький, самый сладенький”, — и в руках, в ладонях у тебя уютно усядется мягкой птичкой блин, легкий, воздушный. Осторожно его хватишь губами с хвоста, с крылышек нежных, помня, что там, внутри блина, таится горячая, яростная плоть, которая, если пустишь комком в нутро, по тебе что пуля иль пушечное раскаленное ядро прокатится, означив все кишки и закоулки. Остановившись в отдалении, на самом низу блин будет жечь тебя так, что запляшешь и завоешь. И поделом — не жадничай, не хватай, ешь и живи по заведенному в доме степенному порядку.
Но как его, первый блин, ни растягивай, ни паси, все равно исчезнет он незаметно, и тут уж искушение чрева, кухонный зов, набат сковороды снимут тебя с постели, спустят с печи. Не умываясь, зажимая позывы на улицу, сунешься к кухонному столу, а там, на “малированной” тарелке уж три блина тебя ждут. “Ух ты!” — обрадуется, запрыгает, заурчит внутри щенком что-то и кто-то, потому что самому и обрадоваться нет времени. Раз! Раз! РазКуда-то они девались, блины-то, ведь вот же ж только что были!
“Вот дак рабо-о-отник! Вот дак ударник труда! — воркует бабушка, сбрасывая со сковороды четвертый блин. — Да не хватай! Не хватай! Никуда оне от тебя не денутся!..” Но есть сила превыше человека, позднее я узнаю ‑называется она страстью. Совладать с нею далеко не всегда удавалось даже генералам и царям.
Как и когда наступает пресыщение, происходит заторможение действий, накатывает сытая, сонная усталость — уловить и понять невозможно. Теребишь блин, обхватываешь по краям губами узкое зажаристое кружевце, ничего уж никуда не летит, не проваливается, жаркая масляная отпышка, как дым после выстрела, кидает из тебя обратно жор, а все расстаться с блином не хватает духу и сил. Ешь ты его уже одними глазами, ешь и осоловело клюешь носом, на двор поманивает, но совсем сморило, шевелиться не хочется.
“Де-э-эвки! Де-э-эвки! Де-эдушко! Вы поглядите, поглядите на него! Скосопузился, вот-вот со скамьи скатится, но все же за блин держится! Упо-орнай старатель!” — бабушка потная, разгоревшаяся, довольная тем, что отстоловала главного работника, опершись на сковородник, отдыхивается после первого запала. На шестке печи вверх дном отдыхивается сковорода. Перекалилась посудина, начинает жечь блин, напоминает о пределе своем звонким потрескиванием, хлесткими щелчками — ей, сковороде, тоже передых требуется, может она от напряжения лопнуть.
Днем на большой семейной сковороде платочком свернутые, веером выложенные, запеченные в масле, подаются на стол блины. Они тоже очень аппетитные и вкусные, но не могут сравниться с теми блинами, что с пылу, с жару, огнем пышущие, живые. Ребячье счастье, стряпухина радость — праздник в доме, в душе и в брюхе торжество.
Ныне заветные сковороды в домах извелись. Вместо них продаются стандартные серые, словно бы из свинца литые изделия, да и стряпухи обленились, радости сотворения хлебов, сушек, блинов не знают и знать не хотят.
Говорят, как и многие редкостные товары, чугуны и сковороды в Сибирь через Китай попадали. Фарфор, эмалированная, хрустальная, керамическая, стеклянная посуда — тоже через Китай. И чего еще попадало через Китай, никто теперь уж не знает. А интересно бы узнать, как в бабушкин сундук железная шкатулка попала и как сами китайцы в Красноярске очутились и пережили все смутные времена.
С появлением флота на Енисее начался “якорно-машинный промысел”. Изношенные чугунные корпуса и детали переплав- лялись на домашнюю утварь. Воровали даже якоря. Больших хитростей достигли злоумышленники в уводе корабельных принадлежностей: обрезали и топили якоря в реке, заметив ориентиры, лапы у якорей ночной порой отпиливали и обламывали, а то и вовсе подменяли.
Нанялись будто бы однажды на енисейскую баржу матросами два вятских мужика. Как и все вятские мужики, были они мастера на все руки и, как всякие мастера, были они сильные выпивохи. Однажды вятские матросы пропили с баржи чугунные якоря, носовые два, потом и кормовой на опохмелку ушел. Но большие ж они хитрованы, вятские-то, взяли да вместо чугунных деревянные якоря изладили, сажей их промазали и подвесили на место. Вот потащило баржу в шторм на камни, шкипер кричит: “Отда-а-ать, пр-р-равай!” Отдали. Не держит. “Отдаа-ать левай, носовой!” Отдали. Не держит. “Отдать коррмовой! Страховашнай!” Отдали. Не держит. “Как это не держит? Отчего не дЕ-оржит?” — орет в железный рупор шкипер. “Отчего, отчего? — озлились вятские матросы. — Разуй глаза — якоря-те всплыли!..”
Говорят, долго лечился в больницах бедный шкипер и на воду, на ответственную работу по причине поврежденности ума больше вернуться не смог.
Может, и бабушкина “заветная” сковорода из тех якорей отлита была? Кто дознается?
Но уж блины пекла, по субботам, бывало, да и в будни…
Все, все! Дальше не буду! У самого вон полон рот слюны и в брюхе, да и выше брюха что-то заскулило, хоть в деревню собирайся, — там одна моя родственница еще стряпает деревенские, “живые” блины. Ка-ак пойдет на древней, тонкозвучной сковороде кудесничать! МузыкаГоловокруженье! Все еще вороновым крылом отливает сковорода, ни единой щелки на ней, ни единой выкрошенки, а лет ей двести, не меньше. Гору блинов она сотворила, версты славных и светлых воспоминаний людям подарила.
Кому-то достанется та музыкальная сковорода, кого-то порадует блинами? Скорей всего учащихся школы. Поможет выполнить им план по сбору железного утиля. “Век иной, иные песни!..”, и заделья иные, и радости новые. Печали вот только старые-престарые и воспоминания все те же и все о том же.

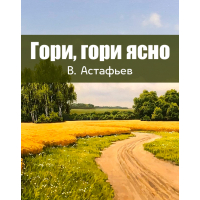

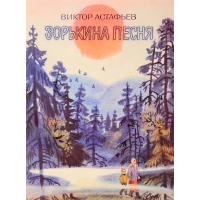

Комментарии