Рассказ Встреча
Валентин Катаев
Однажды летом 1913 года произошло событие, оказавшее влияние на всю мою дальнейшую жизнь. В копеечной газете «Маленькие одесские новости» появилась заметка, приглашавшая всех молодых поэтов пожаловать к шести часам вечера в помещение местного литературно-артистического клуба. Этот клуб попросту назывался «Литературка».
Меня охватило сильнейшее волнение. Я не знал, как мне быть: идти или не идти?
Я писал и даже иногда печатал в местных газетах стихи. Это так. Но каждый ли пишущий и печатающий стихи имеет право называться поэтом?
Мне едва минуло шестнадцать лет. Но что такое шестнадцать лет: детство, отрочество, юность? Имею ли я право называться «молодым»? Может быть, я еще не дорос до этого, а может быть, уже перерос? Неизвестно. И разве есть у нас в городе такое количество молодых поэтов, что их нужно сзывать через газету?
Затем – это загадочное и в высшей степени официальное «пожаловать»?! Рядом с «пожаловать» наименование «молодой поэт» звучало как-то вроде «губернский секретарь» или «помощник присяжного поверенного».
Наконец, с какой целью «пожаловать»?
Но самое главное – учащимся средних учебных заведений было строжайше запрещено посещать какие бы то ни было клубы, в особенности такие «красные», как наша «Литературка». В ней, правда, политикой занимались мало, а главным образом играли по ночам в карты и пили удельное вино сотрудники местных прогрессивных изданий и врачи с хорошей практикой, но почему-то «Литературка» имела у одесских мещан репутацию рассадника крамолы, а в глазах черносотенного гимназического начальства представлялась по меньшей мере якобинским клубом [политический клуб в период Великой французской революции (1789–1794); вольнодумное революционное общество.].
Гимназист шестого класса казенной гимназии тайком подымается по лестнице якобинского клуба!
Попечитель учебного округа, горбатый карлик с золотыми очками на рачьих глазах, действительный статский советник Смольянинов мог сойти с ума от одной этой мысли.
Все же я решился.
Я снял форменный пояс – потрескавшийся ремень с зазубренной в боях мельхиоровой бляхой; я выломал из веточек латунного герба «О. 5 Г.» заглавные буквы своей альма-матер [старинное студенческое название университета.], одесской пятой гимназии; я скрутил в толстую трубу общую тетрадь в зернистом переплете, на котором были выскоблены перочинным ножичком якорь и сердце, пронзенные стрелой.
В эту тетрадь были аккуратно вклеены синдетиконом [универсальный клей.] немногочисленные вырезки бесплатно напечатанных стихотворений и отроческим почерком переписана только что законченная «Зимняя поэма», где размером некрасовского «Рыцаря на час» я почему-то пространно живописал охоту на зайцев, о которой не имел ни малейшего представления и с трудом бы отличил зайца от кролика. Подробности же охоты я заимствовал из хвастливых рассказов некоторых своих гимназических товарищей, грубых сыновей степных новороссийских помещиков.
Я жил на окраине.
Для того чтобы попасть в «Литературку», мне пришлось пересечь город, измученный и оглушенный послеобеденным зноем.
Это было последнее довоенное лето, последний зной отрочества, последние краски Одессы – города Дерибаса, Ланжерона, Ришелье [Здесь перечислены первые градоначальники Одессы].
Над витринами магазинов были опущены полосатые парусиновые тенты. За пыльными стеклами витрин выгорали выставленные напоказ кожаные портмоне, зефировые рубашки, подтяжки, бумажные манжеты – вся та скучная галантерейная заваль, покупатели которой сидели на фонтанах и лиманах [Имеются в виду предместья г. Одессы – Малый, Средний и Большой Фонтан, расположенные вдоль морского побережья. Лиман – залив при впадении реки в море.] по горло в теплом бульоне июльского моря.
В порту визжали тормоза товарных вагонов, сонно стукались тарелки буферов, тоненько посвистывали паровички-«кукушки», лебедки издавали звук – тирли-тирли-тирли…
В гавани стояли иностранные пароходы. Бронзовый дюк де Ришелье с бомбой в цоколе простирал античную руку к голубому морю, покрытому светлыми дорожками штиля.
Фруктовые лавки бульвара ломились под тяжестью бананов, ананасов, кокосов. В маленьких бочонках, покрытых брусками сияющего искусственного льда, плотно лежали серые бородавчатые раковины остендских [большой курортный город в Бельгии, на побережье Северного моря, знаменитый своими устрицами.] устриц.
Дышали зноем фисташковые пятнистые стволы платанов «Пале-Рояля» [известный сквер в центре Одессы.]. Ни души не было под аркадой знаменитого городского театра, окруженного чугунно-синими скульптурами гениев и муз.
В этот невыносимо знойный вечер я прощался со своим отрочеством. В этот вечер, еще не зная этого, я выбрал себе дорогу и уже шел по улицам как иностранец, удивляясь достопримечательностям и красотам неповторимого города, переставшего быть для меня родным.
Этот вечер остался в моей памяти как цветная открытка за стеклами стереоскопа, как раскрашенный вид, где голубое безоблачно-глянцевое небо переходит к горизонту в желто-розовые литографические зерна зари, где на углу неподвижно сидит на козлах понурый русский извозчик в слишком синем кафтане и в слишком блестящей клеенчатой шляпе, где спицы дрожек цвета ярчайшей киновари [красная краска, получаемая из сернистой ртути.], где чугунно синеет раковинообразный купол городского театра и сверхъестественно зелен газон перед этим театром, великолепный, роскошно выстриженный газон, чудо садоводства, с винно-красными бегониями и прочими декоративными растениями, выложенными в виде герба города и царских вензелей, с купами махровых цветов, расставленных посредине, как бархатная мебель мещанской гостиной, обшитая свекольно-алыми шерстяными и шелковыми кистями, помпонами, бахромой, – и все это в виду лакового моря с яхтой и чайкой и пузырем воздушного шара над горизонтом.
Я поднялся по лестнице, покрытой красной дорожкой. Швейцар в тужурке с галунами посмотрел на мою фуражку с выломленным гербом, на общую тетрадь в руках и пропустил меня.
Я пошел в большую комнату с задернутыми шторами. С улицы доносились знойные звонки трамваев (трамвай еще был для Одессы новинкой: он начал ходить с одиннадцатого года).
Сквозь шерстяные, как бы тлеющие шторы проникал смуглый свет раскаленных угольев.
В клубной приемной напряженно сидели на мягкой мебели очень молодые люди. Их было человек тридцать. Привыкнув к сумраку, я мог рассмотреть их подробно. Это были юноши школьного возраста, подобно мне, неуклюже скрывающие, что они гимназисты и реалисты. Форменные пуговицы их курточек были обернуты материей, пояса сняты, из фуражек, которые они мяли в крупных руках подростков, выломаны гербы. Впрочем, были и студенты, но совсем молоденькие, первокурсники, хотя уже в белых студенческих кителях, но еще в черных гимназических брюках.
Никто друг с другом не разговаривал. Посматривали друг на друга искоса, с дурно скрытым, ревнивым любопытством тайных соперников, с напускным равнодушием, с чувством мучительной неловкости.
Словом, это было сборище вундеркиндов, потеющих перед запертой дверью славы.
Впрочем, эта дверь была заперта неплотно. Довольно часто она приоткрывалась, и в нее боком входил клубный официант, неся на подносе полбутылки красного вина.
Там находились посвященные. Это они держали в своих руках наши судьбы. Но кто они, мы понятия не имели. Лишь тогда, когда дверь приоткрывалась, пропуская красное вино, мы успевали рассмотреть в гранатовом полусвете другой комнаты столик, за которым сидел некто с тускло-продолговатой мордой лошади, в пенсне, и вокруг него несколько прочих.
Время тянулось мучительно долго. Мы изнемогали от нетерпения и неизвестности. Среди нас уже стали рождаться догадки, возникать слухи. Оказалось несколько осведомленных. Шепотом было произнесено слово «Пильский». Этот Петр Пильский, развязный и ловкий одесский фельетонист и законодатель литературных вкусов, собрал нас сюда. Он будет сейчас выслушивать нас и отбирать. Куда отбирать?
С какой целью? Черт его знает! И раз будут отбирать – значит, кого-то отберут, а кого-то не отберут. Это было страшно, как перед экзаменом. Я не мог больше вынести одиночества.
Я вскочил со стула и подошел к окну. На подоконнике сидел юноша в форменной куртке с отрезанными пуговицами.
– Вы гимназист? – спросил я его.
– Я реалист, – мрачно ответил он. – Из реального Жуковского. – И заносчиво шмыгнул носом, как бы показывая, что ему на все решительно наплевать с высокого дерева.
Мне не стоило большого труда определить его «сорт». В то время мы были дьявольски наблюдательны. Сверстники узнавали друг друга, еще не пожав руки и не перейдя на «ты».
Он говорил специальным плебейским, так называемым жлобским голосом. Это было небрежное смягчение шипящих, это было «е» вместо «о». Каждое слово произносилось с величайшим отвращением, как бы между двумя плевками через плечо. Так говорили уличные мальчишки, заимствующие манеры у биндюжников [портовый грузчик в Одессе.], матросов и тех великовозрастных бездельников, которыми кишел одесский порт. Это был высший шик в районе Дюковского сада, Молдаванки, Александровского парка.
Некогда в этом Александровском парке, висящем над трубами и мачтами порта, отцы города с педагогической целью ознакомить население с отечественной географией придумали соорудить небольшой пруд в форме Черного моря. В точном соответствии с картой выкопали калошеобразную яму. Подошва определяла Анатолийское побережье, носок – Константинополь, задник – Батум и верхний вырез – Крым. Впрочем, на этом общеобразовательная затея и кончилась. Хрупкий бюджет муниципалитета, подорванный темными махинациями городского головы, не выдержал дальнейших трат. «Черное море» так и осталось на вечные времена необлицованным и сухим. Но она нашла себе применение, эта унылая педагогическая яма. Ее облюбовали для своих буйных развлечений переростки соседних улиц, бесшабашные отпрыски дворников, помощников капитанов, мелких лавочников, акцизных чиновников [служащий учреждения по сбору акцизного налога (косвенный налог на товары внутреннего производства).].
Яма стала клубом приморского района, штабом казаков и разбойников, ареной французской борьбы, пристанищем длинноруких второгодников, колизеем гладиаторов, рубившихся бляхами, игорным притоном, где до самозабвения резались в «тепки на возилки» и в «ушки».
И если сама яма давно уже осыпалась и потеряла малейшее подобие Черного моря, то ее завсегдатаи прочно сохранили за собой прозвище «черноморцев».
Черноморцы!
Это был свободный народ, автономная республика, равноправно входившая в федерацию других одесских мальчишеских республик: новорыбников, отрадников, дюковских, слободских…
Разделенные территориально, эти веселые народы исповедовали единую великую хартию мальчишеских вольностей, что не мешало им вести между собой короткие, но бурные войны, пуская в ход палки, рогатки и камни. Для посвященного невозможно было спутать, например, черноморца с дюковцем.
– Вы – черноморец? – спросил я своего нового знакомого.
– А то нет? – ответил он вопросом на вопрос, что было вполне в характере черноморцев, и буркнул: – А вы отрадник?
– Отрадник. Вы пишете стихи?
– А вы нет?
Знакомство укрепилось. Черноморцы и отрадники в данный момент находились в военном союзе против новорыбников.
Потом, среди прочих соискателей, мы сидели рядом на стульях перед небольшой эстрадой, куда, вызываемые по списку один за другим, выходили молодые поэты и читали свои стихи.
Курьезный парад молодых подражателей, взволнованных, вспотевших, полных то чрезмерного заемного пафоса, то беспредельной грусти, совершенно неоправданной ни летами, ни цветущим состоянием здоровья!
В их петушиных голосах звучало искаженное эхо всей русской поэзии, от Пушкина до Игоря Северянина [русский поэт.], с явным преобладанием Апухтина и Надсона [Основные мотивы лирики русских поэтов Апухтина Алексея Николаевича (1840–1893) и Надсона Семена Яковлевича (1862–1887) – это разочарование и недовольство жизнью.].
Мы слушали стихи своих соперников, злорадно переглядываясь, и ядовито хихикали в кулак всякий раз, когда строфа была особенно отвратительна. Мы следили друг за другом исподтишка, как бы взаимно испытывая литературные вкусы, а так как они в большинстве случаев совпадали, то мы внутренне сближались все больше и больше, поощрительно друг другу улыбались и уже чувствовали себя как бы в молчаливом заговоре против всех.
Между тем каждого окончившего читать просили удалиться в соседнюю комнату и запереть за собой дверь.
Тогда Пильский, который не переставая тянул из зеленой рюмки удельное, вздергивал свое лошадиное лицо, интеллигентно взнузданное черной уздечкой пенсне, и не вполне твердым голосом ставил претендента на баллотировку.
О, в какое волнение приходило тогда наше маленькое учредительное собрание! С какой поспешной яростью поднимались испачканные чернилами руки, отвергая кандидата, и с какой нерешительностью и неохотой – принимая!
Томный студент, подручный Пильского, лениво подсчитывал голоса, и после этого сам мэтр произносил свой окончательный приговор.
Дверь отворялась. Крупно глотая слюну и растерянно улыбаясь, входил кандидат, сжимая в потных руках уже бесполезную тетрадь. Он останавливался у стола для того, чтобы услышать свою участь.
Принятому предлагали занять место в президиуме, и он садился на стул, заложив ногу за ногу, с гордостью новоизбранного бессмертного.
Отвергнутый вынужден был, спотыкаясь, слезть с эстрады и возвратиться на свое прежнее место, где ему уже нечего было ждать и не на что надеяться, вкусив всю горечь высокомерных усмешек и ободрительных замечаний.
Вскоре был вызван некий Эдуард Багрицкий [русский поэт.].
Я поспешил злорадно фыркнуть, чтобы показать соседу свое отношение к этому безвкусному псевдониму. Я не сомневался в его сочувствии. Каково же было мое удивление, когда он вдруг поднялся с места, засопел, метнул в мою сторону заносчивый, но в то же время как бы извиняющийся взгляд и решительно вспрыгнул на эстраду.
Он согнул руки, положил сжатые кулаки на живот, как борец, показывающий мускулатуру, стал боком, натужился, вскинул голову и, задыхаясь, прорычал:
– «Корсар»!
Он прочел небольшую поэму в духе «Капитанов». В то время я еще не имел понятия о Гумилеве [русский поэт.], и вся эта экзотическая бутафория, освещенная бенгальскими огнями молодого темперамента и подлинного таланта, произвела на меня подавляющее впечатление силы и новизны. Он читал превосходно и наизусть. Может быть, он слишком рычал и задыхался. Но я тотчас простил ему и пафос, и псевдоним. Во всяком случае, я до сих пор помню некоторые строфы:
Нам с башен рыдали церковные звоны,
Для нас поднимали узорчатый флаг,
А мы заряжали, смеясь, мушкетоны
И воздух чертили ударами шпаг!
Казалось, что он действительно наносит с пеной на искривленных губах страшные удары шпагой.
Еще в середине были какие-то
… тихие ритмы, как шелесты роз…
И заканчивалось все это так:
Когда погибал знаменитый «Титаник»,
Тогда твой мираж трепетал в небесах!
Летучий Голландец! Чарующий странник!
Чрез вечность летишь ты на всех парусах!
Успех был так велик, что тут же Эдуарду Багрицкому объявили о принятии, и он, не сходя с эстрады, занял место в президиуме.
Через пять минут рядом с ним сидел и я. Из всех претендентов только мы двое были избавлены от унизительной процедуры и приняты без баллотировки. Это нас сблизило еще больше.
Я сказал – приняты. Но куда?
Впоследствии это выяснилось. Петр Пильский открыл прекрасный способ зарабатывать деньги. Он выбрал группу «молодых поэтов» и возил нас все лето по увеселительным садам и дачным театрам, по всем этим одесским ланжеронам [предместье г. Одессы.], фонтанам и лиманам, где мы, неуклюже переодетые в штатские костюмы с чужого плеча, нараспев читали свои стихи изнемогающим от скуки дачникам.
Сам же Пильский, циничный, пьяный, произносил вступительное слово о нашем творчестве, отчаянно перевирая не только названия наших произведений, но даже фамилии наши. Денег он нам, разумеется, не платил, а выдавал только на трамвай, и то не всегда.
Очень часто нам приходилось возвращаться домой ночью, пешком, при пыльном свете степной луны, вдоль моря, среди хрустального звона сверчков и далекого собачьего лая.
Так началась наша дружба на всю жизнь.
Мы вышли вдвоем из «Литературки». На соборной колокольне было одиннадцать. В небе вспыхивала и гасла рубиновая реклама «Какао Кадбури». Под наркотической луной висела гигантская калоша акционерного общества «Треугольник». Одесса горела крашеными разно-цветными лампочками иллюзионов – так назывались у нас кинематографы – и вся напоминала большой шикарный иллюзион.
Молодые, безвестные, очень одинокие среди фланеров с папиросами «Сальве» в зубах – южных франтов в желтых ботинках и панамах, наполняющих жарким шарканьем подошв улицы центра, – мы долго шлялись по городу, провожая друг друга, и читали, читали стихи, которые казались нам в эту ночь замечательными.

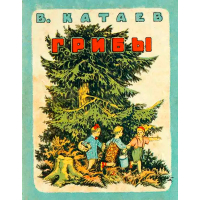


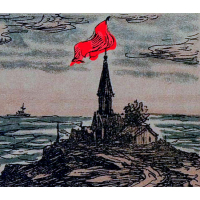
Комментарии