Дети
Николай Телешов
I
Когда в клубе начинался превосходный обед, бывающий только по пятницам, и на этот раз, как нарочно, с бесподобным меню, – в это самое время Александр Ильич Березин принужден был ехать на вокзал встречать своего старого товарища и родственника, Култаева. Ему было очень досадно прогулять этот обед, но не встретить было неловко, и Александр Ильич поехал.
Это был высокий, красивый мужчина лет 40 на вид, с темными крутыми усами, в пенсне, одетый щеголевато и со вкусом. Заложив одну руку в карман мехового пальто, а другой рукой, затянутой в перчатку, поигрывая тросточкой, он прогуливался по платформе в ожидании поезда, и хотя любил Култаева и был рад с ним увидеться, все-таки втайне досадовал на приятеля, которого принесло именно сегодня, а не вчера и не завтра: сейчас его дожидается большая компания, чтобы вместе выпить перед обедом водки, так как повар устроил им какую-то особенную "штуку" к закуске, – такую штуку, что Александр Ильич не умел даже назвать ее по имени; это была совершенная новость в кулинарном искусстве, и по рассказам, такая вкусная и интересная, что волей-неволей, выпьешь лишнюю рюмку. Нетерпеливо прохаживаясь по платформе, холодной и тускло освещенной, Березин вынул часы: было как-раз то время, когда в клубе дается звонок к закуске и когда приходит по расписанию поезд. Появление на платформе начальника станции, носильщиков и жандармов несколько утешало его, и он мечтал, если поезд не запоздает, сейчас же взять с собою Култаева и, не заезжая домой, устремиться в клуб, хотя бы пришлось и не застать закуски. Где-то вдали послышались звуки рожка, потом среди вечернего сумрака вспыхнули три огненных глаза, которые росли и приближались, и вскоре полосы света заблестели по рельсам, а затем с шумом и стуком потянулись мимо Березина вагон за вагоном; раздался свисток, поезд остановился. Среди хлынувшей толпы Александр Ильич напрасно искал знакомое лицо. Все перемешалось.
– Саша! Голубчик! – послышался неожиданно голос за его спиной, и чья-то рука легла ему на плечо.
Александр Ильич обернулся. Перед ним стоял в сером суконном полушубке, отороченном серым барашком, в серой высокой шапке человек средних лет, блондин, с радостным выражением лица, улыбающийся, – это и был Култаев. Они взялись за руки, потом поцеловались.
– Рад, не рад, а принимай гостей! – весело продолжал приезжий. – Мы к тебе на постой!
– Разумеется, ко мне. Я уж велел приготовить комнату.
– Только должен тебя предупредить...
– Э, полно! – перебил Березин. – Что за вздор, какие там церемонии! Едем скорее в клуб, нынче такой, брат, обед, что просто – вот что!
В знак удовольствия, Березин поцеловал кончики своих пальцев, затем взял гостя за талию.
– Ну, едем. Переоденься – и марш!
– А мы-то? – послышался растерянный голос, и из-за Култаева выступила старуха, державшая на руках закутанного ребенка, а за ее шубу крепко цеплялся мальчик, лет четырех, с недоверчивыми сердитыми глазами. Березин удивленно взглянул на Култаева.
– Твои племянники, – отрекомендовал тот. – Мальчишка – Иван, девчонка – Людмила. Ну, иди за мной, – прибавил он, обращаясь к старухе, – надо вам извозчика взять.
На это Березин с недоумением и с упреком заметил.
– Как же это?.. Я думал, ты один... Что ж ты не написал мне, я приготовил бы им номер; у меня неудобно, ты знаешь.
– Прости, голубчик. Засуетился немножко, ну, вот и вышел такой случай... Как-нибудь разместимся.
Александр Ильич обиделся и молча пошел вслед за Култаевым, а за ним нянька с детьми и носильщики с их узлами и пожитками.
– У вас что-нибудь случилось? – тревожно спросил Березин, как только они сели в сани. – Отчего не приехала Катя? Она жива? Здорова?
– И жива, и здорова, – беспечно отвечал Култаев. – Да я тебе дома все расскажу.
"На кой же чёрт ты притащил детей!" – хотелось сказать Березину, но он сдержался и замолчал. Так всю дорогу они ехали молча, хотя Култаев вставлял иногда восторженные замечания по поводу попутных домов, ясного морозного вечера и встречных дам.
По приезде к квартире, Александр Ильич, раздраженный появлением зятя и неудавшимся клубским обедом, сердито дернул за колокольчик; через минуту выбежал в сюртуке и белом галстуке человек, бритый, с сильною проседью на висках, но увидав прежде всех няньку с детьми, недоверчиво загородил ей дорогу.
– Вам кого нужно?
– Отойди прочь! – раздался вслед за его вопросом сердитый голос Березина, и лакей почтительно отступил в сторону.
Войдя все стали раздеваться, – Александр Ильич небрежно сбрасывал с себя пальто, Култаев расстегивал множество крючков на своем полушубке, а нянька, посадив на деревянный диван ребенка, начала разматывать с него плед; старший мальчик стоял одиноко среди прихожей, закутанный в башлык и шубу, и было видно как от тепла зарделись его щеки. Когда к нему подошел лакей и сказал с улыбкой: "Шубочку вашу, барин, позвольте", – он протянул ему обе руки, на которых были надеты вязаные перчатки, и тихо проговорил:
– Мне жарко.
Когда все вошли в залу, нянька научила мальчика поздороваться с дядей; тот послушно, хотя и несмело, подошел к Березину и проговорил, потянувшись к нему для поцелуя:
– Здравствуйте, дядя Саша.
Александр Ильич поцеловал его в влажные губы и ответил небрежно:
– Здравствуй, Ванюша.
Затем подошел к девочке.
– Это Людмила?
Он хотел поцеловать и ее, но та при виде незнакомца вдруг сморщила свое личико и залилась звонким плачем, замахав руками и ногами.
– Ну, Бог с тобой, Бог с тобой! – махнул рукой Александр Ильич и обратился к Култаеву. – Пойдем в кабинет, а Сидор им устроит что нужно.
– Сейчас, голубчик, – ответил Култаев, – я только у Сидора полотенце спрошу; надо с дороги хоть рожу-то вымыть!
Сидор стоял тоже в большом недоумении, не зная куда броситься, – все торопились, все его звали и он сам, наконец, растерялся: не то бежать в кабинет зажигать лампу для барина, не то подать гостю полотенце, а тут еще нянька, ухватив его за локоть, спрашивала шепотом:
– Где у вас, батюшка, девочку-то положить?
В смущении он взглянул на хозяина, как бы спрашивая его, как быть. Но Березина самого бесило все это, и он проворчал:
– Делайте, господа, как знаете, только оставьте меня в покое! – и махнувши рукой, торопливо ушел в кабинет, зажег там свечу и в раздражении почти повалился в кресла.
"Это чёрт знает, что такое! – думал он, сердясь на Култаева. – Натащил зачем-то ребят, точно домой приехал! Отлично знает, болван, что я терпеть не могу этого!.."
В соседней комнате послышался, наконец, скрип умывальника, плесканье и фырканье Кирилла Ивановича, а через четверть часа явился он и сам причесанный, в темном триковом пиджаке, с папиросой в зубах.
– К твоим услугам! – проговорил он, шутливо раскланиваясь. – Хочешь здесь побеседуем, хочешь в клуб поедем, – весь в твоем распоряжении.
– Разумеется, в клуб! Я ничего не ел, а у меня дома не готовят. Я как волк...
Тон Александра Ильича был далеко не приязненный, однако, он вовремя спохватился и добавил любезнее:
– Поедем, голубчик. Ей Богу, ни крохи во рту не было.
– С восторгом и наслаждением! Я даже рад немножко кутнуть; ведь, всего день или два подышу столичным воздухом, а там опять провинция!
"День или два" – это было самым приятным известием для Березина. Из-за двух дней не стоило очень огорчаться.
– Ну, едем, едем! – сказал он веселее и даже взял Култаева за плечо, словно боясь, чтобы тот опять не замешкался.
Едва они удалились, как Сидор, заперев за ними двери и сам еще ничего не понимая в происшедшей истории, потихоньку приблизился к столовой, которая была наскоро обращена в детскую; там стояли теперь два дивана, один для мальчика, огороженный для безопасности стульями, другой для няньки и два мягких кресла, составленные вместе, для девочки.
– Нянюшка, – сказал он осторожно, заглядывая в комнату, – не нужно ли чего принести?
Добродушно улыбаясь, Сидор глядел, как нянька поила с блюдечка Людмилу молоком и торопила Ваню, который ел хлеб, прихлебывая из чашки:
– Кушай, кушай скорей!
– Чайку бы попить, – не спеша ответила нянька. – Вот детей уложу, а вы самоварчик бы приготовили. Вас как по имени-то?
– Сидор.
– А по батюшке?
– По батюшке Михалыч. А вас как зовут?
Нянька назвалась Мариной Елпидифоровной.
– Приготовлю, нянюшка; самовар уж кипит... Уж я вас так и буду величать "нянюшкой", а то имя-то у вас затруднительное, – добавил Сидор и, притворив двери, удалился, остерегаясь заскрипеть сапогами.
Уже давно в стенах этого дома не раздавалось ни плача, ни детского лепета, ни старушечьих песен. Мальчик, утомленный дорогой, быстро заснул, но над девочкой нянька сидела долго, напевая ей вполголоса про Кота-мурлыку; наконец, убаюкав детей, она вышла в залу. Это была коренастая старуха лет 60, с темными выцветшими глазами, угловатыми манерами, крепким голосом и энергичным взглядом.
– Пожалуйте, нянюшка, ко мне; самовар дожидается, – сказал ей при встрече Сидор.
Когда они сели за стол, разговор у них не вязался. Сначала Сидор предложил водки, но оказалось, что няня водку не пьет, а любит мадеру.
– Этого добра у нас сколько угодно! – небрежно ответил Сидор. – Что нравится, того и подадим. Барин у нас какой: одна заря его вгонит в дом, а другая выгонит; либо по театрам пошел, либо по клубам... В доме-то один я почти и живу, а он только спать заезжает... Человек независимый! – добавил он с некоторым одобрением.
Сидор был уже очень немолод, уже давно серебрилась проседь на его висках, а за последнее время начали сильно редеть волосы по всей голове. Невысокого роста, с бритым ветшающим лицом, он усвоил себе скромную и степенную походку, хотя при надобности мог бегать очень проворно, особенно когда барин бывал не в духе и сердился на всякие пустяки; он очень дорожил Березиным и боялся потерять это место. В безотчетном распоряжении Сидора было все хозяйство, а заключалось оно, во-первых, в чайнице и сахарнице, которые никогда не должны иссякнуть до дна, затем в нескольких сортах холодной закуски, на случай, если Березин, вернувшись ночью, внезапно проголодается, или внезапно нагрянут гости, да еще, главным образом, в том, чтобы никогда, ни под каким предлогом, ни в какой час не отвечать "нету-с", – если бы Березин сказал: "лафиту!" или "мадеры", или "сельтерской воды!" Обо всем этом обязан был заботиться Сидор и заблаговременно докладывать, что такой-то сорт подходит к концу.
– Мадера у нас хорошая, нянюшка: три с полтиной бутылка плачена! – сказал Сидор, удаляясь за угощением.
– А барин не станет браниться? – усомнилась нянька. – Скажет: вот, наехали!
– Барин? – останавливаясь произнес не без достоинства Сидор. – У нас всего вволю! Человек он благородный, жадностью не страдает.
Когда он вернулся с кувшинчиком в руках, нянька опять спросила:
– Может, у вас замечают, сколько отпито?
– Я замечаю, а больше здесь замечать некому. Кушайте, нянюшка, не стесняйтесь.
– А вы себе-то что ж не нальете?
– Пятый год – нипочем-с!..
За чаем они разговорились. Сидор подробно рассказал, каков у него хозяин и каковы бывают гости; оказалось, что Березин прекрасный человек и все гости – очень хорошие люди, а нянька передала про своих, причем барыня, Екатерина Ильинична, была, по ее мнению, ангелом во плоти, зато барин, Кирилл Иванович, нестоящим человеком, безобразником и "мотыгой".
– Глаза бы на него не глядели! – горячилась нянька, но по привычке к детской, говорила шепотом. – Этакий человек! Этакий человек! Просто ни дня ни ночи не знает! И ушла б от него, Ирода, без оглядки, да вот ребяток жалко... Кабы барин Александр Ильич, нас не прогнал, так у вас бы, кажется, навсегда и остались!
– У нас-то? – усмехнулся Сидор. – Нет-с, этому, видно, не суждено. У нас таких постояльцев не любят!
Он беззвучно и добродушно засмеялся, как бы отвечая шуткой на шутку.
– У нас даже и крика-то детского, я вам скажу, никогда не бывало! – весело продолжал он, отмахиваясь рукой. – Да вы, нянюшка, и про Кирилла-то Иваныча совершенно напрасно... Человек он недурной, я его сколько лет знаю. Вот выпить – охотник, что говорить, а только барин он ничего... хороший!
– В гостях-то мы все хороши, – не унималась старуха, – на людях человека не разобрать, а ты полюбуйся на него дома... Нетто с этаким жизнь? То туда, то сюда, весь замытарился, как бес какой, прости Господи!.. Бывало, зверь зверем придет; то не так, другое не этак, и начнет перебирать! Ту-ту-ту! ту-ту-ту! – только и слышишь, а потом опять из дома вон, и опять до рассвета!.. Уж барыню, Катерину-то Ильиничну, сама почти вынянчила, знаю, какая душа!.. А этот Ирод... вот хоть бы взять сейчас: куда его нелегкая понесла? Тут дети маленькие без крова, без...
Нянька не знала уже, каким бы словом позлее, поувесистее упрекнуть Кирилла Ивановича, и добавила:
– А он, небось, в трактире сидит, вино свое проклятое лопает.
Она хотела что-то еще добавить, но в это время закричала девочка; голос ее раздался по всем комнатам, и нянька, наскоро сказавши спасибо, поспешила в детскую, а Сидор, поглядев ей в след, остановился в раздумье, покрутил головой, потом пожал плечами, опять немного подумал и заглушил самовар.
II
Когда Березин с Култаевым проезжали мимо ресторана и Култаев увидал громадные освещенные окна, то сейчас же предложил заехать сюда, вместо клуба.
– У тебя в клубе приятелей много, будут мешать, а здесь мы отлично поедим и побеседуем по душам!
Александр Ильич согласился.
Через пять минут они сидели уже в отдельном кабинете с высоким лепным потолком, с массивными канделябрами на столе, и внимательно просматривали обеденную карту.
– Дай-ка покуда водочки! – решил Култаев, весело взглядывая на лакея. – Икорки подай с лимоном, ну еще там... чего бы это?.. Ты ведь, Саша, рюмочку выпьешь?
Александр Ильич утвердительно кивнул головой, потом сказал тоном, не допускающим возражения, какие следует подать кушанья, и, потирая от удовольствия руки, добавил, что угостит сегодня таким обедом, какого в провинции за сто рублей не получишь.
Когда стол уставили водками и закусками, приятели чокнулись и разговорились.
– Ты, пожалуйста, не сердись, Саша. Я знаю, ты не любишь детей, но что ж поделаешь!
– Пустяки, – снисходительно возразил Березин, – день, два – что за беда!.. Ты обрати внимание на балык.
– Великолепен!
Отведав балыка и икры, Александр Ильич опять заговорил:
– Если б ты был один, то гости хоть тысячу лет, я очень рад, а то ведь я дома не обедаю, у меня даже кухарки нет. Согласись, неудобно же детям обедать с лакеем, да и чёрт его знает, где он сам-то обедает... в какой-нибудь харчевне. Ну, это в сторону! Рассказывай новости: зачем приехал, для чего детей притащил, да кстати, ты не сказал, отчего не приехала Катя? Она здорова?
Култаев горько вздохнул.
– Давай выпьем еще по единой, – сказал он вместо ответа, – а затем я буду докладывать тебе обо всем подробно.
Они снова чокнулись.
– Видишь ли, – нерешительно начал Култаев, – я боюсь тебя огорчить... Только ты не волнуйся, пожалуйста, ничего тут особенного нет – просто этакое увлечение... Ерунда разная. Для Кати я был, оказывается, очень груб, потому что у нее душа возвышенная, а у меня, видишь ли, низменная. Отсюда пошли нелады и прочее... Словом, мы с женой разъехались.
– Как?! – почти вскрикнул Березин, бросая есть, и сорвав с себя салфетку, которую заложил было за воротник, вытаращил на зятя глаза.
Тот продолжал:
– Люди мы совершенно различные. Я – посредственность, человек обыкновенный; как говорится, толченого стекла не ем. Ну, а сестру свою ты знаешь, описывать тебе ее нечего. Все мы, конечно, не боги, и я не прочь иногда выпить водки (при этом Култаев налил себе в рюмку). А за моей за каждой рюмкой следили, вели счет: это, мол, первая, это вторая, да как тебе не стыдно, да как это нелепо, – и все это, знаешь, на философский лад, с разъяснениями, с цитатами... Чёрт знает!
Он выпил и досадливо поставил рюмку обратно на стол.
– Я ничего не понимаю пока, – сердито заметил Александр Ильич. – Говори яснее: в чем у вас дело?
– В чем дело... Дело в том, что я брошенный муж, и дети брошены, и семья развалилась. Ясно теперь?
– Я не вижу причин.
– Причина, брат, там: за границей! Причина – ее спутник теперешний.
– Любовник? – тихой скороговоркой перебил Березин.
– Идеал!! – горько засмеялся Кирилл Иванович. – Идеал!.. Разве у моей жены могут быть простые любовники? Это истинное совершенство: умом – Сократ, красотой – Аполлон, речист, как Цицерон, а благороден, как Дон Кихот, что ли, чёрт его побери!.. Хотя, на мой взгляд, это просто мерзавец, извини за выражение! Придет, бывало, ко мне в дом и начнет меня же бранить: все мужья это, мол, люди безнравственные, люди дикие, потому что такой-то философ говорит то-то, а этакий – вот этак говорит; и чёрт его не знает, обернет дело как-то так, что если тебе жена не изменила, то ты же, по его словам, выходишь подлец подлецом!.. Извини, голубчик, я еще выпью одну рюмочку: нервы, знаешь, расшатаны и очень устал с дороги.
Склонивши голову на руку, Березин с тоской и с жалостью слушал его беззаботную повесть.
– Кто ж он такое?
– Так, – отвечал Култаев, – неопределенное нечто: рыцарь, и негодяй, и порядочный человек и жулик... Смесь какая-то. Просто, по-моему, – бабник.
– Что ж ты мне не писал ничего? – обиделся Александр Ильич. – У вас там целая драма, а я ничего не знаю. Разве я Кате не брат? Разве я тебе не товарищ?
– Я, кажется, писал... Я думал, ты знаешь.
– Откуда ж мне знать? Это странно!
– За этим я, впрочем, сейчас и приехал... Дай, брат, мне руку... по-старому, по-дружески! Я теперь одинок на свете... Тяжело, Саша... Тяжело!
Голос его дрогнул.
– А дети? – сказал Березин, желая этим вопросом указать, что он вовсе не одинок.
Култаев, не отвечая, встал и прошелся по кабинету.
– Тяжело мне это говорить, – начал он после небольшого молчания, – но все равно когда-нибудь нужно. Ты, Саша, человек со средствами, ты дашь им отличное воспитание...
– При чем же я? – вступился за себя Александр Ильич.
– А при том, что ребята будут отныне принадлежать тебе, а не мне, потому что они... не мои!
– Что?! – вскрикнул Березин и быстро поднялся из-за стола.
– Не мои! – с криком повторил Култаев. – Вот! Вот взгляни эту карточку!
Он вытащил из кармана портрет мужчины с резкими энергичными чертами лица и швырнул его Березину на тарелку.
– Сравни с ребятами!
– Ты очумел! – горячился Александр Ильич, схватывая портрет и, не глядя, бросая его в негодовании опять на тарелку. – Ты с ума сошел!
– Нет, ты вглядись в эту рожу! Посмотри, каковы глаза! – настаивал Култаев. – Разве у меня такие глаза? У жены такие глаза?
Он стоял перед Березиным и махал ему возле самого носа портретом.
– Ты взгляни! Ты вглядись! Ты сравни Людмилу с этим канальей! Ну, что?.. Каково?.. А Иван – разве не одно лицо? Разве нет сходства?
Резко изменившийся тон и даже голос Култаева, его сверкающие глаза, его оскорбительное подозрение сестры – все так поразило Александра Ильича, что он возмутился до глубины души и не знал, что делать, не находил даже слов, чтобы излить свое негодование.
– Чёрт знает! чёрт знает! – повторял он десятки раз и взволнованно шагал по комнате.
– Где же сестра? Куда она скрылась?
– Говорю, за границей.
– С ним?
– С ним.
Березин пожимал плечами, дергал усы и не переставал ходить из угла в угол.
– Ну, а дети? – спросил он тревожно.
– Дети – к тебе.
– Куда ж я с ними денусь?
– Девай, куда знаешь.
– Это смешно, мой милый! У меня не воспитательный дом!
– У меня тоже не воспитательный дом! – резко ответил Култаев. – Я их привез, а ты получи, как дядюшка, и делай с ними все, что угодно. А мне содержать их не на что, у меня за душой рубля не осталось!
Александр Ильич, несмотря на свое раздражение, вдруг почувствовал, что ему не отделаться благополучно от этой истории и что Култаев сейчас взвалит на него все обязанности.
– Да не могу я детей воспитывать! – жалобно вступился он за себя.
– И я не могу, потому что уеду.
– Ну, и я не могу! Я человек холостой... У меня своя жизнь!
– А у меня нет своей жизни?
– Ты – отец!
– Это еще вопрос! – с раздражением воскликнул Култаев. – А вот ты – родной дядя. Это верно, это бесспорно!
Березин хотел возражать, но не знал, как и против чего, и ясно увидел, что не было больше выхода, что он обезоружен и окончательно попался.
– Ну, чего ты кричишь? – смущенно остановил он зятя. – Дай мне обдумать. Не могу я думать, когда ты меня чуть не за горло схватил!
Держать детей в своем доме ему казалось настолько невероятным и стеснительным, что не мог допустить об этом даже мысли, и не согласился бы ни за что на свете, а потому замолчал, надеясь что-нибудь выдумать. Он сидел в кресле, крутя усы и качая ногою, свистел, курил и сердился, но, как ни придумывал, ничего придумать не мог.
– Куда же ты едешь, однако? – сказал он Кириллу Ивановичу, немного отдохнув от волнения. – Надеюсь, не навек? Ведь ты вернешься когда-нибудь?
– Не знаю, – отвечал тот, тоже спокойнее. – Еду я на работу... в Сибирь, потому что прожился до копейки с этой неурядицей, а там мне готово хорошее место. Ты войди в мое положение: не могу я без всяких средств воспитывать детей... не моих к тому же! Рассуди сам.
Желая рассудить, Березин мог только развести руками.
– Без денег, конечно, трудно, – согласился он, все еще надеясь освободиться. – Без денег... да. Это другое дело.
– А ты богат, ты не жаден, ты вообще порядочный человек, – быстро добавил Култаев. – Пускай дети поживут у тебя хоть немного... Жалко все-таки: мелюзга, неповинные... А там ты спишешься с сестрой... Вот возьми ее адрес... Она не смеет отказаться от них. Ну, потерпи полгода, – авось не развалишься.
– Это дело другое, – повторил Березин уже с видимым облегчением.
Он спрятал записку с адресом в карман и опять проговорил:
– Это дело другое.
Намекнув на сестру, Култаев сразу облегчил ему задачу: стоило, в самом деле, написать ей, чтоб увозила детей, – и развязка! Он даже обрадовался такому исходу, так как на месте Култаева он и сам уехал бы от ребят, потому что это дело совсем не мужское.
– Хорошо, я ей напишу, – сказал он вполне успокаиваясь. – В самом деле, уж если матери будут бегать от своих детей, так это Бог знает что такое.
Через час Березин и Култаев снова сидели рядом и дружно беседовали. Кирилл Иванович поднимая за тоненькую ножку широкий, плоский фужер, где пенился мозельвейн, не спеша подносил его к губам и, отхлебнув ароматной влаги, говорил о современном обществе, которое идет к разрушению, вспоминал счастливую холостую жизнь, рассуждал о женщинах, восхищался какой-то певицей, а Березин сидел задумчивый и молчаливый не прикасаясь к вину.
III
Сейчас же после отъезда Култаева, Александр Ильич отправил за границу к сестре письмо, полное упреков, в котором просил и даже требовал, чтоб она увозила детей, и с нетерпением ожидал ответа. Но прошел почти месяц, ответа не было.
Он страшно хандрил и тяготился своими невольными жильцами, хотя квартира его была слишком просторна и даже велика для одинокого человека; у него была зала, ни на что ему ненужная, была столовая, в которой он, бывало, по утрам пил чай, был кабинет, где иногда с приятелем распивалась бутылка лафита, и была еще спальня, единственная необходимая комната; но во всей этой обстановке Александр Ильич жил бобылем: кухню не держал, целыми днями не бывал дома, а когда наступала очередь приглашать товарищей играть в карты, то ужин приносили из ресторана. Знакомых у него было почти полгорода, но ближайшими приятелями считались Мюллер, Керчин и Тузов, – его постоянные карточные партнеры.
Тузов был старшиной в клубе по кулинарной специальности, сорокалетний толстяк и великан, беспечальный и добродушный человек, говоривший всем "ты" и величавший всех, по старинной привычке "голубушкой", причем он умышленно картавил и говорил "голюбушка". Впоследствии его самого так прозвали, и прозвище это стало так популярно, что даже у клубских швейцаров не спрашивали, здесь ли Тузов, а говорили, не здесь ли Голюбушка, и те отвечали, что здесь, или – "не приезжали". Василий Васильевич Керчин был того же поля ягода, только худой, близорукий и страшный привередник относительно вин и еды; прежде чем съесть кусок поданный ему в клубе или в ресторане, он потычет его вилкой, поглядит, наклонясь почти носом в тарелку, понюхает, поморщится и велит подать свежий, находя этот негодным и вредным; водку, которой он пил не более одной рюмки, всегда находил слишком теплой и, прежде чем выпить, щупал рукой бутылку и отсылал обратно; поданный хлеб он находил или толсто отрезанным или слишком мягким и вообще, был для прислуги обременительным гостем, за что и получил от нее прозвание "Казни Египетской". Мюллер был членом всех клубов, играл во все игры, пил без разбора любое вино, ел все, что попадется, и ухаживал за всеми женщинами, при этом всех любил, и все его любили.
Таковы были ближайшие приятели Александра Ильича, завзятые холостяки и жуиры, как он сам, и жизнь их шла уже несколько лет ровно и одинаково, по раз сложившемуся образцу.
Теперь образ жизни Березина начал волей-неволей меняться. Во-первых, ему не хотелось объяснять историю с сестрой и показывать детей, а поэтому, когда наступала очередь приглашать на винт, приходилось лгать и выдумывать разные причины; кроме того, в его повседневную жизнь начало вкрадываться множество мелочей, и они раздражали его иногда до того, что он готов был бежать из своего дома. О прежнем строе не было и помина. В зале его валялся рыжий конь, с обломанной мордой, которого Александр Ильич всегда приказывал убирать, и его убирали, но он все-таки постоянно валялся, то под столом, то под роялем; двери в столовую были всегда закрыты и самая комната, обращенная в детскую, приобрела какой-то кисло-молочный запах, которого терпеть не мог Березин; по ночам, когда он обыкновенно возвращался домой, нередко слышался детский плач, и хозяину, точно вору, приходилось идти мимо столовой "на цыпочках", остерегаясь более крупного переполоха; наконец, Сидор ежедневно стал надоедать с разными мелочами и докладывать обо всем, что требовалось няньке: то ему пожалуйте на молоко, то прачка требует денег, или нужно матрасик купить, или таких предметов, о которых Александр Ильич утратил уже всякое представление.
– Убирайся ты к чёрту! Надоел! – крикнул он однажды на Сидора, однако, прогоняя его, он понимал, что без молока детям не обойтись, без матрасика тоже, без прачки – то же самое, и приходилось звать Сидора обратно и исполнять все его требования. Березин не был скуп и готов был сделать все, но только не при таких условиях, налагавших на него какую-то обязанность, точно он в самом деле должен был помнить и заботиться о всякой тряпке. Ему было досадно.
– Разве не можешь говорить толком? – упрекнул он Сидора. – Лезешь каждый день со всякой ерундой! Говори сразу, что нужно; терпеть не могу этой мелочности.
Вынув из кармана деньги, Березин добавил:
– Вот тебе на детей, на месяц, и не приставай, пожалуйста.
К крайнему огорчению Сидора, через несколько дней пришлось опять беспокоить барина.
– Что ж теперь станешь делать! – сказал он Березину, разводя руками. – Без кухарки в доме никак нельзя. Приказали бы, Александр Ильич, кухарку нанять, расход невесть какой, а удобства куда много! Кухня у нас все равно гуляет – одни тараканы живут. А детям, сами знаете, то молоко вскипятить, то супцу... Кухарка все бы это отлично сделала; рублей семь-восемь за месяц, только и разговора, а удобства куда ж больше теперешнего!
Александр Ильич, выслушав его, молча стукнул ладонью по столу, однако, отсчитал семь рублей.
– Ну вас! Нанимай, кого знаешь, только чтоб я не слыхал больше ни слова об этом!
Ежедневно поутру, когда Березин пил у себя кофе, к нему являлся племянник, в барежевой курточке табачного цвета, в высоких лиловых чулках и черных кожаных туфлях – здороваться; он подходил к нему молча, тянулся к губам для поцелуя и, пролепетав: "С добрым утром", уходил обратно, всегда замедляя шаг, а иногда останавливаясь в дверях и оглядываясь.
– Ванюша! – остановил его однажды Березин. – Отчего ты всегда на меня смотришь, когда уходишь?
– Няня не велит с вами разговаривать, – просто ответил мальчик, держась в нерешительности за скобку двери.
– Почему не велит?
– Она говорит, вы нас не любите.
Не то досаду, не то упрек себе почувствовал Александр Ильич, но ему не понравился прямой и простодушный ответ ребенка.
– А ты меня разве любишь? – спросил он, подзывая его к себе.
– Люблю.
– За что же?
Ваня задумался.
– Я не знаю...
Он не совсем правильно выговаривал слова и разделял их неверно. В его ответе как бы слышалось: "Я нес... наю".
Березин вздохнул и, как человек непривыкший обращаться с детьми, вместо сочувствия поерошил ему стриженые волосы.
– Хочешь кофе? – спросил он потом, вглядываясь в нежные черты его личика, напоминавшие лицо матери, когда та была еще девушкой.
– Хочу... И хлеба мне можно?
– И хлеба хочешь?
– Да. С хлебом мы всегда пьем... потому что...
Березина это заинтересовало. Он веселее взглянул на мальчика, и, когда тот не докончил речи, Александр Ильич спросил с улыбкой:
– Ну, ну, говори – почему?
– Потому что... хлеб... Потому что мы всегда кушаем хлеб. Без хлеба ведь нельзя ничего кушать; суп нужно кушать непременно с хлебом, котлетку нужно с хлебом... Все дети с хлебом кушают, а без хлеба кушают только нехорошие мальчики, которые на улице.
Березин весело усмехнулся, впервые в жизни услыхавши детскую логику. Голос и тон, которым рассуждал Ваня, были серьезны, и в них так и сквозила тенденция няньки. "Хитра же ты, старая! – подумал Александр Ильич. – Поди, чего натолковала!.." И перед ним выступила ясно картина нянькиных уроков. Вот она сердито предостерегает детей не беспокоить дядю и не разговаривать с ним... Почему?.. Да потому, что он "не любит их", потому что он сам с ними неласков, сердит, несправедлив.
– Дядя Саша! – перебил Ваня течение его мыслей. – Вы знаете, где мама?
– Мама?
Березин нахмурился, не зная, что отвечать.
– За границей, – сказал он нехотя.
– А это где заграница?
– Это, брат, далеко. В другом государстве.
– В некотором?
– Я не понимаю, что ты спрашиваешь.
– Как же не понимаете! – продолжал мальчик совершенно серьезно. – Мама, значит, живет в некотором царстве, в некотором государстве, где царь Додон?
– В этом самом! – засмеялся Березин.
– А что она там делает?
– Ну, это тебе не для чего рассказывать.
– А няня говорит, что мама там страдает... А что это значит – страдает? Это ее наказывают?
– Да, да... именно! – рассеянно подтвердил Александр Ильич, которому вдруг надоели расспросы ребенка. – Ступай к себе, Ванюша, мне некогда, да скажи няньке, чтоб глупостей не болтала.
Не прошло и пяти минут, как по всему дому поднялся крик и плач. Громче всех кричала девочка звонким раздирающим голосом, точно захлебываясь в слезах; более грубо и более протяжно вторил ей Ваня, приговаривая при этом какие-то слова.
– Я тебя нахлопаю! Я тебя нахлопаю! – раздавался среди плача сердитый голос няньки. – Будешь ты вперед слушаться!..
Но от угрозы Ваня кричал еще сильнее, и казалось, будто он тянет на бесконечной ноте букву "ы", а девочка взвизгивала чаще и продолжительнее и разражалась чуть не истерическими рыданиями.
Зажавши уши, Александр Ильич метался по кабинету, проклиная Култаева и детей и себя и, наконец не выдержав, начал звонить в колокольчик.
– Уйми ты этот скандал! – крикнул он вбежавшему Сидору. – Чёрт знает, что делается.
Тот побежал в детскую.
– Шш! – прошипел он, резко махнув руками. – Тише! Барин сердится.
Нянька с сердитым лицом сидела на стуле, у ног ее каталась по ковру Людмила, вздрагивая от рыданий всем телом; Ваня стоял среди комнаты с разинутым ртом и по щекам у него катились слезы. От общего гама сморщился даже Сидор.
– Тише!.. Шш!.. – махнул он опять на детей. – Уймите, нянюшка! Разве можно этак орать!
Не двигаясь с места, нянька ответила:
– Кто их уймет! Ишь, как телята кричат. Кричи, кричи! – сердито обратилась она к Ване. – Авось, тебя дядюшка выстегает розгой. Кричи, кричи, дождешься ты этого.
– Уймите вы их! – настаивал Сидор, начиная сам раздражаться. – Деточки!.. дети!.. Перестаньте. Ай-ай-ай, какой стыд!.. – качал он головою, глядя на Ваню. – Да возьмите вы, нянюшка, ребенка-то на руки.
– Пусть валяются. Никого не возьму. Чистое наказанье Господне, а не дети.
– Нельзя этого! – горячился Сидор.
– Мало чего нельзя! Помирать мне теперь, что ль, из-за них! – отвечала нянька.
Слыша их перебранку, дети голосили еще громче. Расстроившись, Ваня начал быстро топать ногами от бессильной досады, и было похоже, что он пляшет, если б не его крик и не слезы. Сидор хлопал себя по бедрам руками, громко сетовал на нянькино бездействие и несправедливость; но та сидела, не желая двинуться с места, и только взгляд ее становился все мрачней и мрачней.
Березин не выдержал.
– Чёрт знает, что такое! – сердился он. – Сумасшедший дом какой-то устроили! – и схватив с письменного стола колокольчик, начал быстро и нервно трясти его.
– Подай пальто, – сухо и гневно приказал он вбежавшему Сидору, направляясь в переднюю. – Скажи им, чтоб этого больше не было!
Сидор сочувствовал барину и понимал его настроение; отворяя на улицу дверь, он был почти уверен, что Александр Ильич ночевать теперь не приедет.
– Вот Господь оказию послал! Этак подвернутся они под горячую руку – всех из дому сию минуту прогонит!
Он вздыхал, волновался, и то жалел детей, то досадовал на них, и, покрутив головой, пошел разведывать о причине такого переполоха, который он мысленно называл "Содом и Гоморра..."
Присутствие детей в доме Александра Ильича клало на все свой отпечаток; маленькие деспоты не признавали ни власти, ни времени и, не опасаясь за свою дальнейшую судьбу, устраивали хозяину такие сюрпризы, что жизнь для него в собственном углу становилась подчас невыносимой. Особенно его обижала Людмила. Для Березина это был не человек, а нечто оживленное, такое изнеженное и хрупкое, что он боялся всякого прикосновения к ней, опасаясь сломать ей руку, ногу или даже голову. Но это хрупкое нечто так привязалось к Александру Ильичу, так любило, несмотря на бдительность няньки и Сидора, вбегать к нему в кабинет и бросаться на низкий турецкий диван, что держало Березина всегда в страхе за судьбу ее рук и ног. Иногда ему хотелось обругать ее, вышвырнуть вон, как надоедливого котенка, но Людмила, свернувшись клубком на диване, глядела на него так невинно и весело, так искренно смеялась, воображая, что дядя с ней собрался играть, что у того опускались руки.
Людмила относилась к Березину и Сидору с одинаковым доверием и любовью; ей было все равно, кто из них слуга, кто хозяин; ей было важно лишь то, что один позволял кататься по дивану, а другой рассказывал ей сказку, постоянно одну и ту же – про Бабу-Ягу, – и девочка всегда ликовала; она крепко обвивала ручонками шею Сидора и, целуя его, восклицала, заливаясь беззаботным смехом: "Сиденька! Ми-енький!" – что должно было означать "миленький Сидор".
Вообще Сидор проявил необыкновенную нежность в обхождении с детьми и такую ловкость, что удивлялась даже старая нянька. Случалось, что дети расшалятся до того, что нет с ними сладу; тогда Сидор важно и медленно входил в комнату, сложив назади руки, и, выдержав паузу, важно заявлял:
– Ну, дети, давайте думать.
– Как думать? – интересовался Ваня.
– А вот как... Смотри.
Сидор медленно опускался на стул и хмурил брови.
– Вот я сяду и буду думать, а ты на меня гляди. Потом ты сядешь и будешь думать, а я буду глядеть.
Это было так ново, что крики смолкали, беготня затихала, и Сидор с минуту сидел молча и неподвижно, строго нахмурясь, а Ваня молча глядел на него, ожидая, что вот-вот он сейчас сделает что-нибудь интересное.
– Теперь ты садись и думай, – обращался к нему Сидор немного спустя, – а я вот только в чулан схожу, вино принесу.
Затем он уходил и не возвращался, а дети, в ожидании его, занимались чем-нибудь другим, и капризы их или шалости прекращались.
IV
В клубе, между тем, разнеслась уже весть, что у Березина объявились дети; втихомолку приятели пересмеивались, ожидая случая подтрунить над ним, и случай такой представился вскоре, когда в клубе был маскарад.
Александр Ильич, заняв по обыкновению, столик, сидел за бутылкой лафита в ожидании знакомых и с спокойным любопытством оглядывал туалеты проходивших мимо него дам.
– Вот он, герой-то наш, а мы его ищем! Здравствуй, Сашенька! Поздравляем, голубчик! – весело говорил ему Мюллер, подойдя вместе с Керчиным.
Оба они подсели к столу и, продолжая смеяться и шутливо раскланиваться, требовали угостить шампанским.
– С какой стати? Я не именинник.
– Именины не штука, именины каждый год бывают! – говорил Мюллер, похлопывая Александра Ильича по спине. – А ты, Сашенька, не лукавь. Слышали, братец, слышали! Ставь-ка флакончик холодного, – шила в мешке, брат, не утаишь!
В это время подошел третий приятель.
– Александр Ильич! Батюшка ты мой! – воскликнул он еще издали, протягивая к Березину руки. – Поздравляю, поздравляю!.. Вот уж именно по пословице вышло: не было ни гроша, да вдруг алтын!
– Да с чем вы меня поздравляете?
– Детей полны комнаты, а ты спрашиваешь, с чем!
Все трое громко и дружно расхохотались, так что смех их привлек к столу еще нескольких знакомых.
– В чем дело? С чем вы его поздравляете? – спрашивали они весело.
– Ребятишек Господь послал, а он и шампанского поставить не хочет на радостях!
– Сын или дочь? – спросил кто-то шутливо, трогая Березина за плечо.
– Двойня! – ответил за него кто-то другой, и опять все дружно захохотали.
На этот раз Березин обиделся. Он встал и, шутливо махнув рукою, молча ушел побродить по залам.
Публики было всюду много. Везде мелькали фраки и домино, голые женские плечи. Березин с улыбкой отвечал направо и налево на поклоны знакомых, но ему было не по себе. Смутное чувство какой-то неурядицы и тоски постепенно овладевало его душой. Ему было жалко сестру и досадно на нее, было жалко Култаева, жалко самого себя, потому что приходилось возиться с детьми, – и – неизвестно ради чего – стеснять и уродовать свою жизнь. Неуместные шутки приятелей, глупые намеки и глупый смех показались ему в эту минуту еще более глупыми, чем вначале, а сами приятели – бессодержательными, пошлыми людьми, и было стыдно, что, в сущности, он и сам нисколько не лучше, что он такой же пошляк, такой же развратник, погубивший за картами и вином свою молодость. На мгновение он взглянул иными глазами на клубскую маскарадную обстановку, на окружающие лица, на мелькавших мимо женщин, и что-то неясное и незнакомое защемило вдруг ему сердце. Но это было только на одно мгновение. Подошла маска, называвшая его то Александром Ильичом, то Шурочкой, то говорила на ты, то на вы; он тоже называл ее Ольгой Николаевной, а иногда Лелей. Шутя и смеясь, они возвратились к столу и принялись за ужин. Ольга Николаевна сняла перчатки и маску, которая мешала ей есть и смеяться, и почти без умолку рассказывала об общих знакомых, о сегодняшнем маскараде, о туалетах. Это была женщина невысокого роста, с тонкой красивой талией и серыми красивыми глазами.
– В самом деле, отчего вы меня не угостите шампанским? – вдруг меняя разговор, обратилась она к Березину. – У вас, говорят, есть какая-то причина. Смотрите, скрытный человек, я доберусь!
– Никакой причины нет, – шутливо отвечал тот, – но зато нет причины и не выпить.
– Лжешь! Я знаю, что лжешь! – настаивала Ольга Николаевна, кокетливо грозя ему пальцем. – Мне сейчас Василий Васильевич сказал, что у тебя что-то случилось, но ты скрываешь.
– Болван твой Василий Васильевич!
– И Мюллер говорил, что есть причина.
– Ну, и Мюллер болван!
Оба они, наконец, рассмеялись и, когда подали шампанское, дружно чокнулись.
– За твою тайну. Хочешь?
– Пей, – равнодушно ответил Березин. – Только никакой тайны нет.
Ольга Николаевна прищурила глаза и спросила серьезно:
– Дашь честное слово не лгать?
– С удовольствием.
– Ты женишься? Да?
Березин всплеснул руками.
– Ты с ума сошла! – засмеялся он и, повторив ту же фразу, опять расхохотался. – Это я-то женюсь?.. Мало же ты меня знаешь!
В течение вечера с Ольгой Николаевной здоровалось много незнакомых Березину мужчин; с каким-то генералом она даже уходила гулять по залам, и когда вернулась, старик улыбаясь целовал у нее руки. Многие предлагали свои услуги проводить Ольгу Николаевну домой, но провожать ее поехал все-таки Березин, когда было уже под утро.
Скрывать от приятелей присутствие детей становилось более невозможным: все это знали, и всякие отговорки были бы смешны. История Култаевых перестала быть тайной, но Александр Ильич не мог примириться с мыслью, что его родная сестра сделалась чьей-то любовницей, и исковеркала весь строй его жизни.
"Увези ты ребят, ради Бога, – писал он Култаеву. – Надоели до смерти!"
"Развяжи ты мне руки, – писал он сестре, – увези детей!"
Но время проходило, а ни сестра, ни Култаев, точно сговорившись, не присылали ответа. Это бесило Александра Ильича, и он старался проводить время в клубе, либо у приятелей, либо у Ольги Николаевны, у которой квартира была маленькая, обстановка небогатая, но все было так просто, уютно и хорошо, что Березину его большой дом казался сараем.
Однажды, потягиваясь в кресле у нее в будуаре и прихлебывая кофе с коньяком, Александр Ильич жаловался ей на сестру.
– Я не знаю ее, – сказала Ольга Николаевна, – но знаю одно, что бросив мужа, она стала счастливее.
– Это почему? Он добрый малый, только нужно его держать в руках.
– Он – муж...
– Так что же?
– Э, все мы таковы! – махнула рукой Ольга Николаевна. – Пока мы чувствуем под ногами твердую почву, пока мужчина относится к нам хорошо и по совести, – мы несчастны, неудовлетворены и знать ничего не хотим, потому что мы привыкли мучиться и мучениями покупать себе счастье.
– Разве это так умно?
– Я и не говорю, что умно. Мы глупы, мы мелочны, мы фантазерки, от этого и не ценим спокойствия, не ценим того, что дает нам семейная жизнь. Я про себя скажу...
Она на секунду задумалась, как бы решая – говорить или промолчать, и сейчас же повторила:
– Я про себя скажу... Когда я была замужем, я менее всего интересовалась своим мужем, хотя любила его. Да, – развела она руками, – это удивительно!.. Я одобряю мужчин, которые не женятся.
– И меня? – улыбнулся Березин.
– И тебя. Да для чего жениться? Чтоб над тобой был постоянный гнет и контроль, чтобы для всех, кроме тебя одного, жена старалась быть интересной, а тебе не позволяла бы никем интересоваться. Для этого нужно жениться? Я знаю пример: девушка-институтка живет с одним господином, они не венчаны, у них даже дети есть, но посмотри, как они счастливы! А вот если б она же вышла замуж за того же, то получилось бы Бог знает что!.. Мы не терпим почвы под собою. Пока мы на шаткой почве, пока мы не уверены за завтрашний день, мы сумеем быть и интересными, и живыми, и даже сами довольны и счастливы, а чуть только почувствуем, что стали твердо, сейчас и лень у нас явится, и распущенность, и корсет начнет тяготить, и ворчливость поднимется... Перед мужем да причесаться как следует? Перед мужем да щеголять в настоящем платье? Нет, лучше я рваный капот надену, чтобы болтался на теле, лучше волосы гривой распущу да буду стонать, что голова болит, что нездоровится, а уж для мужа ничего не сделаю: он и без того – мой! Вот каковы мы, женщины.
– Оттого вас так часто и обманывают, – заметил Александр Ильич.
– Мы сами любим обманываться. Это наша жизнь.
Она хотела что-то еще добавить, но передумала и быстро встала. С улыбкой, в которой чувствовался вопрос, не то лукавый, не то сердечный, она, красиво изгибаясь, приблизилась к Березину и положила ему руки на плечи, потом стала гладить его волосы.
– Если б я была твоей женой, разве я сидела бы с тобой целый вечер? Стала бы ласкать тебя?
На свои слова она сама же отрицательно покачала головой, а Березин, не вставая и не меняя позы, поймал ее руку и начал гладить ее и целовать. Потом он обнял Ольгу Николаевну за талию и посадил к себе на колени; потом поцеловал ее в висок, в руку, опять в висок и в губы. Та не противилась, и даже прилегла головой к нему на плечо.
В прихожей раздался звонок.
– Кто еще там? – с неудовольствием проговорил Березин, выпуская из своих рук Ольгу Николаевну.
– Верно, кто-нибудь из заблудших мужей, – усмехнулась та. – Ах, как я люблю дурачить этих благонамеренных дам! Недаром они меня так ненавидят.
Но в прихожей послышались знакомые голоса. Это были Керчин и Мюллер.
– А мы за вами! – сказали они вместе, когда к ним вышла хозяйка. – У крыльца дожидается тройка... Собирайтесь, прелестная, поскорее.
– Ба! Да здесь Александр Ильич! – обрадовался Керчин, увидев знакомую шапку. – А мы в клубе винтили... Думаем, куда наш приятель девался... Да с горя и собрались за город.
– Это мило! – весело воскликнула Ольга Николаевна. – Ночь морозная, лунная... Ах, как вы умно сделали, что заехали! Я сейчас оденусь.
Она торопливо ушла, почти убежала, а Мюллер стал звать Березина.
– Сашенька! Где ты там? Выползай на свет Божий, в Стрельну сейчас поедем...
Александр Ильич вышел, и они условились ехать вместе, а пока переодевалась хозяйка, успели сообщить друг другу о сегодняшнем винте и обеде.
– Ну, я готова!
В дверях появилась Ольга Николаевна, застегивая на ходу перчатки. Она была очень эффектна и ее стройная фигура, затянутая в черное платье, вызвала общий восторг.
– Чёрт возьми! С такой женщиной не за город, а на всемирную выставку надо ехать! – воскликнул Мюллер.
Ольга Николаевна молча погрозила ему пальцем и обратилась ко всем.
– Ну, едем, едем! Я так давно не каталась. Ах, какие вы умные, господа, что заехали!
Шутя и смеясь, все стали одеваться и весело вышли на улицу, где дожидалась их тройка.
Стояла ясная морозная ночь... Прогулка за город в такой близкой компании была для всех приятной. В Стрельне они ужинали, у Яра пили шампанское и слушали цыган; Ольга Николаевна все время была весела, хохотала и пела, даже выпила со всеми на брудершафт и говорила всем "ты".
– Друзья мои! – воскликнула она, наконец, смеясь и опуская поднятый бокал. – У меня голова кружится... Я сегодня слишком много пила.
– Позвольте! Загадка, загадка! – перебивая ее, закричал Мюллер. – Угадайте загадку: когда женщина бывает зубаста?
– Знаю, голубчик: когда она "пила".
– Знаем, знаем! – замахали ему руками. – Сто раз слыхали.
Мюллер любил каламбурить, и над ним справедливо шутили, говоря, что у него в запасе четыре каламбура, старых как мир и известных любому мальчишке, но Мюллер все-таки каждый раз пускал их в дело, и выходило смешно только то, что он не замечает, как это скучно.
– У меня голова кружится, – повторила Ольга Николаевна. – Я не могу больше пить... Голова в тумане...
– Позвольте! – закричал Мюллер. – Голова в тумане, или туман в голове?
– И то и другое, – засмеялась Ольга Николаевна. – Ведь бывает так, что и то и другое случается?
– Бывает, бывает! – подтвердил Мюллер и встал, чтобы сказать каламбур, который опять был всем известен. – Все бывает! Было раз даже так, что ничего не было!..
– Скажи, немец, что-нибудь поновее! – упрекнул Березин, и Мюллер не возражая сейчас же вышел на средину комнаты, держа в руках бокал.
– Господа! – заявил он громко. – Речь!
– Браво, браво! – захлопала в ладоши Ольга Николаевна. – Голубчик! Феденька! Скажи что-нибудь веселое, хорошее!
– Вот тебе тема, – предложил Александр Ильич. – Скажи так, чтобы наша Олечка выпила свой бокал.
– И выпьет! – успокоил Мюллер, а потом, грозя пальцем, обратился строго ко всем: – Только, чур, не перебивать!
Все согласились и замолчали.
– Милостивая государыня и милостивые государи, – начал он, улыбаясь и поглядывая на улыбающиеся лица приятелей. – Все имеет свое начало и свой конец, но никто не может сказать, где начало того конца, которым оканчивается начало...
"Ну, пошел городить!" – вслух подумал Керчин, но Мюллер не слушая продолжал:
– Веселье наше еще вначале, а уж вину конец, и вообще наша жизнь полна неожиданных противоположностей: иных горячит холодное шампанское, у иных от белого вина нос делается красным... Итак я начал о конце: повторяю, вино наше кончилось, и следует, когда я кончу, начать с новой бутылки от имени нашего драгоценного и почтеннейшего Александра Ильича в честь совершившегося события. Пью за его здоровье и терпение и за его детей!
– В самом деле! – воскликнула Ольга Николаевна. – Это хорошо! Мерси, Феденька! За это даже и я выпью!.. Пусть голова кружится!.. Александр Ильич, за ваших деток!.. Мерси, Феденька; браво! Это очень кстати!
С Березиным полезли все чокаться, и он, пожимая плечами, шутя принимал поздравления.
– А детскую-то, детскую-то! – требовал Мюллер. – Детскую бутылку пожалуйте!
Подали еще бутылку, и когда ее кончили, то поехали по домам.
Березин вернулся несколько возбужденным, с тяжелою головой, и был удивлен, когда дверь отперла ему нянька.
– А Сидор? – спросил он.
– У Сидора, батюшка, зубы болят; весь день маялся, я уж и говорю: ложись, без тебя барину отопру. Измучился, сердешный.
– Дай-ка мне сельтерской.
Пока нянька шарила в буфете, пока искала стакан и штопор, Березин, проходя мимо детской, сначала остановился, а потом заглянул в полуотворенную дверь. Там было тихо, безмолвно, и мягкий свет лампады придавал всей комнате какой-то особенный вид.
У стены стояли одна возле другой две кроватки с высокими бортами, и маленькие золоченые образочки светились в изголовьях... Старая, мирная, позабытая картина!.. Невинностью и счастьем веяло от всего, и хотелось верить, что именно здесь присутствует тихий ангел-хранитель, благословляя покой младенцев, тот невидимый ангел-хранитель, который давно отлетел от взрослого человека, и ничем, никогда не вернешь его!.. Отлетел и унес с собою невинный покой, тихие радости, лучезарные сны... Незаметно проходит детство, и вот она, смутная, быстрая молодость, возникает, и бьет ключом горячая кровь, но не поспел оглянуться, а уже сердце изныло, силы потрачены, на душе тяжело... Где ж жизнь? В чем жизнь, вопрошаешь себя, и в ответ выступают, когда уже поздно вернуться, вереницы вздорных, глупых, неправых дел, и видишь, что в них заключалась та самая жизнь, которая дается тебе один раз на вечные времена. И ужас и холод обвевают душу, но чувствуешь и знаешь, что ты бессилен, что твоя песенка спета, и нет тебе иного выхода, кроме смерти...
Боясь заскрипеть сапогами, Александр Ильич осторожно подошел к кроватке. Там лежал Ваня с зажмуренными глазами и с чуть приоткрытым ртом; он дышал легко и ровно, и, глядя на него, Березин не знал, что делать, но ему хотелось что-то сделать, или что-то сказать, и он невольно и смущенно перекрестил ребенка, потом подошел к другой кроватке. Девочка спала, подложив под правую щеку ладонь, а другую руку отбросив небрежно в сторону; вязанное одеяло немного сползло, и из-под него виднелась крошечная голая, пятка, которую Березин сейчас же прикрыл, и опять не знал, что делать далее, но по-прежнему хотелось что-то сделать, или что-то сказать...
Вошла нянька.
Березину стало досадно, что его застали здесь, и он спросил деловым тоном:
– Дети здоровы? – и сейчас же ушел к себе.
Ложась спать, он вспоминал сестру и Култаева, который ведет пьяную, беспутную, почти безумную жизнь, но сейчас же припомнилась ему и своя жизнь – точно такая же безумная и беспутная.
V
Была суббота, и нянька объявила детям, что их сейчас будут купать. На полу стоял уже для тепла большой самовар и наполнял комнату паром. Первая очередь была за Людмилой, и ее раздели; на двух стульях укрепили ванну, Сидор из усердия сам натаскал воду, холодной и горячей, и вливал в ванну ровно столько из обоих ведер, сколько требовала нянька, стоявшая в ночной кофте, с засученными рукавами, и мешавшая рукой воду.
– Хорошо, Сидор Михалыч, благодарствуйте!.. Садись, Лиленька, садись миленькая; завтра тебе дядя какую конфетку привезет! Садись, моя умница, садись, красавица!
Маленькое бледное тельце Людмилы погрузилось в ванну. Девочка захлопала по воде руками, отчего на умилившегося Сидора полетели теплые брызги, но, утираясь, он улыбался и приговаривал:
– Ишь, ты разбойница! Ничего, ничего... Вот тебе сейчас нянюшка головку намылит, а ты глазки зажмурь... Будешь чистенькая... беленькая...
Не успел он еще и договорить, как лицо его приняло вдруг серьезное тревожное выражение и, приложив к уху ладонь, он прошептал:
– Батюшки! Никак барин? Затолковался я с вами, а он, глядишь, и приехал! – и Сидор побежал в переднюю отпирать двери.
Через минуту в детскую донесся звук веселого женского голоса.
– Где они? В какой комнате? Я хочу поглядеть!
Дверь отворилась, и нянька с удивлением увидела Ольгу Николаевну, которая вошла в шапке и перчатках. При виде незнакомой барыни, старуха смутилась, а Ваня потупился и глядел сурово, исподлобья, ухватившись для безопасности за нянькино платье.
– Вот они, детки! – воскликнула Ольга Николаевна, почти подбежавши к ванне. – Здравствуйте, няня. Дайте мне поглядеть детишек... О, да какие славные! – восторгалась она, глядя то на Ваню, то на Людмилу. – Прелесть моя! Девочка!..
Она торопливо сняла, почти сорвала с себя перчатки и, забравши в обе руки Людмилино личико, начала целовать, потом подхватила Ваню и прижала его к груди так быстро и неожиданно, что тот не поспел опомниться.
– Какие славные! Какие милые детки! Как их зовут?.. Тебя, кажется, Ваней зовут? А ее как? Какие хорошенькие, красивые! – без умолку тараторила Ольга Николаевна, и видно было, что она говорила искренно. – Голубушка! Няня! – обратилась она сейчас же к старухе. – Дайте мне, я вымою девочку!
И, не дожидаясь согласия, Ольга Николаевна быстро начала расстегивать лиф, быстро сбросила его, сбросила шапку, сняла с пальцев кольца и, оставшись в корсете с голыми по плечи руками, выхватила у няньки мыло и начала намыливать Людмиле голову, болтая ей о разных пустяках – о конфетах, игрушках и кошках. Когда мыльная вода потекла с головы по лицу и губам, девочка, крепко зажмурив глаза и сжавши рот, начала вертеться, хлопать по воде руками и кричать, но Ольга Николаевна проворно окатила ее чистой водой и протерла ладонью глаза.
– Вот и все, моя крошка! Вот и будет! – весело говорила она, обещаясь достать ей сейчас же из кармана куклу в золотом платье с красной шапочкой.
Но пока она говорила и обещала, в это время уже намылила губку и стала тереть Людмиле грудь, спину, шею, и та, растерявшись, сидела смирно, и взгляд ее выражал полное недоумение. Затем ее окатили еще раз чистой водой, подняли из ванны и, закутав с головой в простыню, перенесли на постель, потом надели сорочку и уложили спать.
– Няня, положите ей куклу в кроватку. Она была умницей, и ей надо за это игрушку дать.
– Какую игрушку? – возразила нянька. – У нас только лошадь без головы да мячик резиновый.
– У вас игрушек нет?
– То-то, что нет. Откуда им быть?
– Да что же вы не скажете! Разве можно без игрушек?.. Чем же дети занимаются?
– Чем занимаются... Бегают из угла в угол, только и дела. Здесь, небось, не своя воля, а барину про башмаки-то сказать страшно, не то что глупости просить. Вона в чем ходим!
Нянька показала детский башмак со стоптанной подошвой и добавила:
– Не своя воля. Что ж теперь будешь делать!
Ольга Николаевна удивлялась, качала головой в знак неодобрения и обещала завтра же всего накупить и все исправить.
Когда она уехала, нянька прежде всего обратилась к Сидору за разъяснением:
– Это кто ж такая? – спросила она тихо и с любопытством, но Сидор в ответ только улыбнулся и подмигнул глазом.
– "Сударыня", значит? – догадалась старуха.
– Сударыня, – весело, но секретно подтвердил Сидор.
– Какая шустрая!..
На другой день поутру, когда дети только что встали, Сидор принес огромный картон и поставил его на пол.
– Это что? – начал допытываться Ваня. – Это кому?
Он с любопытством и нетерпением глядел, как Сидор начал разматывать веревку, потом снимать крышку и выбрасывать оберточную бумагу.
– Конь! конь! конь! – закричал в восторге Ваня, увидав в картоне лошадиную голову.
Он даже вспыхнул от радости, захлопал в ладоши и заплясал возле Сидора, а Сидор и нянька, наклонившись над ящиком, таинственно и серьезно, точно два волшебника, шарили в бумаге руками, вынимали не спеша подарки и ставили их на пол. Подбежала Людмила и вместе с братом визжала и ликовала.
– Конь! Конь! – кричал Ваня, а Людмила, увидав куклу в красной шапочке, восторженно взвизгивала:
– Кукля! Кукля!
– Видишь, какая тетя добрая! – наставительно говорила нянька. – Вчера Лилечка вымылась хорошо, не плакала, вот ей тетя и подарки прислала.
И дети, и нянька, и Сидор настолько увлеклись общей радостью, что совсем забыли про Александра Ильича, который еще спал, и разбудили его своими криками. В халате, с заспанным лицом, еще не умывшись, он вошел в детскую, но его не видели и не слышали. Сидор сидел на полу возле пустого картона и выстраивал в линию деревянных солдатиков, нянька, тоже не вставая с пола, охорашивала на кукле платье, а Ваня и Людмила сидели, обложенные игрушками, и кричали на разные голоса. Ваня погонял вожжами коня, а Людмила катала разноцветные шарики и жевала конфету.
– Откуда это? – спросил Березин.
Все обернулись. Сидор вскочил как ужаленный, а нянька поднялась грузно и не спеша. Дети замолкли.
VI
Время летело быстро, и зима была на исходе. За детьми, однако, не приезжали ни мать ни отец, и они продолжали жить у Александра Ильича по-прежнему. Перелом в жизни, помеха и неудобство, которых он ожидал от них, более не смущали Березина; он свыкся с ними и примирился, сознав свою обязанность и покорившись ей.
"В самом деле, кому же было заботиться, приютить и воспитать малюток, ничуть неповинных в том, что родители их дурят и ссорятся?" – думал иногда Березин. Хоть и досадно было урезывать свою независимость и привычки, но не помочь детям, к тому же родным племянникам, было совестно и беспорядочно. На первое время, правда, было трудно переносить всю эту детскую суматоху, этот бессмысленный лепет, бессмысленные восторги и огорчения, надоедливые вздохи и жалобы няньки, глупую сентиментальность Сидора, но что ж поделаешь, если такова сама жизнь?.. День за днем и шаг за шагом сближали Березина с племянниками, против воли, против желания. Однажды, увидев мимоходом Людмилу, он погладил ее по голове и что-то сказал ей.
– Дяденька! Миленький! – вдруг обратилась девочка, весело и ласково взглядывая ему в глаза; потом она рассмеялась и с чисто детскою искренностью потянулась к нему ручонками. – Дяденька! Миленький! – восклицала она, немного картавя и заливаясь смехом.
Нежное личико ее было так радостно, так весело, что Березин невольно остановился и снова протянул руку, чтобы поерошить ее мягкие шелковистые волосы. Движение это девочка приняла за шутку, засмеялась еще веселее, обхватила протянутую руку своими крошечными руками и, боясь, что дядя будет ее щекотать, прильнула к его руке щекой.
Александр Ильич в первый раз в жизни ощутил на своей огрубевшей руке прикосновение нежного атласистого тела ребенка, в первый раз в жизни увидел такое наивное доверие к себе, искреннее, беспричинное, и против желания не осмелился выдернуть руку из объятий Людмилы, боясь ее уронить со стула. Он видел перед собой необыкновенно слабое существо с необычно-искренней душой, искренними восторгами, беззаветной доверчивостью, которые светились в этих детских глазах, слышались в этом необдуманном лепете, в беззаботном смехе, и Березин почувствовал в душе своей какой-то упрек и тихую радость. Ему захотелось даже сделать ребенку что-нибудь приятное, и он спросил няньку, не придумав ничего лучшего:
– Детям дают пирожное?
Оказалось, дают, – и он был бессилен выдумать что-нибудь иное для удовольствия девочки.
Ваня тоже был ласков, но часто надоедал ему своими вечными вопросами.
– Дядя Саша, – обращался иногда Ваня к Александру Ильичу, когда приходил будить его по утрам. – Отчего все мы спим, и няня спит, и я, и Лиля, и ты спишь, а Сидор не спит?
– И Сидор спит.
– Нет, не спит. Он говорит, ему некогда спать.
Или спрашивал так:
– Дядя Саша! Для чего у нас волосы растут?
Березин улыбался на такой пустой вопрос, однако не знал, что на него ответить, и отделывался тем, что говорил:
– Будешь учиться, тогда узнаешь.
– А Сидор говорит, для того, чтоб их стричь, – отвечал сам себе Ваня. – Который мальчик дает стричь, тот умный, а который плачет и не дает, тот нехороший...
Как бы то ни было, но Березину делалось очевидно, что Ваня всегда беседует с Сидором. Это ему не нравилось, во-первых, потому, что Сидор как-никак, а лакей, а во-вторых, было стыдно, что этот лакей понимает детское сердце лучше, чем он; было стыдно и перед Ваней: благодаря глупому образу жизни, он предоставил его всецело прислуге и, несмотря на безделье, не имеет времени с ним серьезно заняться. Было стыдно и за то, что лакейское воспитание портило речь ребенка, и Александра Ильича всегда коробило, когда Ваня произносил неверно слова, например: "у мужчинов", или "без шалостев"... Но особенно он смущался, когда расспросы касались религии или семьи.
– Нас сегодня водили к обедне, причащаться, – заявлял Ваня. – А для чего это причащаются, дядя Саша?
К стыду своему, Березин так одичал в клубной и ресторанной обстановке, что буквально не находил никакого ответа. Он мог бы говорить об этом с человеком взрослым, но что сказать ребенку?
В кабинете Александра Ильича стояла яшмовая пепельница, которую мальчик однажды уронил и разбил. Сидор так и ахнул, когда увидал осколки.
– Что ты наделал! – ужасался он, зная, что это любимая пепельница барина. – Что ты наделал! Как теперь сознаваться?
И Сидор, и нянька охали и вздыхали, и оба чувствовали себя виноватыми: няня не доглядела за мальчиком, а Сидор – за кабинетом.
– Что ж теперь с тобой делать? – спрашивали они оба у Вани.
Ваня стоял перед судом молча, опустив голову и покраснев до ушей.
– Дядя теперь и меня прогонит, и няню будет бранить, и тебя выпорет, – вот что ты наделал! – говорил Сидор искренно беспокоясь.
– У, бесстыдник! – ворчала и нянька. – Только бы тебе все ломать да крушить!
Весь день и весь вечер прошли в томительном ожидании. Ваня присмирел; его смущало не самое преступление, но смущал Сидор, который, качая головой и вздыхая, бесцельно бродил по комнатам и всякий раз останавливался перед Ваней и говорил с укором:
– Что нам теперь будет?
Березин вернулся ночью, когда дети спали, и Ваня к утру совершенно забыл о разбитой пепельнице, и с покойною совестью вбежал к дяде – будить.
– Дядя Саша! Пора вставать! – весело закричал он по обыкновению, но Березин уже проснулся ранее и глядел на него холодно и строго.
– Поди-ка сюда, – сказал он. И Ваня вдруг вспомнил свое преступление; страх пробежал морозом по его телу.
– Кто разбил пепельницу?
Мальчик потупился и молчал.
– Я спрашиваю: кто разбил пепельницу? – строже повторил Александр Ильич.
Ответа не было.
– Ты не знаешь?.. Ну, говори: ты не знаешь, кто разбил?
– Знаю, – чуть слышно проговорил Ваня.
– Кто?
Опять молчание.
– Кто разбил пепельницу?
Ваня стоял смущенный, совсем низко опустив голову, и вертел пальцами пояс; лицо его надулось, губы распухли. Но легче было простоять до ночи на одном месте с опущенной головой и замиравшим сердцем, легче было стерпеть всякое наказание, чем вымолвить в ответ роковое слово, и Ваня молчал.
Березин, наконец, рассердился. Сбросив с себя одеяло, он быстро поднялся и сел на кровати.
– Будешь ты мне отвечать? – почти закричал он. – Кто разбил пепельницу?
Губы мальчика дрогнули. Послышалось какое-то тихое, короткое, неясное слово.
– Говори громче!
– Я... – расслышал, наконец Березин смущенный шепот.
– Кто же тебе позволил входить в кабинет?
Ваня продолжал вертеть одной рукой пояс, а другая рука была опущена, как плеть.
– Кто тебе позволил входить ко мне?
Не поднимая головы, Ваня ответил смущенно и тихо:
– Никто...
– Так как же ты смел?
– Никак...
Ответы были настолько прямы и наивны, что Александру Ильичу стало смешно, но мальчик стоял перед ним в прежней позе, по-прежнему смущенный, в ожидании строгого наказания.
– Ну, так ступай в угол!
Ваня повернулся и покорно пошел, все еще не поднимая головы и по-прежнему надувши губы. Он сам выбрал место между двух стен и в угол уткнулся носом, не произнеся ни одного слова.
Прошла минута. Березин наблюдал за ним с веселым любопытством и вспоминал, как, бывало, так же наказывали его самого и как в то время это казалось ему обидным и горьким.
– Ваня! – окликнул он, наконец. – Поди сюда.
Тот подошел не спеша, с сердитым и виноватым лицом, и остановился, на шаг не дойдя до Березина.
– Я тебе говорил, чтоб без меня сюда не ходить... – начал было он, но вдруг вспомнил ответы ребенка, которые его насмешили, и ему снова захотелось повторить их,
– Как же ты смел входить?
– Никак...
– То-то!.. В другой раз буду наказывать.
– Милый дядя, прости, больше никогда не буду, – тихо, все еще надувшись, точно сердясь на Березина, проговорил Ваня, очевидно, затверженную фразу, без всякого сокрушения, без всякого смысла.
– Ну, Бог с тобой. Только чтоб вперед этого больше не было.
Ваня потянулся к нему для поцелуя, все еще хмурясь; но как только они поцеловались и, стало быть, разочлись, лицо Вани мгновенно оживилось, точно ничего между ними и не было, ни ссоры, ни счетов, и он, засмеявшись, проговорил сейчас же обычным веселым голосом:
– Проспал, дядя Саша! Давно пора вставать, а то Сидор тебе кофею не даст. Вставай!
Березин потянулся, зевнул и начал одеваться.
– Ты помнишь маму? – обратился он к мальчику. – Какая она?
– Высокая! – отвечал Ваня, стараясь поднять как можно выше руки. – А на пальце кольцо, которым она мне вот здесь оцарапала, – и Ваня показал себе на щеку.
– А папу помнишь?
– Папу? Помню. Он с бородой и все смеется. А когда я шалил за обедом, он стучал по столу ножом, а мама его бранила.
Подойдя к зеркалу, Березин начал повязывать галстук.
– Ты их любишь, Ванюша? – спросил он.
– Маму люблю, а папу нет.
– Почему?.. Надо любить одинаково. Может быть, ты и меня не любишь?
– Нет, тебя я люблю, дядя Саша. Ты ведь мне родной, и мама мне тоже родная, а папа...
Березин быстро оглянулся и сердито посмотрел на ребенка, как бы собираясь сказать: "Это еще, что за новости! Как ты смеешь!" Но Ваня продолжал:
– Мама нам всегда была родная, а папа был чужой, а когда он женился на маме, то стал и он родной.
Александр Ильич только пожал плечами.
– Откуда ты берешь такой вздор? – ужаснулся он. – Кто это тебе наговорил?
– Няня так говорит.
Березин знал, что нянька не любила Култаева, знал, что она была против него, но для чего же посвящать детей во всякие дрязги?.. Ему было непонятно, и он проворчал:
– Вот я ее, старую дуру!
Неосторожное слово, сорвавшееся с языка, Ваня заметил, и оно показалось ему настолько забавным, что, убежав в детскую, он прежде всего рассмеялся и, дергая няньку за платье, плясал возле нее и громко повторял:
– Старая дура! Старая дура!
– Я тебе дам, озорник! – рассердилась нянька. – Я тебе дам старую дуру!
И, ухватив его левой рукой за спину рубашки, правой отхлопала так, что Ваня заплакал.
– Бесстыдник этакий! Весь в отца!
И мальчик плакал, не понимая, за что его били; за то ли, что он громко смеялся и кричал "старая дура", или за то, что плясал и ухватился за платье.
VII
"Любезный брат! – так начиналось письмо, которое Березин получил из-за границы как раз в первый день Великого поста. – Я тебе очень благодарна, хотя ты и сомневаешься, что во мне осталась хоть капля человеческого чувства. Я благодарна тебе за детей и хвалю тебя, потому что при твоем образе жизни это подвиг; но мне досадно, что Кирилл Иванович, этот жалкий и мелкий человек, уверил тебя, будто Иван и Людмила не его дети. Я так презираю этого лгунишку и лицемера, что была бы рада, если бы он был прав, а теперь меня возмущает, что отец их – Кирилл Иванович! Я так его ненавижу и так презираю, и так он мне противен и гадок, что даже наши дети стали мне чужими, только потому, что они – его. В этом не я виновата. До сих пор меня все-таки тревожила совесть, я боялась, что дети попадут в дурные руки, а за тебя я спокойна, и совесть моя чиста".
"Действительно... чиста!" – с досадой подумал Березин и продолжал читать.
"Что касается меня, я вполне счастлива. Со всем прежним я порвала всякую связь и теперь точно переродилась. Содрогаюсь от омерзения, когда вспоминаю Кирилла Ивановича, который, кроме бильярда, вина и самообожания ничего не знал! Я начала теперь совсем новую жизнь, отделила себя от всех людей (кроме одного), и мои будущие дети, из которых первый скоро увидит свет"...
Березин остановился и, еще не веря глазам, перечитал: "мои будущие дети, из которых первый скоро увидит свет"...
– Да что ж это такое! – воскликнул он и взволнованно зашагал по кабинету, не дочитав письма. Он вдруг почувствовал себя чужим для всех и безнадежно одиноким. Тузов, Керчин, Мюллер, его ближайшие друзья и собутыльники, хороши и милы, когда хорошо на душе, но чуть стрясется беда, и не к кому из них пойти за добрым словом, а если пойти, так что они скажут? Выслушают и, из сочувствия, обругают сестру, а ему дадут коньяку, и увезут за город. Не этого хотелось теперь Александру Ильичу, и он даже сам не знал, чего ему хотелось.
Под тем же настроением обиды и одиночества, с тою же горечью, он подъезжал вскоре к квартире Ольги Николаевны. Все ему казалось неприятным и ненормальным; даже в воздухе было что-то особенное, что-то грустное и печальное; звонили к великопостной вечерне, и колокол звучал жидко, вяло, тоскливо...
Увидев его, Ольга Николаевна удивилась.
– Что с вами? – сказала она. – И поста на вас нет!
Она была в темной юбке и темной домашней кофточке, с пуховым белым платком на плечах; волосы, только что вымытые и влажные, были распущены, как у русалки, на ногах были мягкие туфли и шаги ее делались от этого неслышными.
– Я на десять минут – сказал Березин, чувствуя, что, несмотря ни на какие отношения, было не время гостям.
– Ты расстроен?.. Что-нибудь случилось? – слегка встревожилась Ольга Николаевна, трогая его за плечо и стараясь заглянуть в глаза, но Березин отвернулся и грубо проговорил:
– Ничего.
Тогда она насильно взяла его под руку и повела в будуар. Они молча сели на мягкий низенький диванчик, который сделался под ними еще ниже, и поглядели друг другу в глаза.
– Что с тобой? – снова спросила хозяйка.
Он опять отвернулся и забарабанил пальцами по дивану.
Ольга Николаевна пожала плечами.
– Не понимаю, – сказала она.
Тогда он сообщил ей новость. Он начал мерным внятным голосом; но по мере того, как рассказывал, все более и более горячился и, наконец, ударив себя ладонью по коленям, почти крикнул:
– Черт знает, на что похоже! Убежать... Все бросить... Новые дети... новый мужчина... И все это исподтишка!
Он ожидал совета или сочувствия, но Ольга Николаевна сидела несколько времени молча, закрывшись рукой и гладя лоб, точно обдумывала что-то. Потом она быстро взяла его за руку и спросила:
– А я? Разве не такая же? Значит, ты и меня презираешь?
– Ты не такая, – смущенно ответил Александр Ильич.
И он и Ольга Николаевна сидели молча несколько минут; всякий думал о себе.
– Хочешь обедать? – вдруг спросила хозяйка, словно нарочно отгоняя от себя прежние мысли.
Березин нехотя встал и равнодушно проговорил:
– Пожалуй...
Подойдя к столу, Александр Ильич выпил водки и закусил редькой, намоченной в уксусе. Затем подали гороховый суп, жареный картофель с грибами и гречневую кашу с вишневым рассолом; все было невкусно и постно. Разговор не вязался.
После обеда Ольга Николаевна подошла к пианино и, глядя на Березина, взяла несколько аккордов, потом тихонько запела:
Помощник и Покровитель
Бысть мне во спасение.
Се мой Бог и прославлю его...
– Как хорошо! – добавила она сейчас же. – Я люблю мефимоны!
И она повторила тот же мотив, только не пела. Грустные, полные, тягучие звуки раздавались и затихали; от них веяло скорбью и покаянием, точно чья-то живая душа изнывала и томилась, – и Березин заслушался. На минуту ему вспомнилась его юность и вместе сестра, в то время еще подросток, хорошенькая белокурая девочка, – и под звуки этих грустных аккордов казалось возможным воротить хорошее старое время... О, если б оно вернулось! И Березин думал, что если б оно вернулось, то он переиначил бы всю свою жизнь, потому что так жить, как он живет, глупо, тяжело и бессовестно!
Ольга Николаевна встала, закрыла пианино и начала поправлять свои распущенные волосы; при этом она трясла головой, запрокинув ее немного назад. Березин внимательно и спокойно глядел на нее, потом сказал:
– Знаешь, что, Леля! Я с тобой три года знаком, а право относился к тебе, как свинья... А ведь ты хороший человек!
– Нет, Саша, – вздохнула она. – Если б ты знал, какой я дурной человек!..
Она снова вздохнула, потом засмеялась, потом задумалась.
Вечером, когда Березин уехал, и Ольга Николаевна осталась одна, сама с собой, ей захотелось чем-нибудь заняться, но мысли ее расстроились, и всякое дело валилось из рук. Она велела зажечь в будуаре фонарь, а сама села на кушетку и среди голубого полусвета, среди тишины и одиночества, отдалась томившим ее думам.
Ей вспомнилось время, когда она была замужем, – смутное, странное и безрадостное время. Прямо из института, где строго и тщательно скрывалось от нее все, что готовила ей сама жизнь, она пошла под венец, и теперь, когда жизнь во всей своей наготе стояла перед ней лицом к лицу, Ольга Николаевна понимала, что мужу ее предстояла печальная задача: развратить неопытную девочку. И на законном основании он развратил ее и был прав! Все это было так ново и так смешно, и так стыдно, что она сбилась с толку и через год влюбилась уже в другого, а еще через год ей захотелось свободы, страсти, счастья, и она уже изменяла мужу... Какие это были мучительные, но счастливые мгновения!.. Потом пошли ссоры, нелады, возникло к мужу гадливое чувство, а у него закипела ревность и тоже, мало-помалу, перешла в гадливое чувство. Изо дня в день, из года в год это обоюдное чувство росло и разрешилось, наконец, семейной грозою – разводом.
Теперь муж ее умер, и она давно не питает к нему ни злобы, ни отвращения, даже жалеет его и считает во всем виноватой себя.
Ольга Николаевна вздохнула и, закрыв рукою глаза, вспоминала, как вслед за разводом появились у нее ловкие красивые мужчины; начались балы, маскарады, поездки за город, где пели цыгане свои раздражающие томительные романсы, и тут же рекой лилось вино; было шумно, весело, и точно сон, точно волшебный калейдоскоп, все кружилось, пылало пестрыми огнями, пьянило и восхищало, и некогда было отдохнуть от восторгов и прелести жизни.
Но и это прошло.
Появились новые герои: старый генерал, Березин, Мюллер, и мало ли было этих новых знакомых, которые кормили ужинами, возили в маскарады и провожали под утро домой. Было ли с ними весело, или гнала ее в их общество старая привычка, Ольга Николаевна не умела решить; знала она только одно, что без них она умерла бы со скуки. И она ездила в клуб и за город, и в театры, то с тем, то с другим, то со всеми вместе, и никто из них не претендовал на нее всецело.
И вот сидит теперь она дома одна, не смея показаться ни в одном семействе. Ее чуждаются, ее презирают, о ней даже не говорят. Что же из нее стало?.. Что она такое? Куда привела ее веселая жизнь? Что у нее впереди?
Ольга Николаевна представляла себе, как она состарится и умрет, и ей было больно и жутко чувствовать себя одинокой.
А генерал? А Мюллер? А все другие? Разве они не так же весело и постыдно провели свою жизнь, разве они не так же, как она, одиноки?.. И Ольга Николаевна знала, что они вовсе не одиноки: для них открыт любой дом, их познакомят с любой девушкой, позволят приласкать любого ребенка, между тем как ей ничто из этого недоступно. И ей было не совестно, не жалко, но – страшно. Она съежилась на своей кушетке, точно от холода, и глядела на голубой фонарь, который освещал комнату бледным мягким светом, похожим на лунный свет; только не было в нем той жизни и прелести, как в луне, и было обидно, что нет настоящей луны, нет настоящего зеленого сада, нет прежней молодости, чистых девичьих дум, и теперешняя жизнь казалась Ольге Николаевне такой же тусклой и мертвой, каким ей казался ее фонарь.
– Э, какой вздор! – рассердилась она вдруг на самое себя и быстро поднялась с кушетки.
Потом она подошла к пианино, зажгла свечи и начала играть сонаты подряд одну за другою.
VIII
В именины у Александра Ильича всегда бывал "званый вечер", и Сидору захотелось непременно в этот день отличиться. Ему было известно, что в хороших домах к именинам старших дети учат стихи, и он затаил в себе эту мысль – угодить барину, только не знал, откуда достать такие стихи. Однажды, ночью, когда ему не спалось, он вспомнил, что в соседнем трактире на прошлой масленице половые подавали картинки со стихами. Приказчик был ему знаком, и он отправился к нему за советом. Дело решили в два слова. Где-то имелся такой человек, который за полтинник напишет что угодно, и, действительно, через два дня стихи были готовы – маленькие, глупые, но как раз приноровленные к Березину, где восхвалялся дядя, приютивший сирот, которые поздравляют его с днем ангела.
– Ну, Ваня, теперь учи! – таинственно сказал Сидор, чрезвычайно довольный своей выдумкой. – Только ни-ни! До именин, смотри, не проболтайся!
Нянька тоже была в восторге, и Сидор приступил к делу. Ваня быстро выучил то, что ему читали по записке, и даже Людмила запомнила две последние строчки и, картавя, распевала их на все комнаты:
Честь имеем вас поздравить
Со днем ваших именин!..
Кроме того, Сидор, зная, что барин любит зернистую икру с зеленым луком, объявил Ване:
– Давай-ка лук сажать!
Он принес ящик из-под сигар, насыпал в него земли и посадил туда четыре луковицы.
– Видишь, – говорил он Ване, – будем мы с тобой теперь этот лук поливать из лейки, а к именинам вырастет вот какая зелень! Приедут гости, съедят и нам спасибо скажут.
Мальчик заинтересовался и весь день поминутно бегал к ящику, смотреть, как вырастет лук. Когда же через несколько дней появилась первая зелень, Ваня закричал, захлопал в ладоши и почти не отходил от окна.
– А цветы на нем будут? – спрашивал он Сидора, видя, как с каждым днем густеет и поднимается зелень.
Сидор утвердительно кивал головой и успокаивал:
– Будут; только руками не тронь.
Наконец, наступил торжественный день. Поутру Александр Ильич ходил к обедне, а когда вернулся, его встретили дети в парадных костюмах. Людмила, протянув ручонки, бросилась к нему в объятия, бормоча на ходу:
– С ангелом, милый дядя Саша! Честь имеем вас поздравить со днем ваших именин!
Если бы не ее поспешность и не картавый лепет, из которого ничего нельзя было разобрать, то она испортила бы весь эффект, высказав преждевременно заключительные строчки именинного стихотворения.
Предвкушая удовольствие, Сидор и нянька стояли поодаль в ожидании и блаженно улыбались, когда к Березину подошел Ваня, несколько смущенный своей неестественной ролью; он остановился за шаг до Березина и, глядя ему в глаза, начал произносить стихотворение, видимо волнуясь. Как оно ни было глупо, но Березин следил за ним улыбаясь, а когда Ваня произнес:
Честь имеем вас поздравить
Со днем ваших именин, –
Александр Ильич засмеялся и поцеловал его.
– Откуда это ты взял? – сказал он, гладя мальчика по голове. – Ну, спасибо, Ванюша, молодец, брат!..
К четырем часам стали съезжаться гости. Клубский повар пожелал отличиться и, имея в виду свое главное начальство – Тузова, состряпал обед точно на экзамен. Сидор, во фраке и белых перчатках, наблюдал за столом, накрытым в зале, и соображал, кого куда посадить и с кого начинать подавать.
Гости были исключительно свои люди, и никаких церемоний не было. Когда начали пить водку и закусывать у отдельного столика, приехала Ольга Николаевна с Мюллером; увидев ее, дети бросились навстречу, и она насилу отделалась от них, чтобы поздороваться с именинником. Наконец, все сели за стол; детей посадили тоже, и они были страшно довольны, что обедают с большими. К кушаньям подавали мадеру, херес и рейнвейн, но когда стали пить лафит, Ваня, увлеченный общим шумом и весельем, видя, как другие наливают, чокаются и пьют, вдруг закричал во весь голос:
– Дядя Саша, дай мне, пожалуйста, черного вина!
Ольга Николаевна захохотала, за нею засмеялись и гости.
– Какого тебе черного? – спросил Мюллер.
– А вот, которое вы пьете.
– Это красное.
– Нет, черное! – настаивал Ваня.
Опять все засмеялись и стали глядеть на лафит, как бы проверяя, черный он или красный, а затем начали предлагать друг другу, в шутку, уж не лафит, а "черное вино", пока не подали шампанское. Для именинного тоста налили в бокалы и детям лимонной воды и заставили кричать ура. Ваня кричал и пил, видимо увлеченный, а нянька, стоявшая позади Людмилы, косилась на него неодобрительно и, вздыхая, думала: "Ишь, пострел, весь в отца!.." Затем подали кофе с ликерами и сигары. Отхлебывая и похваливая кофе, Керчин говорил, что приготовлено мастерски, так как кофе должен быть горяч, как ад, и черен, как дьявол. Замечание понравилось всем, особенно Ване, и он, не понимая смысла, громко повторил, что кофе горяч как ад, и черен, как дьявол.
– Бесстыдник! – тихо огрызнулась на него нянька. – За столом черным словом бранишься!..
Вечером гости сели за карты; Ольга Николаевна тоже сначала играла, но потом вышла и занялась детьми, которым пела под рояль песни, учила Ваню играть одним пальцем "чижика", а потом уехала домой, захватив с собой для образчика старые детские башмаки, чтобы завтра прислать новые и крепкие.
Сидор был так доволен всем; и стихами, и детьми, и Ольгой Николаевной, и всеми гостями, что разрешил себе выпить. Уже несколько лет он отказывал себе в этом удовольствии, а тут не утерпел и в компании с нянькой осушил остатки рябиновой и полную бутылку мадеры. В голове у него сильно зашумело. К несчастью, это случилось раньше, чем следовало, и он пожелал уложить детей спать; сам раздевал Ваню я при этом болтал ему разные глупости про себя, про барина и про Ольгу Николаевну.
– Она нам тетя? – спрашивал Ваня, ложась в кроватку.
– Тетя-то тетя, – насилу выговорил Сидор, так как язык его и без того уже заплетался, – только тетя с другой стороны... да! Какая она вам тетя? Просто так... барыня! Ну, спи, спи, Господь с тобой... А то – тетя!.. Этаких тетей-то мы с Александром Ильичом человек сто видали, а то и больше... И все они вам тети!.. Ну, спи, спи скорей... Господь с тобой, спи.
В конце вечера Сидор поспорил с кухаркой, потом поссорился и чуть было не подрался. Самый разгар этой сцены, застал Березин, проходивший в кабинет за сигарами. Взглянув на Сидора, он понял сразу, в чем дело, и строго сказал:
– Я тебе говорил: если ты еще раз напьешься – вон от меня сию же минуту! Пошел спать, болван!
Сидор, не обращая внимания на угрозу, прежде всего обиделся. "Как, – думал он, – в присутствии кухарки его называют болваном?! И кухарка-то невесть какая, и цена-то ей грош, а барин осрамил его перед ней. Что же это такое?.. Где же справедливость?.. Сам же он выхлопотал эту кухарку у барина, сам же ее нанимал, и вдруг, когда они поссорились, барин при всех называет его болваном и гонит со двора".
Сидор даже заплакал от обиды и пошел снимать с себя фрак и белые перчатки, в доказательство того, что он уже более не служит у Березина. Потом он нарядился в серую куртку, снял со стены образ и, завернув его в бумагу, пошел к барину и к гостям прощаться.
– Вон отсюда! – топнул на него Березин, едва увидал в дверях.
И Сидор скрылся, не поспев даже выговорить слова. После такой обиды он решил, что не может оставаться здесь более ни минуты, и, захватив картуз, пальто да икону, ушел по черной лестнице ночевать к приятелю, чтобы поутру перевезти все имущество и навсегда расстаться с домом, где его не ценят и обижают.
Когда же на другой день хмель прошел и Сидор опомнился, то он ужаснулся и побежал домой. Но было поздно: Березин шутить не любил и все угрозы приводил в исполнение, поэтому Сидору выдан был паспорт, расчет и строгий приказ убираться вон.
Старик повесил голову, опустил руки и побрел в свою бывшую комнату. Там он огляделся; всякая мелочь, всякий гвоздик были ему знакомы и сделались точно родные. Он вздохнул и нахмурился. Потом он лег ничком на свою кровать и начал плакать, утирая слезы подушкой.
– Сидор! – закричал Ваня, вбегая к нему в комнату. – Сидор!
Тот, не отвечая и не поднимаясь, продолжал всхлипывать.
– Сидор! – повторил Ваня в недоумении, но, видя, что он не встает, подошел ближе и положил ему на ноги руку, потом взобрался к нему на спину и лег сзади него к стене.
– О чем ты плачешь? – спрашивал он, стараясь улечься удобнее. – Тебя наказали?
– Наказали... Сам Господь меня наказал, – ответил старик, смахивая слезы и поворачиваясь на бок, лицом к Ване. – Клятву давал не пить, ан лукавый попутал, – вот и беда.
– Какой лукавый?
– А такой, который людей губит.
Трясущеюся рукой Сидор погладил Ваню по стриженой голове и сказал:
– Жалко мне тебя, голубчика... Уж очень ты мальчик-то...
Он не договорил и заплакал, снова уткнувшись в подушку, потом стал рассказывать, как дядя его прогнал и как он сейчас уйдет отсюда в деревню и там с горя умрет.
– Будешь большой, Ванечка, вспоминай про меня... Я тебя любил, голубчик. А теперь умирать пойду... А к вам придет новый человек, будет также с мебели пыль стирать, дверь отпирать барину, одежду чистить... Вы про Сидора-то все и забудете...
– А ты не ходи, – сказал Ваня.
– Рад бы не ходить, да велят уйти – значит уйдешь. И некому будет тебе конфетку купить, некому будет сказку сказать...
Сидор опять растрогался и опять заплакал; слезы струились у него по щекам и тонули в подушке. Он обнял Ваню одной рукой и, снова перевернувшись ничком, всхлипывал и тихонько ныл, точно ребенок.
– Сидор... не плачь! – говорил Ваня, трогая его волосы. – Сидор!.. Не плачь!..
– Голубчик ты мой!.. Ангельчик!.. Родимый мой!.. – причитывал Сидор, не находя слов, чтоб выразить то, что хотелось и чем болело теперь его старое сердце. – Прощай Ванечка... Больше никогда не увидимся...
– Сидор!.. Не ходи!.. – сказал Ваня, начиная, его жалеть.
– Был Сидор, а ушел – и нет Сидора.
– Не ходи!
– Барин велел.
– Не ходи! – капризно настаивал мальчик и даже толкнул Сидора в бок.
– Ничего не поделаешь... В деревню уйду.
– Не ходи! – рассердился Ваня.
– Дядя метлой прогонит... Человек строгий.
И Сидор начал говорить, как Александр Ильич вернется домой, увидит, что он еще не ушел, и рассердится, и велит прогнать его палкой, как старую собаку... И опять ему стало обидно, опять хлынули слезы, и даже Ваня не удержался: ему тоже было обидно и жалко Сидора. "Не ходи! Не ходи!" – настаивал он все усерднее, все капризней и плаксивей и, наконец, бросился также лицом в подушку и заревел громко, протяжно и горько. И оба они, лежа ничком на одной постели, уткнувшись в одну подушку, проливали горькие слезы об одном и том же, и скорбь их слилась воедино. Они оплакивали свою дружбу, свои интересы, свой маленький мирок, недоступный и непонятный никому другому; обоим им вспоминался зеленый лук в сигарочном ящике и деревянные солдаты, и было во всем этом что-то такое, что одинаково трогало старика и младенца, и никакими словами не выразить, что это была за связь.
Березин вернулся рано, вместе с Тузовым; отпирала им нянька и не умела снять ни пальто, как следует, ни прибрать калоши. Когда они проходили по коридору, навстречу им вышли Сидор и Ваня, оба с красными, заплаканными глазами, оба встревоженные, а Ваня даже всхлипывал и все еще держал Сидора за фалду.
– Прощайте, Александр Ильич, – поклонился Сидор хозяину, а потом и Тузову, – прощайте, Дмитрий Павлович!
– Не ходи! – закричал опять Ваня. – Дядя Саша, не вели ходить! Он в деревню хочет уйти, он там умрет!
Но Березин, не останавливаясь, прошел в кабинет и ничего не ответил. Тогда Тузов, любивший всех мирить и все улаживать, обратился к Сидору:
– Ты что, голюбушка?
Сидор покаялся и заплакал.
– Ну, вот пустяки! – успокоил он старика. – Это мы сейчас сделаем.
Действительно, через пять минут из кабинета раздался звонок и позвали Сидора, а еще через минуту он уже вышел оттуда радостный и счастливый, смахивая на ходу последние слезы.
– Вот, нянюшка, – говорил он после, указывая в детской на образ, – разрази меня Бог, если хоть каплю вина когда-нибудь выпью!
И Сидор призывал няньку в свидетели своей клятвы, а Ване он купил на другой день шоколадный пряник.
IX
Прошел уже год, как дети поселились у Александра Ильича. Наступили опять холода и сырость; целыми днями не переставал дождь, и в детской вставили зимние рамы, за которые положили вату, мох, и поставили гипсовых раскрашенных генералов. О таком украшении год тому назад Сидор не смел бы и думать, а теперь он, улыбаясь, подходил к окнам и, указывая на кукол, говорил Ване: "Не замерз бы у нас генерал-то?"
– А мы его назад возьмем, когда снег пойдет.
– Нет, уж видно, не возьмем. Кончено дело! Пускай промерзает. Видишь, окно замазано: как же его теперь взять оттуда?
Приятели – Керчин, Тузов и Мюллер, чуждавшиеся вначале детей, мало-помалу свыклись с ними и собирались на винт по очереди друг у друга, не минуя Березина. Они являлись обыкновенно в неделю раз к Александру Ильичу, садились за чай, а потом весь вечер играли в карты, ужинали и расходились. Они уже настолько примирились с присутствием детей, что даже здороваясь, целовали Людмилу, и так как она была девочка ласковая и всех называла с искренним удовольствием "дяденька миленький", то и ее стали величать при встрече "Лиленька миленькая"; и она и гости были этим прозвищем очень довольны. Людмила ко всем ласкалась, ко всем охотно забиралась на колени и всех знала по именам.
– Это кто? – спрашивали иногда ее, указывая на Тузова.
– Дядя Тюсёв.
Прислушиваясь к ее картавому лепету, Тузов, сам охотник картавить, всегда с радостью подражал ей и говорил, как она: "сябака", "лосядка", а Березина не называл иначе, как "дядя Сяся".
Иногда, проснувшись по утру, но ленясь вставать, Александр Ильич долго лежал в постели и думал о том странном положении, в какое поставила его жизнь. Судьбу человека он почему-то представлял себе в виде огромного шара, который катится по определенному направлению, и, докатившись благополучно до предела, сваливается в неизвестную пропасть и исчезает... Его же судьба была иная и катилась она кое-как, каким-то надтреснувшим и иззубренным шаром, без всякого направления, ковыляя то вправо, то влево... В сущности, что он за человек? Зла он, кажется, никому не сделал, но и похвалить себя было не за что. Все эти рестораны, театры и клубы, конечно, невесть какие подвиги, чтоб отдавать им всю жизнь, но с другой стороны – кому от этого плохо?.. Он любит вкусно поесть, любит полную независимость и не сидит дома только потому, что скучно; ранее он думал, что ненавидит всякую семейную обстановку, особенно детей, но оказалось, что нет и этого; напротив, Людмила и Ваня были ему даже приятны. Только Ваня все чаще и чаще начинал осаждать его своими вопросами, и вопросы эти были уже не так наивны, как раньше. Очевидно в мальчике забродило сознание и нередко Березин смущался, не зная, что отвечать. Иногда он замечал, что Ваня стоит у окошка, стиснув зубами палец, и думает о чем-то так усиленно, что даже не слышит чужих шагов.
– О чем задумался? – спрашивал он его.
– Мне скучно, – отвечал мальчик.
– Чего ж тебе нужно?
Ваня надувал губы, точно обиженный, и разводил руками.
– Мамы нет... папы нет... Что же они не едут?
Березин тоже разводил руками и сердито вспоминал сестру, у которой теперь, может быть, родился уже новый ребенок, и было обидно за себя и за Ваню. Ранее мальчик никогда не говорил о разладе между, отцом и матерью; думали даже, что он не понимал ничего и не замечал, но теперь он каждый день справлялся об этом у дяди, у Сидора, у няньки, и Березин видел, что обман и ссоры не прошли бесследно для Вани и были замечены им и глубоко затаились до времени в его чуткой душе.
– А почему папа не любит Бориса Матвеича? – спрашивал он Березина.
– Какого Бориса Матвеевича?
– А вот который все с мамой затворялся. Для чего он с ней затворялся?
– Почем я знаю! Я там не был.
– А для чего папа лампу разбил, а Борис Матвеич убежал, а мама плакала? Папа был пьян? Поэтому?
Слушая его, Березин чувствовал, что краснеет и сердится.
– Не болтай, чего не понимаешь! – остановил он Ваню. – Никто лампу не разбивал, и пьян никто не был. Не твое это дело, и таких глупостей не смей говорить.
– Это мама так говорила, – возразил мальчик. – Она все кричала на папу: "Вы пьяны, милостивый государь, вы пьяны!"
Эта фраза запомнилась ему, как очень смешная, и теперь, повторяя ее, он улыбался, а Березин глядел на него почти со страхом. Он уже видел теперь, что разлад и семейные дрязги остались в памяти ребенка на всю жизнь, что их ничем не уничтожишь, ничем не отвратишь; не понимал он только одного – о чем Ваня так скучает и о чем так сильно задумывается; он пробовал его спрашивать, но ответы не объясняли причин. Было ясно, что в Ване начинает складываться начало тех чувств и мыслей, которые будут руководить им всю жизнь, и было печально, что это начало основывалось на впечатлениях ссоры, обмана и невольного сиротства. И за себя ему становилось, тоже стыдно. Вообще, Березин стал чувствовать себя не таким, как раньше. В клубе по целым ночам уже не сиделось, но не сиделось и дома. Ни тут ни там нечего было делать. Приехав однажды к Ольге Николаевне и выпив с нею вина, Александр Ильич взял шутя ее за талию и посадил к себе на колени, чтобы поцеловать, но ему вдруг подумалось, что это сидит не Ольга Николаевна, а сестра Катя, и что целует ее не он, Березин, а тот, ненавистный ему любовник, Борис Матвеевич, – и ему сделалось жутко, и неприятно. Он сам не понимал, что с ним делается. Подходила ли это старость с ее немощной раздражительностью, или пробуждалась совесть, столько лет дремавшая, или наконец, заговорила простая порядочность и призывала к какому-то общему человеческому долгу...
X
Ноябрьский вечер был ненастный и холодный, с резким северным ветром, который налетал порывами на окна, хлестал по ним дождем и опять затихал на минуту, потом шумел где-то под крышей и жалобно завывал в отдушнике. Нянька кормила детей ужином, а Сидор рассказывал им про бабу-ягу, которая едет в ступе и так же вот, как сейчас ветер, шумит помелом, заметая свой след. Ване делалось страшно, а Людмила слушала невнимательно, капризничала и почти ничего не ела.
– Что это у тебя глазки словно нехороши? – спросила нянька, трогая рукой ее голову. – И личико раскраснелось... Головка не болит?
– Нет, – сказала Людмила, но глаза ее были, действительно "нехороши".
– Эна, – погода-то, – заметил Сидор, тоже всматриваясь в лицо девочки. – Долго ли простудиться? Вы бы ее, нянюшка, чем-нибудь попоили на ночь тепленьким.
Людмилу стали расспрашивать; оказалось, ей холодно и хочется спать.
– Пойдем, моя милая, – уговаривала ее нянька, беря со стула к себе на руки. – Пойдем, моя радость. Помолимся Боженьке, да малинки попьем, вот и будем опять здоровы. Пойдем, красавица.
Девочка склонила няньке на грудь свою утомленную головку и, глядя отяжелевшими глазами на Сидора и на Ваню, сказала им "покойной ночи".
– Спи, голубушка, – ответил Сидор, – Господь с тобой.
В детской ее напоили сушеной малиной и вытерли уксусом с водкой.
– Горлышко больно, – жаловалась Людмила, лежа уже в постели.
Нянька обвязала ей шею платком, дала попить крещенской воды и укутала в теплое одеяло. Вскоре Людмила забылась. Но среди ночи, когда все уже спали, няньку разбудил крик. Она встала и подошла к кроватке. Девочка плакала и металась, сбрасывая с себя платки и одеяло; пот градом струился у нее по лицу, белье прилипло к телу, и Людмила сквозь слезы повторяла только одно:
– Жарко!.. жарко!..
– Нельзя, Лиленька, – уговаривала нянька, стараясь ее снова укрыть. – Ты вот так положи головку, а ручки спрячь, а я тебе буду песенку петь...
И старуха запела тихим, бесстрастным, почти сонным голосом, наклонясь над постелью, но Людмила чрез минуту опять раскидывалась и опять плакала, тихо и жалобно, точно ныла.
– Горлышко больно...
– Где больно? Покажи, Моя радость, покажи ручкой.
– Больно слюнку глотать...
Проходила минута раздумья, потом начиналась опять тихая, скучная песенка, и девочка забывалась. Но не успевала нянька отойти от постели, как Людмила опять раскрывала глаза, ныла и плакала.
– Ишь, неугомонная! Спи, я тебе говорю! – шепотом приказывала старуха, надеясь успокоить ребенка не лаской, так страхом. – Спи, а то Ваню разбудишь!
Когда девочка снова забылась, она пошла пошептаться с Сидором, который дремал в ожидании барина. Вместе они обсудили дело и решили, что завтра нужно сказать Александру Ильичу, а пока привязать к горлу суконку с горчицей и салом. Пока они хлопотали и готовили эту суконку, пока посыпали ее горчицей, капали на нее с сальной свечи, – вернулся Березин. Они доложили ему о болезни, и он сильно встревожился, потому что в клубе только сейчас беседовал о дифтерите с знакомым доктором. "Уж не дифтерит ли?" – ужаснулся он, и вместе с Сидором и нянькой направился в детскую.
При их появлении Людмила проснулась.
Березин наклонился над нею, пощупал ей лоб, поглядел в лицо и спросил, где ей больно.
– Горлышко больно, – твердила та.
– За доктором! – взволнованно и строго обратился Александр Ильич к Сидору. – Попроси Шпура... Знаешь, где живет? Привези с собой, а нет его, так привези Максина. Живо!
Был уже третий час ночи, а Сидор не возвращался. Александр Ильич, смущенный болезнью, лег у себя на диване, чтоб подождать доктора, но вскоре уснул с газетой в руках, где он вычитал сведение о свирепствовавшем в этом месяце дифтерите.
Сидор ездил к Шпуру, но не застал, ездил к Максину, тоже не застал, и, наконец, привез первого попавшегося врача. Это был высокий старик с седым ободком вокруг плеши, в толстых золотых очках и в длинном черном сюртуке. Видно было, что он не выспался и не очень доволен визитом.
– Будьте любезны, доктор, – указал Березин на детскую. – Прошу вас.
Александра Ильича самого только что разбудили; глаза его слипались и было больно глядеть на свечку. Когда вошли в детскую, Ваня проснулся и, привставши в кровати, испуганно, украдкой глядел на доктора, который не спеша снял очки, протер их платком и опять надел, потом подошел к Людмиле.
– Гм... гм... – мычал он, слушая доклад няньки. – Как было дело, скажите.
– Напоила я ее малиной, – отвечала старуха, а к горлышку сукно привязала, потом святой водички дала попить...
– Гм... Да как началось-то? Когда? Вечером или днем?
– Вечером, батюшка. Кормила я их ужином...
– Гм... – сказал доктор и махнул няньке рукой, чтоб замолчала.
Людмилу вынули из кроватки; она плакала и не давалась. Березин с трепетом и с страхом ожидал приговора, а Ваня с интересом подсматривал, но боялся, чтобы его не заметили.
– Гм... – таинственно мычал доктор, прикладывая руку к голове девочки. – Есть жарок... – Потом он прислушался к ее дыханию и кратко объявил: – Хрипит!
Затем, взявши ложку и свечку, начал осматривать горло, щуря один глаз и стараясь проникнуть взглядом поглубже.
Людмила билась в руках у няньки, вертела головой и кричала.
– Краснота, – заявил доктор, передавая Березину свечку и ложку и вытирая пальцы о конец простыни, свесившейся с кроватки.
Все стояли и глядели на него, ожидая решения, а он, нахмурясь, заложив руки в карманы брюк и растопырив ноги, стоял молча, лишь несколько раз повторил: "Гм!.. гм!.."
– Серьезного ничего нет, – наконец вымолвил доктор и точно свалил у Березина с плеч целую гору.
– Все-таки, что с ней? Не дифтерит?
– Нет. Признаков никаких. Гм... у нее жаба.
– Это опасно?
– Нет, нужно только беречь. А это у вас что там такое? Еще ребенок?
Ваня скорее нырнул под одеяло и накрылся с головой.
– Нужно его выселить, – продолжал доктор. – Перенесите сейчас же в другую комнату, и пусть не сообщаются.
Рецепт он писал в кабинете, а Ваню тем временем вместе с кроватью перенесли в залу.
– Вот вам кисленькая микстурка, – говорил доктор, махая перед нянькой рецептом. – Давайте через час чайную ложку... Гм... На горло согревающий компресс и полоскать бертолетовой солью. Знаете, как делать?
– Слава Богу, не в первый раз в жизни! – проворчала нянька.
– Гм... – больше ничего.
Доктора пригласили еще раз на завтра, поблагодарили за внимание и, наконец, в четыре часа утра все успокоились.
На другой день Березин проснулся поздно и, не вставая с постели, позвонил Сидору.
– Что там делается? – спросил он, намекая на детскую.
– Шейка опухла, – отвечал Сидор, – а жару поменьше.
Березин встал, оделся и, не пивши кофе, пошел проведать. В детской он застал беспорядок; комод стоял с выдвинутым ящиком, на столе виднелись аптекарские пузырьки рядом с грудой тряпок, и среди этого беспорядка зловещим пятном глядело пустое место, оставшееся от Ваниной кровати; нянька сидя дремала, сложив на коленях руки; волосы ее были растрепаны, платок с головы свалился. При входе Березина она медленно открыла глаза и, не вставая, начала оправлять голову.
– Ну что? Получше? – тихо спросил Александр Ильич.
– Всю ночь горела, – ответила нянька, говоря про жар. – Теперь легче, только шейка распухла.
Оба они подошли осторожно к кроватке. Людмила лежала на спине с завязанным горлом и трудно дышала, разинув рот; лицо ее было красно, глаза утомлены и мутны.
– Здравствуй, Лиленька! – сказал Александр Ильич, наклоняясь к девочке.
Она не спала; но либо она не узнала дядю, либо не могла улыбнуться, и глядела на него с таким усталым и безразличным выражением, что Березин смутился.
– Она в памяти?
– Кто ж ее знает.
Еще несколько секунд Березин глядел, как она поднимала и опускала отяжелевшие веки, и слушал, как она дышит. Потом он вышел из детской с горьким чувством, даже страхом, и сейчас же велел Сидору ехать к Шпуру, который был опытный врач и, кроме того, приятель.
Часа через два приехал Шпур.
– Что у вас тут? – обратился он прямо к Березину. – Ребенок больной? Давайте-ка мы его сейчас починим.
Он весело потер руки, как бы согревая их после холода, и весело направился в детскую, приговаривая:
– Чего он вас всех тревожит? Мы его сейчас за это послушаем да постукаем! Это твой братишка, что ли, хворает? – спросил доктор, трогая на ходу Ваню за голову и проведя ему пальцем против волос.
– Это Лиля, – сказал тот.
– Лиля? Ну, Лилю будем чинить!
За целые сутки это был первый человек, который говорил весело, и шутливый тон его сразу оживил общее настроение. Подойдя к Людмиле, Шпур внимательно поглядел в ее лицо, пощупал голову, потрогал опухоль и, надавив ложкой язык, заглянул в горло. Потом он выслушал ее дыхание, спросил, много ли и как она кашляет, и велел положить обратно в постель. Березин все время следил за Шпуром, и тревожное чувство не покидало его.
– Ну, что? – спросил он, когда доктор вымыл руки и вышел с ним вместе в залу.
– Скверно, голубчик, – отвечал Шпур. – Никакого сомнения: дифтерит.
Последнее слово точно ножом резнуло Березина по сердцу. Он вздрогнул.
– Надо взглянуть мальчугана, – продолжал доктор. – Поди-ка сюда, молодой человек!
У Вани он тоже ощупывал шею и голову, поглядел в горло и заявил:
– Ничего. Этот здоров, только нужно его немедленно вон отсюда; если можно, совсем вон, на другую квартиру, а то этот мелкий народ любопытен, сквозь щелку пролезет, и не заметишь. Сейчас же вон! Сию же минуту!
Березин встревожился и велел Сидору отвезти мальчика к Ольге Николаевне.
– Сначала только надушить его надо, – заметил Шпур и приказал Ваню и всю одежду его опрыскать карболкой.
Пока писались рецепты, Ваню одели и увезли. Все это случилось так быстро и кое-как, вперемежку со страхом, что Березин совсем потерялся. В поспешности все было раскидано: одежда, игрушки, которые Ваня хотел было взять с собой, но у него их отняли, Ванина кровать, стоявшая в зале, Ванин башлык, позабытый Сидором, и на столе у Березина лоскуты бумаги, нарезанной Шпуром, – все составляло одну общую картину разгрома и налетевшей беды.
Подробно рассказав няньке, как должно употреблять лекарства, как производить дезинфекцию и как прижигать горло, Шпур для примера надел на спичку кусок ваты и показал няньке.
– Вот как нужно. Понимаете?
Потом он уехал, обещав навестить завтра.
– Все-таки это очень опасно? – допытывался Александр Ильич.
– Конечно, опасно. Но будем стараться, – отвечал Шпур. – Главное с мальчиком никаких сообщений, и сами туда не ездите.
По отъезде Шпура, Березин остался в полном недоумении. Угрюмый вернулся он к себе в кабинет, прибрал бумагу, закрыл чернильницу и начал шагать из угла в угол. О чем он думал, о чем беспокоился и что чувствовал, он не сумел бы дать отчета, но ему было тяжело и больно. Едва до слуха его доносился детский плач или хриплый кашель, как он останавливался и старался прислушаться; сердце его сжималось от опасения и тоски; ему делалось жутко.
После обеда приехал старый доктор.
– Гм... – сказал он, поглядев на девочку. – Болезнь осложняется...
– Да у нее дифтерит! – с досадой проговорил Березин. – Вчера вы не разобрали.
– Вчера было неясно, болезнь не определилась. Сейчас – да, дифтерит. Желтый налет и... гм!.. Дело серьезное.
Это серьезное дело начинало Александра Ильича мучить. Девочка, лежа в полузабытьи, не пила, не ела, только гнусаво плакала. Беспомощен и жалок был этот слабый стон. Вокруг пахло уксусом и карболкой, стояла везде зловещая тишина, все ходили на цыпочках, разговаривали шепотом, – и вдруг среди этого тягостного затишья раздавались хриплые, слабые звуки и слышался затем мучительный кашель.
Никогда Березин не думал, что может бояться, даже дрожать за детей, а теперь он именно дрожал. Его пугал всякий звук, и всякую минуту он ожидал, что дверь отворится и придут сказать, что Людмила умерла. Он нигде не находил себе места. Иногда он подходил к кроватке, прислушивался к тяжелому трудному дыханию, которое точно выдавливалось из детской груди и вылетало свистя. Он видел, как ребенок страдает, как страшно мучится. Но чем ему помочь? Что сделать, как его спасти? Он не знал этого и готов был бы сам заболеть и мучиться, чтобы только облегчить Людмилу.
В продолжение всего вечера можно было видеть Александра Ильича стоявшим у окошка и глядевшим на уличные фонари, или бродившим по зале, или склонившимся в кабинете над пустым столом. Его грызла тоска, обуревал страх, и он никогда не чувствовал себя таким несчастным и ничтожным, как в эти минуты.
XI
Ваня расположился на новой квартире очень удобно. Ольга Николаевна была ему бесконечно рада, но боялась за девочку, и радость ее мешалась с тревогой.
Купили новых игрушек, книжек с картинками, и весь день прошел в забавах и разговорах, а на ночь Ольга Николаевна положила Ваню у себя в спальной. Ей казалось, что вернулось к ней прежнее счастливое время, что она такая же женщина, такая же мать, как другие, что никто не смеет отрицать в ней это право на чувство и никто не смеет сказать, что она развратна и нетерпима. В эти минуты она любила Ваню, как родного сына, называла его мысленно нежными именами, и ей хотелось встать, разбудить и приласкать его. И при мягком свете лампады, не зажигая свечи, она вставала босыми ногами на ковер, подходила к Ване и наклонялась над ним; сорочка сползала с ее нагого плеча, по телу пробегала дрожь, но Ольга Николаевна глядела на детское личико, чуть озаренное мерцающим светом, улыбалась и не чувствовала ничего кроме радости, такой же тихой и теплой, каким казался ей свет лампады...
Чего-чего не отдала бы она за такую радость, чтоб эта радость была своя! Сейчас она пользовалась чьим-то чужим, потерянным или брошенным счастьем; как бродяга греется в холодную ночь у чужого костра, так и она согревала свою сиротливую душу возле чужого счастья. Этот ряд годов, проведенных среди веселящихся мужчин под косыми и презрительными взглядами женщин, эта постепенная и безнадежная оторванность от семьи и общества казались ей временем, промелькнувшим вне жизни. Не она ли сама за бокалом вина хохотала над верными и строгими женами, которые боятся за своих веселых мужей и вечно стесняют их свободу? Не она ли, целуясь с такими мужьями, смеялась над женщинами, которых зовут "порядочными", смеялась над этой порядочностью, над семьей, над чадолюбивыми матерями? А теперь? Чего не заплатила бы она, чтобы сделаться точно такой же, как все эти осмеянные, чтобы стать именно такою, над которой смеялись бы так же и такие же женщины, как она сама!
Она понимала, что для нее все было потеряно: на совести лежали разлад и развод, на имени лежало пятно, а впереди стояли старость и одиночество. И ей хотелось сказать ребенку: твоя мама такая же несчастная; не суди ее, когда вырастешь; ей предстоит и без тебя тяжелая расплата.
Ольга Николаевна опустилась на колени перед Ваней; совесть угнетала ее; счеты с веселою жизнью сводились мучительно.
– Милый мой! – шептала она, и ей хотелось научить Ваню, как жить, как избегать соблазнов, как относиться к потерянным людям, особенно к женщинам, которые страдают больше других. Она понимала, что все это вздор, что она смешна в эту минуту, что ей будет стыдно, когда завтра она вспомнит про теперешнюю сцену, и все-таки она стояла на коленях, и было ей легко и радостно, и хотелось плакать.
Ваня зашевелился...
Ольга Николаевна испугалась, что разбудила его, но он не проснулся. Тогда она вернулась под свое одеяло, пригрелась и сладко заснула.
XII
– Доктор, ей хуже! – тревожно сказал Александр Ильич, встречая Шпура, который приехал на следующий день.
– Посмотрим, – серьезно и быстро ответил тот, направляясь в детскую.
Людмила совсем переменилась за ночь: шея отекла, лицо было потно и красно, губы посинели, а глаза точно в ужасе были широко раскрыты. Она хваталась своими ослабевшими ручонками за высокие стенки кровати и старалась упереться в них, чтобы вздохнуть, но болезнь душила ее; дыхание было трудное, почти насильственное и вылетало оно как свист, иногда вместе с слабым, беспомощным стоном... Нянька стояла мрачная и молчаливая, а Сидор не мог взглянуть на девочку без слез, он отворачивался, жмурил глаза и уходил сгорбившись, точно беда садилась ему на плечи. Страдания Людмилы были так очевидны и так непосильны, что даже Шпур ощутил в себе беспокойство. Он молча осмотрел больную и долго сидел возле нее, ухватившись за голову, точно силился изобрести невероятное средство; он морщил лоб, ерошил волосы и думал так усиленно, что сам не замечал, как иногда вздергивает плечи, словно в удивлении, и разводит руками; наконец, он вздохнул и досадливо щелкнул по коленке ладонью.
– Нужна операция, – сухо проговорил он, вставая. – Положение трудное; болезнь прогрессирует.
Вместе с Березиным, который молчал и внутренне трепетал, они вышли в залу.
– Положение трудное, – повторил Шпур, – медлить невозможно.
– Она умрет? – со страхом, но не без надежды спросил Березин, и когда Шпур вместо ответа пожал плечами, он умоляюще проговорил: – Спасите ее!
Голос Александра Ильича дрогнул. Возможность смерти и страх за ее близость словно бичом ударили его по нервам; он похолодел.
– Ради Бога!.. Консилиум, что ли... может быть специалистов нужно... Ради Бога, только спасите!
– Операция, – мрачно настаивал Шпур, – другого не знаю исхода. Поезжайте скорее к Бабину или к Мелькману, они специалисты, а я не берусь, я не хирург.
Опять полетели гонцы во все стороны: кухарка в аптеку, Сидор к доктору, а Березин затворился в своем кабинете и сидел с побледневшим нахмуренным лицом и глядел на икону. Он не молился, но думал, и даже не думал, а только чувствовал, что вокруг него совершается нечто ужасное, несправедливое, грозное, но что есть еще какая-то сила, которая может отразить эту беду, и ему ждалось этой силы в защиту, как справедливости.
Когда приехал Бабин и заявил, что нужно разрезать горло и вставить трубку, Александр Ильич не мог перенести этого. Он почувствовал слабость; холодный пот выступил у него на лбу, задрожали колени и помутилось в глазах. От него требовали решения; медлить было нельзя. Он понимал это, но ничего не мог говорить.
– Простите, я сяду, – промолвил он, наконец; ему казалось, что у него кружится голова.
Он сел, но голова не кружилась.
Бабин стоял перед ним строгий, нахмуренный, и терпеливо ожидал, глядя на него через очки, опустив на грудь свою лохматую голову. Вид его казался Березину страшным – до такой степени лицо доктора было бесстрастно и угрюмо, и верилось, что у такого человека ни при каких ужасах не дрогнет рука.
– Болезнь слишком овладела ребенком, – послышался голос, бесстрастный и холодный. – Операция неизбежна. Решаетесь или нет?
В его речи не слышалось даже вопроса, она звучала определенно, неотразимо, как приговор.
Смущенный и измученный, Березин поднялся со стула. Язык не хотел повиноваться, ноги дрожали.
– Делайте... что хотите...
Вымолвив это через силу, Александр Ильич приложил к виску руку, словно у него заболели зубы, и крупными, но медленными шагами пошел через всю комнату к себе в кабинет, сильно сгорбившись и ничего не слыша.
Что было далее, он не знал. Он отгонял от себя все мысли, старался не думать, забыться, но впечатление страха не покидало его. Ему мерещилось разрезанное горло ребенка с торчащею оттуда трубкой, и целый час, пока не уехал доктор, он сидел, облокотясь на стол и зажавши уши, чтобы случайно не услыхать стона.
Как кончилась операция, как его вызвали в залу, чтобы проститься с доктором и отдать ему деньги, он ничего ясно не сознавал и делал все, как в тумане. Проходили час за часом, наступил уже вечер, а Березин не знал и не хотел знать, что теперь в детской. Он не мог входить туда, не мог решиться даже спросить, что там делается; он чувствовал только ужас. Это был сплошной, беспощадный ужас и не предвиделось ему конца. Все было, тихо, все точно замерло, и тишина эта еще более угнетала душу.
Точно сквозь сон увидел Березин, как без шума отворилась дверь и в кабинет вошел Сидор, а затем послышался его голос, тоже тихий и смущенный.
– Александр Ильич... Барышне очень плохо...
Березин даже выпрямился, как выпрямляются люди в первый момент, когда их неожиданно ранят. Потом опять согнулся и ничего не ответил, продолжая сидеть.
Сидор помялся в нерешительности и повернулся, чтоб уйти, но вдруг он всхлипнул и, стоя задом к Александру Ильичу, добавил:
– Барышня-то наша... скончалась...
Березин вздрогнул и захлебнулся. Все в нем задрожало; и Сидор, и комната запылали радугой; голова его поникла сначала на грудь, потом на стол и сам он, наконец, перегнулся и лег ничком до полгруди, распластавши по столу руки; слезы ручьем брызнули из глаз, свалилось и застучало пенсне, и два-три нечаянных стона, сорвавшихся точно украдкой, огласили зловещую тишину комнаты.
XIII
Часов в одиннадцать вечера Ольга Николаевна, как приехала в шубе и шапке, так, не раздеваясь и не снимая даже калош, торопливо прошла к Березину в кабинет. Она была очень взволнована и ничего не замечала кругом себя.
– С Ваней очень нехорошо, – сказала она не здороваясь. – Началось днем, я послала за доктором, а теперь он лежит и хрипит. Боже мой, как это ужасно!
Она всплеснула руками и почти крикнула на Александра Ильича.
– Да что ж вы сидите! Я просто с ума схожу. Я голову потеряла!
– И я голову потерял, – ответил Березин, медленно махнувши рукой. – Людмила умерла...
На лице Ольги Николаевны отразился испуг. Она прижала руку к груди и, молча, словно не веря, глядела на Березина растерянными глазами. Тот тихо добавил:
– Пойдем. Взгляни.
Они молча вышли и направились в детскую. Александр Ильич шел впереди; отворив двери, он указал в угол и пропустил вперед себя Ольгу Николаевну.
Быстрыми шумящими шагами приблизилась она к столу, на котором лежала девочка, одетая в то самое платье, что было на ней в именины; глаза ее были закрыты и лицо казалось вылепленным из воска. Нянька, вся в черном, словно монахиня, с черным платком на голове, стояла возле и, не отводя глаз, с улыбкой глядела на Людмилу, а по старым щекам ее струились слезы.
Ольга Николаевна перекрестилась и, опустясь на колени, поникла головой и заплакала, а Березин в это время думал о Ване. Ему хотелось спасти хоть его, если не удалось спасти Людмилу, но он так устал и ослаб, так утомился горем, что ничего не мог ни предпринять, ни обдумать, и в голову лезло что-то не то, чего он хотел. Ему думалось о Ване, думалось о Людмиле, об ее детской душе: что будет с нею? что ее может ожидать? – и в ответ вспоминались золотые яблоки и сад – детское представление о будущей жизни, и смутно возникало сравнение с своей душой, на которой было столько тягости и грязи, что становилось противно.
Ольга Николаевна уехала, а Березин все думал о Ване. Он знал, что на помощь будут призваны сейчас же доктора и что ему нужно съездить туда, посмотреть и проведать, но вместо того, чтобы ехать, он лег на диван и все думал, как лучше поступить. Мысли его мешались.
Было уже за полночь, когда он явился к Ольге Николаевне. Ваня в забытьи лежал в спальной поперек постели и трудно дышал.
– Что сказал доктор?
Ольга Николаевна повела плечом.
– Заразился, когда ночевал с Людмилой. Поздно разъединили.
– То же самое, значит? – спросил Березин упавшим голосом. – Тоже, значит, умрет.
Он сморщился словно от внутренней спазмы и, севши в кресло, начал медленно тереть себе лоб рукой. В комнате так же пахло карболкой и скипидаром, так же слышалось хриплое, трудное дыхание мальчика и, казалось, между тою, недавнею ночью, и этою не было никакой разницы, только изменился один Березин. Тогда он боялся и дрожал, а теперь покорно дожидался несчастья, которое ему казалось неотвратимым.
Он совершенно ослаб. Рассеянно вынул он пачку денег, передал Ольге Николаевне для докторов и, прося ее ничего не жалеть, лишь бы спасти мальчика, уехал домой, почти не сознавая, что делает. Опомнился он только на другой день, когда похоронили Людмилу.
Опомнился, но ненадолго. Он то и дело разъезжал от Ольги Николаевны домой и из дома к Ольге Николаевне. Ему нигде не сиделось. Встречаясь с докторами, он умолял их спасти ребенка, ездил сам в аптеку, ездил к новым докторам, отыскивал знаменитостей и всех умолял торопиться и спасти ради Бога. Ему обещали, и он успокаивался.
Разбитым и осиротелым вернулся он опять поздно ночью в свой в кабинет. В доме было пусто, уныло и тяжело. Те лишения, те мелкие предосторожности, которые смущали его в прошлом году, казались теперь настолько дорогими и милыми, что вызывали слезы, но уже не для кого было пробираться на цыпочках, нечего было остерегаться шума...
Александр Ильич сел за письменный стол, достал бумагу и начал писать к сестре. Он подробно рассказывал о болезни Людмилы, об ее смерти и похоронах, писал о своих опасениях за Ваню, и ни одного упрека, ни одного слова о ней самой не написал он сестре; он вспоминал лишь время, проведенное с детьми, вспоминал их шалости, шум и капризы, и как только отрывался от письма и сознавал, что Людмила уже в могиле, а Ваня хрипит и задыхается, схватывал себя обеими руками за голову и трясся от неудержимых рыданий. Ему казалось, что для него все на свете было теперь потеряно; единственный светлый луч в его жизни блеснул и угас, и больше ничего уже не будет хорошего. Вместе с горем возникало в нем и другое чувство – чувство стыда, укора, и совесть его была неспокойна. Он знал, что у него где-то есть свои собственные дети; он наверно знал, что они есть, но где они, каковы они, что с ними и живы ли, – он не знал. Проклятая холостая жизнь делала его нечестным даже в его собственных глазах... И опять вспоминалась Людмила с ее доверчивой искренностью, смехом и лаской, и опять Березин чувствовал, что потерял с нею все, все на свете, а болезнь Вани его угнетала вконец. Он считал себя пошлым и несчастным человеком, он презирал себя за то, что не внес в жизнь ничего, кроме зла и пошлостей. Ему было больно и мерзко и он, не зная сам, почему и зачем, опустился перед образом на колени, потом, приникнув головой к полу, не молясь и не думая ничего, залился снова горькими, искренними слезами.
XIV
Через два дня поутру, когда зимний рассвет едва-едва забрезжил, Ольгу Николаевну разбудили, и она, не одеваясь, бросилась в спальную.
На постели билось перед ней маленькое существо, боролось за глоток воздуха, за каждое дыхание, и корчилось в невероятных муках. Она видела, что Ваня задыхается, и в испуге кричала только одно:
– Доктора! Боже мой! Доктора!
Пока побежали за доктором и к Березину, пока Ольга Николаевна металась по комнате, хватая пузырьки и прыская скипидаром, Ваня высоко приподнял грудь, стараясь через силу вздохнуть хоть один лишний раз; ему не хватало воздуха, он умирал. Глаза его широко раскрылись и выражали ужас; взгляд молил о пощаде, о помощи, но нечем было ему помочь, и Ольга Николаевна, в отчаянии, сдавив руками виски, глядела на него с таким же ужасом, как и он. Бледное серое утро заставало ее в бездействии; доктор не приезжал. Она ничего не знала, ничего не могла сделать.
Дыхание мальчика становилось с каждой секундой труднее, тяжелее, и, наконец, напрягши все силы, Ваня потянул в себя воздух, но подавился, издал глухой неопределенный звук и сразу вытянулся, замолчавши навеки.
На другой день его хоронили.
Тузов рано поутру привез целый картон цветов; Ваню всего обложили розами и белыми лилиями, а на крышку гроба прикрепили маленький венок из лавров и гиацинтов. Березин и Мюллер взялись за ручки у изголовья гроба, а Ольга Николаевна и нянька за другие скобки, ближе к ногам, и все вчетвером они вынесли Ваню на улицу.
Головы мужчин были непокрыты; Сидор шел впереди всех, надевши на плешивую голову вместо шляпы крышку с венком, которая закрывала до половины его лицо, и никто не мог видеть под нею, как всю дорогу струились из его глаз тихие слезы; будничный колокол уныло звучал, пронизывая пасмурный воздух редкими, жидкими звуками; позади всех шел одиноко Керчин, держа в одной руке цилиндр, в другой тоненькую свечку, которая погасла от ветра.
Так провожали они своего общего приятеля. Отстояли обедню, прослушали отпевание, и наступило время прощаться. Первым подошел Березин. Он нагнулся к Ване, желая поцеловать, но приникнув губами к холодному личику, затрясся и заплакал. Он не мог оторваться от этого маленького ящика, который завладел дорогим ему существом. Он обливал обильными слезами Ваню, мял нежные белые лилии, ломавшиеся под его грудью и локтями, и, наконец, отошел в сторону, перекрестив мальчика и все еще глядя на него издали. Потом приблизилась Ольга Николаевна, потом обступили Ваню с обеих сторон нянька и Сидор. Оба они плакали и целовали его, а Сидор сморщившись, широко открывал рот и хлебал воздух, точно задыхался, как подстреленная птица. Потом, когда подняли уже крышку, чтобы навеки закрыть милое, бледное, бездыханное существо, Ольга Николаевна неожиданно бросилась к нему, отвела рукой крышку и зарыдала на всю церковь, повалившись Ване на грудь. Березин отвернулся и закрылся платком, но по его вздрагивающей спине было понятно, что он чувствовал в это время.
Потом все сели в коляски и поехали в монастырь. Александр Ильич сидел визави с Ольгой Николаевной, а на коленях у них лежал Ваня, уже невидимый, заколоченный в голубой атласный ящик; только лавры и гиацинты, сплетенные венком, лежали открытыми наверху, да колыхались золоченые кисточки; больше ничего не было видно: больше ничего не оставалось от Вани.
Ольга Николаевна и Березин оба были сосредоточены, оба сидели безнадежно печальные, не проронив во всю дорогу ни единого слова.
XV
Осиротел и затих березинский дом. Замолкли в нем резвые, веселые голоса, капризные крики, лепет, шумная беготня; все затихло, все кончилось. Остался простор и свобода для прежней холостой жизни.
"Ну, живи! – с горечью думал про себя Березин. – Ну, веселись! Никто тебя теперь не стесняет, никто не тревожит!" Он нарочно смеялся над собой и бичевал себя такими думами, чтобы стало еще больнее. Холостая свободная жизнь была уже для него противна, она казалась ему пустыней и грязной трясиной, где сам он убил все зачатки радостей, и часто, в минуты такого раздумья, хватаясь за голову, он с омерзением и с злой насмешкой говорил сам себе: "Подлец ты, старый подлец!.."
Иногда снились ему Людмила и Ваня, и он просыпался с улыбкой, пока действительность не заставляла его вздрогнуть. Одиноко блуждал он по своему дому, останавливаясь то в бывшей детской, где между двойных рам все еще стояли раскрашенные генералы, глядевшие на улицу, то в зале, куда выдвинули в ту страшную ночь Ванину кроватку, то задумывался над портретом Ольги Николаевны и чувствовал, что несчастье связало их души чем-то добрым и честным, совсем не таким, чем были они связаны раньше. Часто, лежа на диване, он подробно вспоминал слова, разговоры, шалости и все, что теперь казалось ему мило и дорого; иногда он снова переживал весь ужас последних дней болезни и смерти; тогда душа его возмущалась, он роптал, не понимая, для чего возникли эти две жизни, зачем погасли так рано, зачем страдали... Все казалось ему ненужным, бесцельным, несправедливым.
Однажды, подойдя к шкафу, который без надобности стоял в детской, Александр Ильич отворил дверь; там, на пустых полках лежали рассыпанные старые карты, отданные когда-то Ване, а внизу валялся на боку пушистый козел, с белой шерстью, без ноги, с кривой головой. Держась за отворенную дверь и глядя в шкаф, Березин залюбовался обломками, как драгоценной картиной; светлые, чистые воспоминания волновали и сладко мучили его душу. Ему чувствовалось, что-то нежное, ласкающее, думалось что-то хорошее, и он с улыбкою взял за сломанную ногу козла, поглядел на него, погладил, и была минута, когда ему хотелось поцеловать его.
* * *
После заразы было необходимо проветрить дом, было нужно и самому проветриться, и Березин решил уехать до лета во Францию, поселиться там где-нибудь на берегу моря и отдохнуть, а хозяйство оставить на Сидора и на няньку.
– Мы вместе поедем, – сказал он Ольге Николаевне. – Без тебя мне тяжело теперь...
На вокзал собрались проводить их старые приятели. Все они понимали настроение Березина, и никто не позволял себе с Ольгой Николаевной, как прежде, ни двусмысленного взгляда, ни шутки, ни игривого словечка. Прощаясь с нею, они поцеловали у нее руку, и Ольга Николаевна чувствовала, что эти поцелуи – простая вежливость, что так же целовали бы они, если б она была не прежняя Ольга Николаевна, позволявшая им целовать себя в губы, обнимать за талию и безнаказанно сажать к себе на колени, а просто знакомая дама, принадлежащая семье и своему мужу, – обыкновенная "порядочная" женщина, с которой необходима вежливость и невозможна никакая вольность. Она с гордостью сознавала за собой эту утраченную защиту и чувствовала облегчение, обновление, почти счастье.
– Пойдем, Леля! – сказал Березин, никогда не называвший ее так при других. – До свидания, господа! До весны! Весной вернемся!
Поезд тронулся, приятели замахали шляпами, и всякий из них сознавал, что Березин погиб для них навсегда.



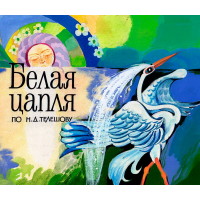

Комментарии