Пакет
Леонид Пантелеев
Нет, дорогие товарищи, героического момента в моей жизни я не припомню. Жизнь моя довольно обыкновенная, серая.
В детстве я был пастухом и сторожил заграничных овечек у помещика Ландышева. Потом я работал в городе Николаеве плотницкую работу. Потом меня взяли во флот. На «Двенадцать апостолов». Потом революция. Потом воевал, конечно. Потом учили меня читать и писать. Потом — арифметику делать.
А теперь я заведую животноводческим совхозом имени Буденного. А почему я заведую животноводческим совхозом имени Буденного, я расскажу после. Сейчас я хочу рассказать совсем небольшой, пустяковый случай, как я однажды на фронте засыпался.
Было это в гражданскую войну. Состоял я в бойцах буденновской Конной армии, при особом отряде товарища Заварухина. Было мне в ту пору совсем пустяки: двадцать четыре года.
Стояли мы с нашей дивизией в небольшом селе Тыри.
Дело было у нас плоховато: слева Шкуро теснит, справа — Мамонтов, а спереду генерал Улагай напирает.
Отступали.
Помню, я два дня не спал. Помню, еле ходил. Мозоли натер на левой ноге. В ту пору у меня еще обе ноги при себе были.
Ну, помню, сел я у ворот на скамеечку и с левой ноги сапог сымаю. Тяну я сапог и думаю: «Ой, — думаю, — как я теперь ходить буду? Ведь вот дура, какие пузыри натер!»
И только я это подумал и снял сапог, — из нашего штаба посыльный.
— Трофимов! — кричит. — Живее! До штаба! Товарищ Заварухин требует.
— Есть! — говорю. — Тьфу!
Подцепил я сапог и портянки и на одной ноге — в штаб.
«Что, — думаю, — за черт?! У человека ноги отнимаются, а тут бегай, как маленький!»
— Да! — говорю. — Здорово, комиссар! Зачем звали?
Заварухин сидит на подоконнике и считает на гимнастерке пуговицы. Он всегда пуговицы считал. Нервный был. Из донецких шахтеров.
— Садись, — говорит, — Трофимов, на стул.
— Есть, — говорю.
И сел, конечно. Сапог и портянки держу на коленях руками. А он с подоконника встал, пуговицу потрогал и говорит.
— Вот, — говорит, — Трофимов… Есть у меня к тебе великое дело. Дай мне, пожалуйста, слово, что умрешь, если нужно, во имя революции.
Встал я со стула. Зажмурился.
— Есть, — говорю. — Умру.
— Одевайся, — говорит.
Обулся я живо. Мозоли в сапог запихал. Подтянул голенище. Каблуком прихлопнул.
— Готов? — говорит.
— Так точно, — говорю. — Готов. Слушаю.
— Вот, — говорит. И вынимает он из ящика пакет. Огромный бумажный конверт с двумя сургучовыми печатями. — Вот, — говорит, — получай! Бери коня и скачи до Луганска, в штаб Конной армии. Передашь сей пакет лично товарищу Буденному.
— Есть, — говорю. — Передам. Лично.
— Но знай, Трофимов, — говорит товарищ Заварухин, — что дело у нас невеселое, гиблое дело… Слева Шкуро теснит, справа — Мамонтов, а спереду Улагай напирает. Опасное твое поручение. На верную смерть я тебя посылаю.
— Что ж, — говорю. — Есть такое дело! Замётано.
— Возможно, — говорит, — что хватит тебя белогвардейская пуля, а то и живого возьмут. Так ты смотри, ведь в пакете тут важнейшие оперативные сводки.
— Есть, — говорю. — Не отдам пакета. Сгорю вместе с ним.
— Уничтожь, — говорит, — его в крайнем случае. А если Луганска достигнешь, то вот в коротких словах содержание сводок: слева Шкуро теснит, справа — Мамонтов, а спереду Улагай наступает. Требуется ударить последнего с тыла и любой ценой удержать центр, дабы не соединились разрозненные казачьи части. В нашей дивизии бойцов столько-то и столько-то. У противника вдвое больше. Без экстренной помощи гибель.
— Понятно, — говорю. — Гибель. Давай-ка пакет, товарищ…
Взял я пакет, потрогал, пощупал, рубашку расстегнул и сунул его за пазуху, под ремень.
— Прощай, комиссар!
— Прощай, — говорит, — Трофимов. Живой возвращайся.
Выбежал я на крыльцо. Зажмурился. Каблуком стукнул.
«Ох! — думаю. — Только бы меня мозоль не подвела, дьявол!»
Бегу на выгон. Там наши кони гуляют — головы свесили, кашку жуют.
Выбрал я самого лучшего коня — Негра. Чудесный был конь, австрийскопленный. Поправил седло я, вскочил, согнулся, дал каблуком в брюхо и полетел.
Несется мой Негр, как леший.
Несемся мы по шоссе под липками, липки шумят, в ушах жужжит. Что ни минута, — верста, а Негр мой только смеется, фырчит, головой трясет… Лихо!
Вот мост деревянный простукали…
Вот в погорелую деревню свернули…
Вот лесом скачем…
Темно. Сыро. Я поминутно голову поднимаю, солнце ищу: по солнцу дорогу узнать легче. Голову подниму — ветки в лицо стегают. Снова сгибаюсь и снова дышу в самую гриву Негра.
Вдруг, понимаете, лес кончается. И вижу: течет река. Какая река? Что за черт?! Неожиданно.
Скачу по берегу вправо. Мост ищу. Нету. Вертаюсь, скачу налево. Нету.
Река широкая, темная — после узнал, что это река Донец.
— Фу, — говорю, — несчастье какое! Ну, Негр, ныряй в воду.
Спускаюсь тихонько с обрыва и направляю конягу к воде. Коняга подходит к воде.
— Но! — говорю. И пришпорил слегка. И поводьями дернул.
Не двинулся Негр.
— Но! — говорю. — Дурашка! Воды испугался?
Стоит и боками шевелит. И уши тоже шевелятся.
— Да ну же, — говорю, — в самом деле!..
Обозлился я тут… Как ударил в бока, свистанул:
— А ну, скачи!..
Подскочил Негр. И ринулся прямо в воду. Прямо в самую глубину.
Уж не знаю, как я успел стремена скинуть, только вынырнул я и вижу один я плыву по реке, а рядом, в двух саженях, круги колыхаются и белые пузыри булькают.
Ох, пожалел я лошадь!..
Минут пятнадцать все плавал вокруг этого места. Все ждал, что вот-вот вынырнет Негр. Но не вынырнул Негр. Утонул.
Захлюпал я тут, как маленький, и поплыл на тот берег.
Вылез. Течет с меня, как с утопленника. Шапку в воде потерял. Сапоги распухли. В мягких таких сапогах и идти легко.
Пошел. Иду по тропиночке. Солнце мне левую щеку греет — значит, Луганск правее — где нос. Иду по направлению носа. Между прочим, все больше и больше обсыхаю. И сапоги обсыхают. Все меньше и меньше становятся сапоги — ногу начинают жать.
Вдруг откуда-то человек. Не военный. Вольный. В мужицкой одежде. Страшный какой-то.
— Здорово, — говорит, — пан солдат!
И смеется.
Я говорю:
— Чего, — говорю, — смеешься?
Я испугался немножко. Все-таки не в деревне гуляю на масленице. На фронте ведь.
А он говорит:
— Я смеюсь с того, пан солдат, что вы очень ласковые.
— Как, то есть, — говорю, — ласковые? Ты кто?
— Я, — говорит, — был человеком, а теперь я — бездомная собака. Вы не смотрите, что у меня хвоста нет, я все-таки собака…
— А ну тебя, — говорю. — Выражайся точнее.
Смеется бродяга.
— Вы, — говорит, — у меня жену убили, а я сейчас вашего часового камнем пристукнул.
— Как, — говорю, — часового?
И сразу — за браунинг. А он за горло себя схватил, рубаху на себе разорвал и как заорет:
— Стреляй, стреляй, мамонтов сын!..
Я тут и понял. Фуражки на мне нет, звезды не видно — вот человек и подумал, что я белобандит, сволочь, мамонтовский казак.
— Кто, — говорю, — у тебя жену убил? Отвечай…
— Вы, — говорит. — Вы, добрые паны. И домик вы мой сожгли. И жинку, старушку мою, штыком закололи. Спасибочки вам…
И на колени вдруг встал. И заплакал.
«Фу! — думаю. — На сумасшедшего нарвался. Что с ним поделаешь?»
— Встань, — говорю, — бедный человек. Иди! Ошибаешься ты: не белый я, а самый настоящий красный.
Встал он и смотрит. Такими глазами смотрит, что век не забуду. Большие, печальные, как и действительно у собаки.
— Иди, — говорю, — пожалуйста.
А он смотрит.
— Иди, — говорю, — пройдись немножко.
Страшно мне стало. Браунинг все-таки, шесть патронов в обойме, а страшно. Жутко как-то.
Мужик молчит. Тогда я свернул с тропиночки и осторожно пошел мимо него. И дальше иду. Нажимаю. И тут, понимаете ли, опять начинает скулить мозоль. Пока я стоял с сумасшедшим, сапоги у меня совершенно ссохлись. Невозможно до чего заскулила мозоль. Еле иду.
И вдруг сзади топот. Оглядываюсь — бежит сумасшедший. За мной бежит, орет чего-то.
Ох, испугался я — мочи нету. Побежал. Не могу бежать. Остановился. Поднял браунинг и спустил курок.
И конечно, выстрел у меня не вышел. Пока я купался, патроны промокли и отсырели.
Но сумасшедший остановился. Остановился и снова кричит:
— Пан товарищ! Не ходите до той могилы. За могилой вам смерть.
Не понял я. За какой могилой? Чепуха! Пошел.
Не знал я, конечно, в то время, что они тут всякую горку могилой называют. На горку как раз и взбираюсь. Карабкаюсь я на эту горку и вдруг вижу: навстречу мне с горки — конный разъезд.
Сразу я догадался, что это за разъезд. Блеснули на солнце погоны. Мелькнули барашковые кубанки. Сабли казацкие. Пики…
Тут на своих ужасных мозолях я все-таки побежал. Я побежал в кусты. Выкинул браунинг. И руками — за пазуху, за ремень, где лежал у меня тот секретный пакет к товарищу Буденному.
Но — мать честная! Где же пакет? Шманаю по голому животу — живот весь на месте, а пакета нема. Нету!.. Потерялся пакет…
А уж кони несутся с горы, уж слышу казацкие клики:
— Гей! Стой!..
Уж даже фырканье лошадиное слышу. Даже свист из ноздрей слышу. А бежать не могу. Невозможно. Не позволяют, понимаете, мозоли бежать, и все тут.
Глупо я им достался. Тьфу, до чего глупо!
Ну, у меня еще в те времена, по счастью, обе руки при себе были. Я показал им, как в нашей деревне дерутся. Один — получай в зубы, другой — в ухо, а третий… третий меня по башке стукнул. Упал я. И память потерял. Но не умер.
Очнулся я — мокрый. Течет на меня вода. Хлещет вода, не поймешь откуда. И в нос, и в уши, и в глаза, и за шиворот. Фу!
Закричал я:
— Да хватит! Бросьте трепаться!
И сразу увидел: лежу я на голой земле у колодца, вокруг офицеры толпятся, казаки… Один с железным ведром, у другого в руках пузырек какой-то, спирт нашатырный, что ли…
Все нагибаются, радуются… Сапогами меня пинают.
— Ага, — говорят, — ожил!
— Задвигался!
— Задышал, большевистская морда!
— Вставай! — приказывают.
Я встаю. Мне все равно, что делать: лежать, или стоять, или сидеть на стуле. Я стою. Мокрый. Весь капаю.
— Ну как? — говорят. — Куда его?
— Да что, — говорят, — с ним чикаться! Веди его, мерзавца, прямо в штаб.
Повели меня в штаб. Иду. Капаю. И невесело, вы знаете, думаю:
«Да, — думаю, — Петя Трофимов, жизнь твоя кончается. Последние шаги делаешь».
И, между прочим, эти последние шаги — ужасные шаги. Мозоли мои, товарищи, окончательно спятили. Прямо кусаются мозоли. Прямо как будто клещами давят. Ох, до чего тяжело идти!
«Да, — думаю, — Петечка!.. Погулял ты достаточно. Хватит. Мозолям твоим уж недолго осталось ныть. Через полчаса времени расстреляют тебя, буденновец Петя Трофимов!»
«Ох… Буденновец! — думаю. — Баба! Растяпа!.. Пакет потерял! Представить только: буденновец пакет потерял!..»
«Ой, — думаю, — неужели я его потерял? Неужели посеял? Невозможно ведь. Не мог потерять. Не смел…»
И себя незаметно ощупываю. Иду, понимаете, ковыляю, а сам осторожно за пазухой шарю, в штанинах ищу, по бокам похлопываю. Нет пакета. Ну что ж! Это счастье. С пакетом было бы хуже. А так — умирать легче. Все-таки наш пакет к Мамонтову не попал. Все-таки совести легче…
— Стой! — говорят конвоиры. — Стой, большевик! Вже штаб.
Поднимаемся мы в штаб. Входим в такие прихожие сени, в полутемную комнату. Мне и говорят.
— Подожди, — говорят, — мы сейчас доложим дежурному офицеру.
— Ладно, — говорю. — Докладывайте.
Двое ушли, а двое со мной остались. Вот я постоял немного и говорю.
— Товарищи! — говорю. — Все-таки ведь мы с вами братья. Все-таки земляки. С одной земли дети. Как вы думаете? Послушайте, — говорю, земляки, прошу вас, войдите в мое тяжелое положение. Пожалуйста, — говорю, товарищи! Разрешите мне перед смертью переобуться! Невозможно мозоли жмут.
Один говорит:
— Мы тебе не товарищи. Гад! Россию вразнос продаешь, а после — мозоли жмут. Ничого, на тот свет и с мозолями пустят. Потерпишь!
Другой говорит:
— А что, жалко, что ли? Пущай переобувается. Можно, земляк. Вали, скидавай походные!
Сел я скорее на лавочку, в уголок, и чуть не зубами с себя сапоги тяну. Один стянул и другой… Ох, черт возьми, до чего хорошо, до чего приятно голыми пальцами шевелить! Знаете, так почесываешь, поглаживаешь и даже глаза зажмуришь от удовольствия. И обуваться обратно не хочется.
Сижу я на лавочке в темноте, пятки чешу, и совсем уж другие мысли в башку лезут. Бодрые мысли.
«А что? — думаю. — Не так уж мои дела, братцы, плохи. Кто меня, между прочим, поймать может? Что я такое сделал? Красный? На мне не написано, что я красный, — звезды на мне нет, документов тоже. Это еще не известно, за что меня расстрелять можно. Еще побузим, господа товарищи!..»
Но тут — не успел я как следует пятки почесать — отворяется дверь, и кричат:
— Пленного!
— Эй, пленный, обувайся скорей! — говорят мне мои конвоиры.
Стал я как следует обуваться. Сначала, конечно, правую ногу как следует обмотал и правый сапог натянул. Потом уж за левую взялся.
Беру портянку. И вдруг — что такое? Беру я портянку, щупаю и вижу, что там что-то такое — лишнее. Что-то бумажное. Пакет! Мать честная!
Весь он, конечно, промок, излохматился… Весь мятый, как тряпка. Понимаете? Он по штанине в сапог провалился. И там застрял.
Что будешь делать?
Что мне, скажите, бросить его было нужно? Под лавочку? Да? Так его нашли бы. Стали бы пол подметать и нашли. За милую душу.
Я скомкал его и в темноте незаметно сунул в карман. А сам быстро обулся и встал.
Говорю:
— Готов.
— Идем, — говорят.
Входим мы в комнату штаба.
Сидит за столом офицер. Ничего. Морда довольно симпатичная. Молодой, белобрысый. Смотрит без всякой злобы.
А перед ним на столе лежит камень. Понимаете? Огромный лежит булыжник. И офицер улыбается и слегка поглаживает этот булыжник рукой.
И я поневоле тоже гляжу на этот булыжник.
— Что? — говорит офицер. — Узнаёшь?
— Чего? — говорю.
— Да, — говорит, — вот эту штучку. Камешек этот.
— Нет, — говорю. — Незнаком с этим камнем.
— Ну? — говорит. — Неужели?
— В жизнь, — говорю, — с камнями дела не имел. Я, — говорю, — плотник. И вообще не понимаю, что я вам такого плохого сделал. За что? Я ведь просто плотник. Иду по тропинке… Понимаете? И вдруг…
— Ага, — говорит. — И вдруг — на пути стоит часовой. Да? Плотник берет камень — вот этот — и бьет часового по голове… Камнем!
Вскочил вдруг. Зубами заляскал. И как заорет:
— Мерзавец! Я тебе дам голову мне морочить! Я тебя за нос повешу! Сожгу! Исполосую!..
«Ах ты, — думаю, — черт этакий!.. Исполосуешь?!»
— Ну, — говорю, — нет. Пожалуй, я тебе раньше ноги сломаю, мамочкин сынок. Я таких глистопёров полтора года бью, понял? Ты! — говорю. Гоголь-моголь!
И бес меня дернул такие слова сказать! При чем тут, тем более, гоголь-моголь? Ни при чем совершенно.
А он зашипел, задвигался и кричит мне в самое лицо:
— А-а-а! Большевик? Товарищ? Московский шпион? Тэк, тэк, тэк! Замечательно!.. Ребята! — кричит он своим казакам. — А ну, принимай его. Обыскать его, подлеца, до самых пяток!
Ох, задрожал я тут! Отшатнулся. Зажмурился. И руки свои так в кулаки сдавил, что ногти в ладошки вонзились.
Но тут, понимаете, на мое счастье, отворяются двери, вбегает молоденький офицер и кричит:
— Господа! Господа! Извиняюсь… Генерал едет!
Вскочили тут все. Побледнели. И мой — белобрысый этот — тоже вскочил и тоже побледнел, как покойник.
— Ой! — говорит. — Что же это? Батюшки!.. Смиррно! — орет. — Немедленно выставить караул! Немедленно все на улицу встречать атамана! Живо!
И все побежали к дверям.
А я остался один, и со мной молодой казак в английских ботинках. Тот самый казак, который меня пожалел и мне переобуться позволил. Помните?
Стоит он у самых дверей, винтовкой играет и мне в лицо глядит. И глаза у него — понимаете — неясные. Улыбается, что ли? Или, может быть, это испуганные глаза? Может быть, он боится? Боится, что я убегу?
Не знаю. Мне рассуждать было некогда. Я сунул руку в карман, нащупал пакет и думаю:
«Вот, — думаю, — последняя загадка: куда мне пакет девать? Уничтожить его необходимо. Но как? Каким макаром уничтожить? Выбросить его нельзя. Ясно! Разорвать невозможно. Что вы! Разорвешь, а после, черти, его по кусочкам склеят. Нет, что-то такое нужно сделать, что-то придумать».
Стою, понимаете, пакет щупаю и на своего надзирателя гляжу. А надзиратель — ей-богу! — улыбается. Смотрю на него — улыбается. Подозрительная какая-то морда. То ли он мне сочувствует, то ли смеется. Пойми тут! И главное дело — винтовкой все время играет.
«А что, — думаю, — дать ему, что ли, пакет на аллаха? Вот, дескать, друг, возьми, спрячь, пожалуйста…»
«Нет, — думаю, — нет, ни за что. Подозрительная все-таки морда. Очень, — думаю, — подозрительная».
Но, дьявол, куда ж мне пакет девать?!
И тут я придумал.
«Фу, — думаю. — Об чем разговор? Да съем!.. Понимаете? Съем, и все тут».
И сразу я вынул пакет. Не пакет уж, конечно, — какой там пакет! — а просто тяжелый комок бумаги. Вроде булочки. Вроде такого бумажного пирожка.
«Ох, — думаю, — мама! А как же его мне есть? С чего начинать? С какого бока?»
Задумался, знаете. Непривычное все-таки дело. Все-таки ведь бумага — не ситник. И не какой-нибудь блеманже.
И тут я на своего конвоира взглянул.
Улыбается! Понимаете? Улыбается, белобандит!..
«Ах так?! — думаю. — Улыбаешься, значит?»
И тут я нахально, назло, откусил первый кусочек пакета. И начал тихонько жевать. Начал есть.
И ем, знаете, почем зря. Даже причмокиваю.
Как вам сказать? С непривычки, конечно, не очень вкусно. Какой-то такой привкус. Глотать противно. А главное дело — без соли, без ничего — так, всухомятку жую.
А мой конвоир, понимаете, улыбаться перестал и винтовкой играть, перестал и сурьезно за мной наблюдает. И вдруг он мне говорит… Тихо так говорит:
— Эй! — говорит. — Хлеб да соль.
Удивился я, знаете. Что такое? Даже жевать перестал.
Но тут — за окном, на улице, как загремит, как залает:
— Урра-аа! Урра! Урра!
Коляска как будто подъехала. Бубенцы зазвенели. И не успел я как следует удивиться, как в этих самых сенях голоса затявкали, застучали приклады, и мой часовой чучелом застыл у дверей. А я испугался. Я скомкал свой беленький пирожок и сунул его целиком в рот. Я запихал его себе в рот и еле губы захлопнул.
Стою и дышать не могу. И слюну заглотать не могу.
Тут распахнулись двери и вваливается орава.
Впереди — генерал. Высоченный такой, косоглазый медведь в кубанской папахе. Саблей гремит. За ним офицеришки лезут, писаря, вестовые. Все суетятся, бегают, стулья генералу приносят, и особенно суетится дежурный по штабу офицер. Этот дежурный глистопёр уж прямо лисой лебезит перед своим генералом.
— Пардон, — говорит, — ваше превосходительство. Мы, — говорит, — вас никак не ожидали. Мы, так сказать, рассчитывали, что вы как раз под Еленовкой держите бой.
— Да, — говорит генерал. — Совершенно верно. Бой под Еленовкой уже состоялся. Красные отступили. С божьей помощью наши войска взяли Славяносербск и движутся на Луганск через Ольховую.
Подошел он к стене, где висела военная карта, и пальцем показал, куда и зачем движутся ихние части.
И тут он меня заметил.
— А это, — говорит, — кто такой?
— А это, — говорят, — пленный, ваше превосходительство. Полчаса тому назад камнем убил нашего караульного. Захвачен в окрестностях нашей конной разведкой.
— Ага, — говорит генерал.
И ко мне подошел. И зубами два раза ляскнул.
— Ага, — говорит, — сукин сын! Попался? Засыпался?! Допрашивали уже?
— Нет, — говорят. — Не успели.
— Обыскивали?
Застыл я, товарищи: Зубы плотнее сжал и думаю: «Ну, — думаю, правильно! Засыпался, сукин сын».
А все, между прочим, молчат. Все переглядываются. Плечами пожимают. Неизвестно, дескать. Не знаем.
И тут вдруг, представьте себе, мой землячок, этот самый казак в английских ботинках, выступает:
— Так точно, — говорит, — ваше превосходительство. Обыскивали.
— Когда?
— А тогда, — говорит, — когда он без памяти лежамши был. У колодца.
— Ну как? — говорит генерал. — Ничего не нашли?
— Нет, — говорит. — Нашли.
— Что именно?
— Именно, — говорит, — ничего, а нашли тесемочку.
— Какую тесемочку?
— Вот, — говорит. И вынимает из кармана ленточку. Ей-богу, я в жизнь ее не видал. Обыкновенная полотняная ленточка. Лапти такими подвязывают. Но только она не моя. Ей-богу!..
— Да, — говорит генерал. — Подозрительная тесемочка. Это твоя? спрашивает.
А я, понимаете, головой повертел, покачал, а сказать, что нет, не моя, — не могу. Рот занят.
И тут, понимаете, опять казачок выступает.
— Это, — говорит, — ваше превосходительство, тесемочка не опасная. Это, — говорит, — плотницкая тесемка. Ею здешние плотники разные штуки меряют, заместо аршина.
— Плотники? — говорит генерал. — Так ты что — плотник?
Я, понимаете, головой закивал, закачал, а сказать, что ну да, конечно, плотник, — не могу. Опять рот занят.
— Что это? — говорит генерал. — Что он — немой, что ли?
— Да нет, — говорит офицер. — Должен вам, ваше превосходительство, сообщить, что пять минут тому назад этот самый немой так здесь митинговал, что его повесить мало. Тем более, — говорит, — что он мне личное оскорбление сделал…
— Так, — говорит генерал. — Замечательно. Ну, — говорит, — подайте мне стул, я его допрашивать буду.
Сел он на стул, облокотился на саблю и говорит:
— Вот, — говорит, — мое слово: если ты мне сейчас же не ответишь, кто ты такой и откуда, — к стенке. Без суда и следствия. Понял?
Конечно, понял. Что тут такого особенно непонятного? Понятно. К стенке. Без суда и следствия.
Я молчу.
Генерал помолчал тоже и говорит:
— Если ты большевистский лазутчик, сообщи название части, количество штыков или сабель и где помещается штаб. А если ты здешний плотник, скажи, из какой деревни.
Видали? Деревню ему скажи? Эх!..
«Деревня моя, — думаю, — вам известна: Кладбищенской губернии, Могилевского уезда, деревня Гроб».
И я бы сказал, да сказать не могу — рот закупорен. А я об одном думаю: «Как бы мне, — думаю, — мертвому, после смерти, рот не разинуть! Раскрою рот, а пакет и вывалится. Вот будет номер!..»
— Нет, — говорит генерал, — это, как видно, из тех комиссариков, которые в молчанку играют. Такой, — говорит, — скорее себе язык откусит. А впрочем… Вот, — говорит, — мое распоряжение. Попробуйте его шомполами. Поняли? Когда говорить захочет, приведите его ко мне на квартиру. А я чай пить пойду…
— Но только, — говорит генерал, — смотрите, не до смерти бейте. Расстрелять мы его всегда успеем, а нужно сперва допросить. Поняли?
— Так точно, — говорят, — ваше превосходительство. Будем бить не до смерти. Как следовает.
Ну, генерал чай пить ушел. А меня повели в соседнюю комнату и велели снимать штаны.
— Снимай, — говорят, — плотник, спецодежду.
Стал я снимать спецодежду. Свои драгоценные буденновские галифе.
Спешить я, конечно, не спешу, потому что смешно, понимаете, спешить, когда тебя бить собираются.
Я потихонечку, полегонечку расстегиваю разные пуговки и думаю: «Положение, — думаю, — нехорошее. Если бить меня будут, я могу закричать. А закричу — обязательно пакет изо рта вывалится. Поэтому ясно, что мне кричать нельзя. Надо помалкивать».
А между прочим, бандиты поставили посреди комнаты лавку, накрыли ее шинелью и говорят:
— Ложись!
А сами вывинчивают шомпола из ружей и смазывают их какой-то жидкостью. Уксусом, может быть. Или соленой водой. Я не знаю.
Я лег на лавку.
Живот у меня внизу, спина наверху. Спина голая. И помню, мне сразу же на спину села муха. Но я ее, помню, не прогнал. Она почесала мне спину, побегала и улетела.
Тогда меня вдарили раз по спине шомполом.
Я ничего на это не ответил, только зубы плотнее сжал и думаю: «Только бы, — думаю, — не закричать! А так всё — слава богу».
Пакет у меня совершенно размяк, и я его потихонечку глотаю. Ударят меня, а я, вместо того, чтобы крикнуть или там охнуть, раз — и проглочу кусочек. И молчу. Но, конечно, больно. Конечно, бьют меня, сволочи, не жалеючи… Бьют меня по спине, и пониже спины, и по ребрам, и по ногам, и по чем попало.
Больно. Но я молчу.
Удивляются офицеры.
— Вот ведь, — говорят, — тип! Вот экземпляр! Ну и ну!.. Бейте, братцы!.. Бейте его, пожалуйста, до полусмерти. Заговорит! Запоет, каналья!..
И снова стегают меня. Снова свистят шомпола.
Раз!
Раз!
Раз!
А я голову с лавочки свесил, зубы сдавил и молчу. Помалкиваю.
— Нет, — говорит офицер. — Это так невозможно. Что он такое сделал? Может быть, он и в самом деле язык себе демонстративно откусил?.. Эй, стойте!..
Остановились. Сопят. Устали, бедняжки.
— Ты, — говорит офицер. — Плотник! Будешь ты мне отвечать или нет? Говори!
А я тут, дурак, и ответил:
— Нет! — говорю.
И зубы разжал. И губы. И что-то такое при этом у меня изо рта выпало. И шмякнулось на пол.
Ничего не скажу — испугался я.
— Эй, — говорит офицер, — что это у него там изо рта выпало? Королев, посмотри!
Королев подходит и смотрит. Смотрит и говорит:
— Язык, ваше благородие…
— Как? — говорит офицер. — Что ты сказал? Язык?!
— Так точно, — говорит, — ваше благородие. Язык на полу валяется.
Дернулся я. «Фу! — думаю. — Неужели и вправду я вместе с пакетом язык сжевал?»
Ворочаю языком и сам понять не могу: что такое? Язык это или не язык? Во рту такая гадость, оскомина: чернила, сургуч, кровь…
Поглядел я на пол и вижу: да, в самом деле лежит на полу язык. Обыкновенный такой, красненький, мокренький валяется на полу язычишко. И муха на нем сидит. Понимаете? Понимаете, до чего мне обидно стало?
Язык ведь, товарищи! Свой ведь! Не чей-нибудь! А главное — муха на нем сидит. Представляете? Муха сидит на моем языке, и я ее, ведьму, согнать не могу!
Ох, до того мне все это обидно стало, что я заплакал. Ей-богу! Прямо заплакал, как маленький… Лежу на шинельке и плачу.
А бандиты вокруг стоят, удивляются и не знают, что делать.
Тогда офицер говорит:
— Королев, — говорит, — убери его!
— Слушаю-с, — говорит Королев. — Кого убрать?
— Язык, — говорит, — убери. Болван! Не понимаешь?
«Ну, — думаю, — нет! Шалите! Не позволю я вам надсмехаться над моим язычком».
Проглотил я скорее слезы и заодно все, что у меня во рту было, протянул руку, схватил язычок и — в рот.
И чуть зубы не обломал.
Мать честная! Никогда я таких языков не видел. Твердый. Жесткий. Камень какой-то, а не язык…
И тут я понял.
«Фу ты! Так это ж, — думаю, — не язык. Это — сургуч. Понимаете? Это сургучовая печать товарища Заварухина. Комиссара нашего».
Фу, как смешно мне стало!
Размолол я зубами этот сургучный язык и скорей, незаметно, его проглотил.
И лежу. И не могу, до чего мне смешно.
Спина у меня горит, кости ломит, а я — чуть не смеюсь. А над чем, вы думаете?
Смеюсь я над тем, что бандиты уж очень испугались за мой язык. Вот испугались! Вот им от генерала попадет! Ведь им генерал что сказал? Чтобы они меня живого и здорового привели к нему на квартиру. А они?..
Офицер — так тот прямо за голову хватается.
— Ой! — говорит. — Ай! Немыслимо!.. Чего он такое сделал? Ведь он язык съел! Понимаете? Язык уничтожил! Боже мой, — говорит, — какая подлость!
И ко мне на колесиках подъезжает:
— Братец, — говорит, — что с тобой? А? Зачем ты плачешь?
А я и не плачу. Я смеюсь.
— А? — говорит. — Может быть, — говорит, — тебе лежать жестко? Ты скажи тогда. Можно подушку принести. Хочешь, — говорит, — подушку? Отвечай.
А я ему отвечаю:
— Мы-ны-бы-бы…
— Что? — говорит.
Я говорю:
— Бы-бы…
И головой трясу. Понимаете? Будто я настоящий немой.
— Да, — говорит офицер. — Так и есть. Он язык слопал. А ну, говорит, ребята! Сведем его, пожалуйста, поскорей в околоток к доктору. Может быть, с ним еще чего-нибудь можно сделать. Может быть, он не совсем язык откусил. Может быть, пришить можно.
— Одевайся! — говорят.
Стали мне помогать одеваться. Стали напяливать на меня гимнастерку, пуговки стали застегивать, будто я маленький и не умею. Но я отпихнул их и сам оделся. Сам застегнулся и встал. Встал на свои ноги.
И ясно, что первое дело — спину пощупал. Надо же поглядеть, что и как.
И — как вам сказать? Чешется. Липкая какая-то, противная стала спина. И — ноги. Ноги еле стоят. Фу, до чего плохие стали ноги!
— А ну, — говорят, — пошли!
Пошли. Выходим на площадь. Идем. Я иду, офицер идет и — представьте себе — казачок в английских ботинках идет. Его фамилия Зыков.
— Слушай, Зыков, — говорит офицер. — Веди его, пожалуйста, поскорей в околоток. А я тебя сейчас догоню. Я, понимаешь, к его превосходительству должен сбегать.
Подхватил свою кавалерийскую саблю и побежал.
А мы идем через площадь. Я — впереди, а Зыков — немного сзади.
Винтовку свою он держит наперевес. И молчит.
Я говорю:
— Послушай, земляк…
А он отвечает:
— Молчать!
Я говорю:
— Брось ты, братишка!..
А он:
— Не разговаривать! Смир-рно!
Вот ведь какой чудной! Вот белая шкура!
Ну, я больше с ним разговаривать не стал и иду молча.
Иду, понимаете, ковыляю и разные мысли думаю. И думаю все о том, что дело мое окончательно гиблое. Что всюду, куда ни сунься, — один каюк.
Ну, сами подумайте, что мне такое делать? Бежать? Так сзади с винтовкой шагает. Беги — все равно спасу нет.
Нет, невеселое мое дело! Ох, до чего невеселое! Только одно и весело, что пакет слопал. Это — да! Это еще ничего. Все-таки совесть во мне перед смертью чистая…
А тут мы пришли в околоток. Это по-нашему если сказать, по-военному. А по-вольному — называется амбулатория. Или больница. Я не знаю.
Маленький такой деревенский домик. Окно открыто. Крылечко стоит. У крылечка и под окном на завалинке сидят больные. Очереди ждут.
Один там больную руку на белой повязке качает. У другого нога забинтована. Третий все время за щеку хватается — зубы скулят. Четвертый болячку на шее ковыряет. У пятого — неизвестно что. Просто сидит и махорку курит.
И все, конечно, об чем-то рассуждают, чего-то рассказывают, смеются, ругаются…
Мой конвоир говорит:
— Здорово, ребята!
Ему отвечают:
— Здоровы! Куды, — говорят, — без очереди? Садись, четырнадцатым будешь.
Он говорит:
— Мы без очереди. У нас, — говорит, — дело очень сурьезное.
— Со штаба?
— Ну да, — говорит. — Видите, комиссар заболел.
— Ого! — говорят. — Что же в нем заболело?
— А в нем, — говорит, — зуб заболел. Ему перед смертью особую золотую плонбу хочут поставить.
— Ого! — говорят.
Хохочут, дьяволы. Издеваются. И тот — этот Зыков — тоже хохочет и тоже шутки вышучивает.
— А ну, — говорит, — комиссар, садись, отдохни, покуда его благородие к его превосходительству бегают. Да ты, — говорит, — не стесняйся…
Я не стесняюсь. Сесть я хотя и не сел, а слегка прислонился к столбику, на котором крыльцо висело.
Стою потихоньку, спину свою о столбик почесываю и на этих гадов внимания не обращаю.
«Пускай, — думаю, — веселятся. Жалко, что ли? Больные все-таки. Скучно ведь».
А сам и не слушаю даже, чего они там про меня зубоскалят. Я, понимаете, природой любуюсь.
Ах, какая природа! Ну, я такой не видал. Ей-богу! Даже в нашей деревне и то нету таких садов и таких густых тополей. А воздух такой чудный! Яблоком пахнет. А небо такое синее — даже синее Азовского моря! Ну, прямо всю жизнь готов любоваться! Да только какая моя осталась жизнь? Маленькая. Я потому и любуюсь, что после уж поздно будет. Зато уже вовсю любуюсь. Даже голову к небу задрал.
А тут, понимаете, прибегает со своей саблей его благородие, господин офицер. Красный такой, весь взлохмаченный, мятый, словно его побили. И на меня:
— А! — говорит. — Языки кусать? Ты, — говорит, — языки кусаешь, а после за тебя отвечай? Да? Дрянь худая!..
Размахнулся и — раз! — меня по щеке. Понимаете?
Я ничего на это не ответил, только зубы сжал да как вдарю его по башке. Сверху.
Ох, как завоет, застонет, заверещит:
— Расстрел-л-лять!..
А я еще раз — бах! И еще со всего размаху — бах!
Ну, он и сел, как миленький, у самого крылечка.
Конечно, меня в два счета сграбастали эти самые больные. Руки мне закрутили, к виску — наган и не выпускают. А я и не рыпаюсь. Чего мне рыпаться? Стою потихоньку. Тогда офицер встает, поправляет свою офицерскую фуражечку и говорит:
— Погодите еще стрелять.
Потом закачался, глаза закрыл и говорит:
— Ох… Мне худо…
Его поскорее сажают обратно на ступеньку и начинают махать около его морды — кто чем: кто, понимаете, тряпкой, кто веточкой, а кто просто своей забинтованной лапой.
— Ну как, — говорят, — ваше благородие? Ожили?
— Да нет, — говорит. — Не совсем.
Опять помахали.
— Ну как?
— Ожил, — говорит. — Спасибо… Молодцы, ребята!
Они, дураки, отвечают:
— Рады стараться, ваше высокоблагородие!
Потом говорят:
— Ну как? Можно расстреливать?
— Да нет, — говорит офицер. И встает. — Нет, — говорит. — К моему сожалению, придется подождать с расстрелом. Его сначала доктору показать нужно. Однако расстрел от него не уйдет. Я, — говорит, — из этой малиновой дряни через полчаса решето сделаю. Собственноручно. Но только сначала, говорит, — его все-таки подлечить нужно… Послушай, Зыков, веди его, пожалуйста, поскорей к доктору, а я сзади пойду.
Понимаете? Боится! Боится рядом идти. Даже вдвоем с Зыковым боится…
— А ну, — говорит, — еще кто-нибудь… Вот ты, — говорит, — Филатов, у тебя наган при себе, пойдем с нами.
Зыков пихает меня прикладом и кричит:
— А ну, пошел! Живо!
Я пошел. Поднимаюсь по лесенке и вхожу в эту самую — в раздевальную комнату.
Ну, знаете, воздух тут прямо противный. Карболкой воняет. Какие-то всюду банки валяются, склянки, жестянки. Пыль, понимаете, грязь.
Стены черные. У стены деревянная лавка стоит, а на стене, на вешалке, висят солдатские шинели, фуражка и китель с погонами.
Я это все заметил потому, что мы в раздевальной целую минуту стояли, покуда его благородие по лестнице поднимался. С ним, понимаете, опять худо стало. И его опять обмахивали березками.
Потом он приходит и говорит:
— Ну, вы! — говорит. — Чего на дороге стали? К доктору! Живо!
Ну, Зыков меня опять пихает прикладом, Филатов распахивает двери, и я захожу к доктору.
А доктор-то, доктор! Ей-богу, смешно сказать — совсем старичок. Беленький, маленький, ну такой маленький, что даже ноги его в халате путаются. А перед ним, понимаете, выпятив грудь, стоит этакий здоровенный полуголый дядя. И доктор его через трубку слушает. А тот дышит грудью. Словно борец Василий Петухов.
Мы, понимаете, входим, а доктор и говорит:
— Стучаться, — говорит, — нужно.
Но тут, как увидел штабного офицера, совсем иначе заговорил.
— Извиняюсь, — говорит, — господин подпоручик. Я, — говорит, — думал, что это кто-нибудь без очереди лезет.
— Нет, — говорит офицер. — Вы ошиблись. У нас чрезвычайно экстренное дело. Потрудитесь, — говорит, — отпустить больного и оказать помощь.
— Ага, — говорит доктор. — С большим удовольствием.
Тут он скорее достукал своего борца Петухова, помазал его кой-где йодом и отпустил. А сам подошел к рукомойнику и стал намыливать руки.
— Да, — говорит. — Я вас слушаю.
— Вот, — говорит офицер. — Видите этого человека? Несколько минут тому назад этот человек демонстративно откусил себе язык.
— Ага, — говорит доктор.
Потом говорит:
— А как, позвольте спросить, откусил?.. Насовсем или частично?
— Я не знаю, — говорит офицер. — Может быть, и частично. Не в этом дело. Самое главное в том, что он теперь говорить не может. Понимаете? А нам еще нужно его допросить. Так вот, — говорит, — не можете ли вы чего-нибудь сделать? Научным путем. Чтобы он перед смертью хоть чуточку поговорил.
— Посмотрим, — говорит доктор.
И начинает споласкивать руки.
— Посмотрим, — говорит. — Это нетрудно. Хотя, — говорит, — должен вас поставить в известность, что наша наука не очень допускает, чтобы человек разговаривал без языка. Конечно, посмотреть можно. Это труда не представляет. Но все-таки с научной точки зрения я не берусь вам давать какие-либо обещания. Посмотреть, — говорит, — посмотрю, а…
— Хорошо, — говорит офицер. — Посмотрите. Но только нельзя ли поторопиться, господин доктор? Нельзя ли слегка поскорей?
— Можно, — говорит. — Почему же нельзя? Можно и поторопиться…
И начинает, понимаете, вытирать полотенцем пальцы. Один, понимаете, вытрет — посмотрит, полюбуется и другой начинает. Потом третий. Потом четвертый. И так далее.
Офицер — ну прямо лягается. Прямо копытами бьет. Даже шпора звякает.
А доктор внимания не обращает, вытирает себе потихоньку пальчики и чего-то мурлычет.
Потом он подходит ко мне и говорит:
— А ну, молодой человек… Откройте рот.
Я не хотел открывать. Но думаю: «Что, в самом деле… Жалко, что ли?..» Взял и открыл.
— Еще, — говорит, — откройте… Пошире!
Я открываю еще пошире, как только могу.
— Еще, — говорит.
Ну, тут я совсем до ушей разинул ему свою пасть.
— Вот так, — говорит. — Достаточно. Спасибо.
Посмотрел он у меня во рту, поковырялся своими чистенькими пальчиками и говорит:
— Да нет, — говорит. — Язык на месте.
— Как? — говорит офицер. — Не может этого быть!
— Уверяю вас, — говорит доктор. — Язык в полной исправности, только синий.
— Да нет, — говорит офицер. — Вы ошибаетесь. Я же сам хорошо видел, как он его кусал.
— Тогда посмотрите, — говорит доктор.
И показывает ему мой рот. А там, понимаете, преспокойно болтается язык.
Ах, мать честная! Вот офицер удивился! Вот у него глаза на лоб полезли!
— Да что же это, — говорит, — такое! Да как же, — говорит, — это может быть? Что у него, дьявола, два языка висят, что ли?!
— Да нет, — говорит доктор. — Навряд ли что два… У одного человека двух языков не полагается. Этого наука не допускает. И я, — говорит, — хотя с научной точки зрения и не берусь объяснить этот факт, но в общем и целом язык на месте.
— Тьфу! — говорит офицер. — Так, значит, он меня обманул?! Значит, он говорить может? Значит, ты, мерзавец, говорить можешь?
— Да, — говорю, — могу.
И тут же сказал я ему такое слово, от которого, извиняюсь, можно со стула упасть.
А он — вы думаете, что? Рассердился? Думаете, он орать на меня стал или драться? Ничего подобного. Он смеяться начал. Он прямо обрадовался — ну как не знаю что. Как будто ему, понимаете, пятнадцать рублей подарили.
— Ой, — говорит, — неужели это не сон? Неужели я не ослышался? А ну, говорит, — повтори, что ты сказал.
Я повторил. И еще прибавил. Дескать, вы, говорю, ваше высокоблагородие, последняя дрянь и даже хуже. Вы, говорю…
Понимаете? Не ругается! Не дерется! Смеется, как лошадь.
— Еще! — говорит. — Еще!
Даже ругаться скучно. Чего, в самом деле? Я же не граммофон.
Я постоял, порычал немного и замолчал.
Тогда он кончает смеяться, поправляет свою офицерскую саблю и начинает командовать.
— Вы, — говорит, — господин доктор, пожалуйста, подзаймитесь немного с этим субъектом. Успокойте его слегка, приведите в порядок, а после пришлете его к нам в штаб. А вы, братцы, покараульте пленного. Филатов останется здесь, а Зыков — наружная охрана. После, Зыков, приведешь его в штаб.
Подцепил свою вострую саблю и поскакал. А за ним и Зыков. Дверь перед ним отворяет. И в сени за ним бежит.
И там, в этих сенях, кто-то вдруг как заорет:
— О-ох!
— Что? Что такое? — говорит доктор.
Тут Зыков кричит:
— Ничего! Ничего! Не извольте беспокоиться. Это их благородие спотыкнулись. О притолку шмякнулись.
— Ах, — говорит доктор, — разве можно так резво бегать?
Ну, мы остались втроем: я, Филатов и доктор.
А доктор-то, доктор! Фу, ей-богу, ну прямо без смеха глядеть невозможно.
Такого доктора, если потребуется, пристукнуть — совсем пустяки. Деревянной ложкой можно пристукнуть.
Но я вижу, что здесь у меня ничего не выйдет. Во-первых, Филатов как столб стоит со своим наганом. Потом — окно. Оно хоть и открыто, но за окном на завалинке больные сидят, — мне даже их голоса хорошо слышно, — а на подоконнике всякая мура стоит: банки, склянки, микстурки, клистирки…
Нет, я вижу, что здесь ничего у меня не выйдет, и стою тихо.
А доктор меня начинает лечить.
— Так вот, — говорит, — молодой человек… Откройте, пожалуйста, рот.
Я говорю:
— Зачем? Чего, — говорю, — вы там не видали?
— А я, — говорит, — хочу убедиться.
— Ну ладно, — говорю. — Убеждайтесь.
И рот раскрыл. И язык высунул.
— Да, — говорит доктор. — Язык у вас в полной исправности. Могу вас порадовать. Но только, — говорит, — он чересчур синий. Как будто его в чернилах купали. А? Вы, молодой человек, чернила не кушаете? Хе-хе!..
— Нет, — говорю.
— Так, так, — говорит. — И десны у вас распухли. Ну, — говорит, — нате, скушайте, пожалуйста, пирамидону.
Я съел. Ничего.
Мне, понимаете, так здорово есть хотелось, что я бы и самого доктора съел.
— Вы что? — говорит. — Военнопленный?
— Да, — говорю. — Не в гости, конечно, сюды приехал.
— Значит, вы — большевик?
— Был, — говорю. — Да.
— Ах, — говорит, — вы сядьте. Что вы стоите? Вот, пожалуйста, табуретка — присаживайтесь.
— Нет, — говорю, — спасибо. У меня, — я говорю, — на том месте, где сидят, заметка на вечную память. Я, — говорю, — этим местом сидеть не могу. Но если б мне жить привелось, я бы, — говорю, — не забыл, что и как. Я бы, говорю, — помнил.
И тут я, товарищи, извиняюсь, штаны опустил и показал доктору.
— Ах, — говорит доктор, — ах, какая жестокость!
А Филатов как загогочет:
— Го-го-го!
— Ты что? — спрашивает доктор.
— Виноват, — говорит, — ваше благородие. Поперхнулся.
А доктор нахмурился и говорит:
— Ну, — говорит, — молодой человек, если вас не расстреляют, приходите, — я вам еще пирамидону дам.
— Ладно, — говорю. — Зайду.
Смеюсь, конечно. Зачем мне, скажите, после смерти ходить, старичков пугать? Я насовсем помирать собрался. А живым я ходить уж, понимаете, не надеюсь. Нет, не надеюсь, ни чуточки.
— Ну что ж, — говорит доктор, — можете отправляться.
А сам уж скорей к рукомойнику — пальчики мылить.
Филатов командует:
— Шагом марш!
И наган свой наизготовку.
Выходим через сени на улицу. Зыков сидит с больными. Сидит на завалинке с больными и что-то рассказывает смешное. Те на него хохочут. Зубы скалят.
— А! — говорит. — Комиссару почтенье! Ну, как, — говорит, — поставили вам золотую плонбу?
Все:
— Ха-ха-ха…
Смешно, понимаете, дуракам.
И Филатов тоже грохочет.
Я говорю:
— Поставили бы, — говорю, — тебе такую пломбу в глотку… Говорок тамбовский!
Все опять:
— Ха-ха-ха!.. Ловко отшил! Браво!
Зыков мне отвечает:
— Я-то тамбовский, а ты, интересно, каковский?
Я говорю:
— Знаешь? Я с тобой и говорить не хочу. Продажная ты, — говорю, шкура! Белобандит!
Гляжу — покраснел мой Зыков. Встает, поднимает свою винтовку и говорит:
— А ну! — говорит. — Поворачивайся! Шагом марш!
И затвором — щелк!
Дескать, поговори у меня — свинцовую пломбу получишь.
Я пошел. Идем мы почти что рядом. Я слева, а Зыков справа. И вдруг я вижу, что мы совсем не туда идем. Понимаете? Мы идем не к штабу, а куда-то совсем обратно. Туда, где село кончается. Где последние домики стоят.
«Что, — думаю, — за шут? Куда же это мы идем?»
А спросить я, конечно, у Зыкова не хочу. Самолюбие не позволяет. Я молчу.
Зыков тогда говорит:
— А ну, поднажми.
— Вот еще! — говорю. — Буду бегать!
Он говорит:
— Поднажми! Дурак!
Ну, я хотя и не очень, а пошел побыстрее. А сам думаю: «Занятно, куда это все-таки мы так спешим? На свадьбу, что ли?»
И только я это подумал: «на свадьбу», вижу — идет нам навстречу какой-то седой генерал. Какое-то, понимаете, чучело в синих подштанниках. Такой, понимаете, щупленький, поганенький старичок. Идет и ножкой подрыгивает.
— Куда? — говорит.
Тут Зыков мой делает перед ним, как полагается, стойку и отвечает:
— Так что, — говорит, — ваше превосходительство, пленного большевика к исполнению веду.
— В расход?
— Так точно, ваше превосходительство, в расход.
— Ну, ну, — говорит генерал. — Вольно… Шагай себе… Не промахнись, говорит.
И на меня, понимаете, этак весело посмотрел, будто я курица или гусь и он меня на обед скушать собирается.
— Шагай, — говорит, — с богом… И пусть, — говорит, — твоя рука не дрогнет… Потому что, — говорит, — ты не человека убиваешь, а дьявола. Понял?
— Так точно, — говорит Зыков. — Понял, — говорит. — Дьявола.
— Ну, с богом! — говорит.
И пошел. Опять, понимаете, ножкой задрыгал.
А мы, понимаете, тоже пошли дальше.
И прямо скажу — не хотелось идти. Ну, поверите, ноги не хотели идти.
А тем более, что погода была замечательная. Погода стояла чудная. В садах повсюду фрукты цвели. Деревья шумели. Птицы летали.
А тут — изволь идти на такой веселенький проминат!
Ах, мать честная!.. Никогда мне, товарищи, не забыть, как я тогда шел, что думал и что передумал…
Иду, понимаете, я впереди, а Зыков идет сзади. Винтовочка у него все гремит. Английские ботиночки поскрипывают. И все молчит этот Зыков — сукин сын… Хоть бы слово сказал для развлечения. Хоть бы крикнул чего-нибудь.
А идем мы сначала селом. Потом мы выходим на выгон, где коровы гуляют. Потом по тропиночке, мимо разных там огородов и зимних сараев идем. И все молчит этот Зыков — сукин сын… Только знай винтовкой потряхивает. И противно все время скрипят его бутсы.
Фу, понимаете, до чего невесело!..
Я думаю: «Ну! Ну, Петя Трофимов!.. Буденновец! Подними голову!»
Не могу, понимаете. Не поднимается голова.
Какая-то, понимаете, панихида все время в голову лезет.
«Да, тяжело, — думаю, — Петя Трофимов, помирать не в своей губернии. Хотя, — думаю, — губернии мне не жаль. Какая у меня, к черту, губерния? Какая у плотника, каменщика, пастуха губерния? Где хлебом пахнет, туда и ползешь. Отец у меня в одном месте зарыт, мать — в другом. Только и остались у меня боевые товарищи. Да вот загадка: выскочат ли они из ловушки? Ох, думаю, — туго небось товарищу Заварухину в деревне Тыри. Слева Шкуро теснит, справа — Мамонтов, спереду Улагай напирает… И, может быть, это из-за меня! Может быть, это я все дело прошляпил?!»
Но — дьявол! — куда же мы всё идем? Куда же мы всё, понимаете, шагаем?
Уж вон и села не видать, и собаки не лают, а мы всё идем. Удивительно, знаете.
«Разве, — я думаю, — здесь вот, за этим кусточком, не очень подходящее место? Или вон, скажем, за теми ракитами…»
Мне ведь, товарищи, самому приходилось расходовать людей.
Я думаю: «Здесь, за этим кусточком, или вон в том овраге — очень удобное место. Это Зыков, — я думаю, — напрасно меня туда не ведет».
А Зыков меня, понимаете, как раз туда и ведет. В тот самый в овраг.
— А ну, — говорит. — Стой!
Я встал. И стою. И спокойно, вы знаете, думаю:
«Что ж, — думаю. — Прощайся, буденновец!..»
А с кем мне прощаться? Вокруг, понимаете, одна трава.
Я повернул голову и вижу, что Зыков берет свой бердан под мышку, а сам лезет за пазуху и вынимает оттуда — что-то такое неясное.
— На! — говорит. — Пришпиливай!
Что такое?
Вижу — погоны. Понимаете? Золотые погоны с такими блестящими бляшечками. И четыре французских булавки.
— Ну! — говорит. — Приторачивай!
— Что? — говорю.
Я, понимаете, не понимаю. Я говорю:
— Ну тебя, знаешь!.. Довольно шутки шутить.
А он:
— Чумовой! — говорит. — Надевай поскорей погоны, покуда нас не засыпали. Слышишь?
Я не могу. Ей-богу, стою, понимаете, как дурак.
— Ну давай, — говорит, — я сам присобачу. Нагинайся, — говорит. Живенько!
Я нагнулся. И тут он мне ловко пришпилил двумя булавками левый погон и двумя булавками правый.
— А теперича, — говорит, — бежим.
— Куда? — говорю.
— А куда? — говорит. — Ясное дело, куда: к Буденному.
Ох, товарищи!.. Ну, знаете, я чуть не заплакал. Ей-богу, я сел на землю и встать не могу.
— Браток! — говорю. — Братишка! Зыков, — говорю, — неужели свой?
— Свой, — говорит, — честное слово… Вставай, — говорит, — побежим к Буденному.
— Нет, — говорю, — погоди… Не могу.
— А что? — говорит. — Почему не можешь?
— А у меня, — говорю, — в животе какая-то карусель начинается.
Понимаете? У меня в самом деле что-то ужасное начинается в животе. Начинает, я думаю, таять сургуч. Потому что как будто огнем начинает мне жечь и горло, и грудь, и особенно самое брюхо. Все, понимаете, кишки во мне начинают как будто плясать и как будто рваться на мелкие лоскутки. И больно. Такая боль, что сказать не могу. И на ноги встать не могу.
«Фу, — думаю. — неужели от пули спасся, а тут от такой гадости помирать? Нет, — думаю, — не хочу помирать».
И хочу, понимаете, встать на ноги. Через силу встаю на колени и падаю снова.
— Нет, — говорю, — шалишь! Встанешь, так тебя перетак!
И опять, понимаете, встаю на колени. И опять падаю.
— Ах, — говорю. — Дрянь какая!
Вы подумайте: буденновец на ноги встать не может.
«Ну, — думаю, — что ж… Значит — кончено».
— Значит, — говорю, — давай попрощаемся, товарищ Зыков.
А он говорит:
— Ладно. Попрощаться мы после успеем. А ты, — говорит, — не обидишься, если я тебя на руках понесу?
— Нет, — говорю, — это не стоит. Это, — я говорю, — смысла нет меня на руках нести. Все равно мне каюк.
— Да брось, — говорит. — Ну просто у тебя в животе телеграмма зудит.
— Какая, — говорю, — телеграмма?
— А та, — говорит, — которую ты давеча сшамал.
— Вот, — говорю, — охламон! Вот чудик! Это же не телеграмма. Это пакет. Это секретное письмо к товарищу Буденному, которое, понимаешь, я вез и которое не довез. Я, — говорю, — ворона. Я съел важнейшие оперативные сводки своей дивизии. Меня, — говорю, — расстрелять за это мало.
Ну, я, понимаете, все ему рассказал.
— А теперь, — говорю, — оставь меня, за ради бога… Беги, пока жив.
А он — вы подумайте! — ничего мне на это не сказал, а берет меня прямо в охапку, кладет меня, как мешок, на плечо и шагает со мной в кусты.
А потом из оврага вон. А потом через кочки-пенечки бегом, понимаете, как припустил… Даже ужас! Лошади, понимаете, так не бегают.
Я говорю:
— Зыков! Тебе тяжело, наверно?
— Невидаль, — хрипит. — Я, — говорит, — и не с таким бегал.
Я говорю:
— Ты отдохни…
Мне, понимаете, все-таки неудобно как-то на человеке ехать.
— Ты отдохни, — говорю, — а потом опять поедем.
— Не гуди, — отвечает. — До леска вон того добежим, а там посмотрим.
А лесок, я гляжу, не близко. До леска того, понимаете, версты две.
Ну, мы так хорошо с ним скакали, что минут через десять были уже в лесу.
— Тпру! — говорю. — Приехали.
Зыков меня опускает на землю, и я — вы представьте себе! — спокойно встаю на ноги.
Вот ведь чудо какое!
А это, вы знаете, пока я на Зыкове через поле скакал, у меня в животе все помаленьку умялось. И стало как будто полегче. Как будто не так чересчур больно.
— Ну, что ж, — говорю, — давай побежим дальше!
А Зыков говорит:
— Нет. Погоди… Не могу.
— А что? — говорю. — Почему не можешь?
— А я, — говорит, — все-таки не лошадь! Я не могу без отдыха.
Вижу — действительно: вспотел парень.
Ну, мы тут сели с ним под высоким деревом: я растянулся в траве, а Зыков достал кисет и стал закуривать трубочку.
Я говорю:
— Все-таки, Зыков… Я не понимаю: кто ты такой?
— Я? — говорит. — Я — продажная шкура. Я, — говорит, — за английский шинель Мамонтову продался.
— Ох, — говорю, — ты же врешь, Зыков!
— Ну, — говорит, — может, и вру. Меня, — говорит, — это верно, мобилизовали. Я не своей охотой четвертый месяц у белых служу.
И тут он мне, понимаете, рассказал все…
Как он приехал с германского фронта домой. Как у него дома хозяйство погибло. Как он жену после тифа похоронил. Как он, представьте, у попа в работниках жил. И так далее… И как его после насильно забрали в казаки, дали ружье и велели стрелять в большевиков.
— Стреляй, говорят, и пороху не жалей! Потому что, говорят, большевики не люди. Они, говорят, понимаешь, — враги человечества…
Я спрашиваю:
— И ты — стрелял?
— Нет, — говорит. — Я прикладом.
— Как, — говорю, — прикладом? Значит, ты убивал?
— Честное слово, — говорит, — одного только человека… И тот наш офицер. Подпоручик Гибель.
— Это какой, — говорю, — Гибель?
— А тот, — говорит, — который тебя по щеке ударил.
— Как? — я говорю. — Мать честная! Когда ты успел?
— А я, — говорит, — его в околотке… в сенях… прикладом. Пока ты там пирамидон кушал.
Ведь вы подумайте, какой ловкий парень! Он этого подпоручика с одного маху прикладом положил. Помните, доктор спросил, кто там орет? Так это Гибель орал. Зыков его в это время под лавку запихивал.
— Я, — говорит Зыков, — в этих сенях, между прочим, и погончики тебе раздобыл… Нет, — говорит, — не бойся. Не с покойника. Там у доктора китель висел. Так я с этого самого кителя. Ведь ты, — говорит, — теперь знаешь кто? Ты теперь — доктор.
— Фу, — говорю.
Я говорю:
— Зыков! Чего ж ты, братишка, тогда дурака валял? Чего ж ты со мной ругался?
— Ругался? — говорит. — А ты что — захотел, чтобы я целовался? Чтобы я тебя «дорогим товарищем» называл? Так нас бы с тобой тогда, дорогой товарищ, на одной березе повесили.
— Верно, — говорю. — Верно, Зыков! Ах, ну и ловкий ты парень, Зыков!
А он говорит:
— Да! У меня теперича такой вопрос: расстреляют меня, скажи, у ваших или нет, если я туды перемахну?
— Да брось, — говорю. — Ты что — генерал? Или ты полковник?
— Нет, — говорит, — я — нижний чин.
— Ну, — говорю, — чего ж нам тебя стрелять? Мы расстреливаем врагов, капиталистов, а ты кто? Ты же не капиталист? Ты же не с буржуазного класса?
— Я, — говорит, — таких слов не понимаю. Но я, — говорит, — окончил приходскую сельскую школу. Два класса. А после батя меня в пастухи отдал.
— Во! — говорю. — Значит, мы с тобой одного звания. Я тоже в пастухах воспитывался. Да что, — говорю, — я! У нас вся армия с пастухов, да с маляров, да с каменщиков. У нас, — говорю, — тебя примут во как! Свой парень! Мужик! Где же тебе иначе служить, как не в буденновской армии?
— Верно, — говорит. — Мне, — говорит, — в казаках служить неподходящее дело. Я, — говорит, — это давно о Буденном мечтаю. Мне, понимаешь, ужасно охота его поглядеть. Какой он такой, Буденный? Ты его видел?
— Да, — говорю, — видел. Но только — на стенке. Портрет его у нас в штабе на стенке висел. На белой лошади.
— А что, — спрашивает Зыков, — он — с офицеров бывших?
— Ну да! — говорю. — Ты что — сдурел? Ведь он же командует цельной армией.
— Значит, из генералов?
— Да нет, — говорю, — из бывших батраков. Представь себе — нашей губернии мужичок. Да, впрочем, — говорю, — сам увидишь! Если мы до Луганска дойдем и я Буденного разыщу, я тебя обязательно с им познакомлю.
— Знаешь что? — говорит Зыков. — Давай пойдем тогда поскорей, поищем дорогу.
— Пойдем, — говорю.
А сам, понимаете, и встать не могу. Развезло.
Зыков тогда меня поднимает, и я кое-как шагаю. Шагаем мы через лес и выходим на такую веселую опушку. И помню — выходим мы на эту веселую опушку, Зыков и говорит:
— А скажи, — говорит, — на коего лешего ты нашего часового тюкнул?
Я говорю:
— Как тюкнул? Я, — говорю, — его не тюкал. Это его один сумасшедший, наверно, угробил.
И только я это сказал — вы подумайте! — из кустов выходит мужик. Тот самый сумасшедший мужик, который меня, вы помните, напугал и в которого я с браунинга целился.
Идет он навстречу — лохматый, рваный, и опять, вы подумайте, улыбается. И опять он чего-то бормочет и чего-то шипит.
Я испугался. Стал. Но виду не подал.
Я говорю:
— А-а! Знакомая личность.
— Это кто? — спрашивает Зыков.
Я говорю:
— А это тот самый, который вашего караульного камнем убил.
Потом говорю:
— Ты что же это, братишка, по чужому пачпорту людей убиваешь? А? Меня, знаешь, из-за тебя чуть за нос не повесили. Чуешь? Ты, — говорю, — зачем это вздумал людей убивать?
А он отвечает:
— Да, — говорит. — Убивал и убивать буду. Я, — говорит, — вас всех изничтожу, мамонтово племя.
И вижу — глядит мне на левое плечо. А там, понимаете, на левом плече, у меня погон сверкает.
— Я, — говорит, — и вас не пожалею. И вас отошлю к богу в рай, сучьи дети!
Нагибается и — вижу — берет камень.
— Стой! — кричу. — Стой, шалопут!
Но тут, понимаете, — зззиг!
Над самой моей башкой летит камень. Ну, только на палец башки не достал!
Разозлился я.
— Чум! — говорю. — Сумасшедший! Остановись!
А он, вы представьте себе, бежит до канавы, нагибается и набирает полные горсти камней. И оттуда, понимаете, из засады, начинает в нас этим каменьем швырять. Мне в ухо два раза попал. Зыкову, кажется, в грудь или в нос.
Я говорю:
— Хватай его, Зыков! Чего там…
Навалились мы тут вдвоем на этого сумасшедшего, Зыков его по ногам хрястнул, а я в обнимку схватил и валю на землю… А он — сильный. Сумасшедшие, знаете, все сильные. Он ворочается, шипит, кусается — ну прямо никак невозможно его положить. И орет все время.
— Гады! — орет. — Собаки! Холуи буржуйские!..
Ну, тут я с себя ремешок стянул, — у меня ремешок был особенный, прочный, из сыромятной кожи, — и мы сумасшедшего кое-как связали. Чтобы он не орал, мы в рот ему напихали травы. И после, связанного, кинули в канаву, — лежи, мол, отдыхай.
И уж собрались дальше идти, — вдруг слышим топот. Казачий разъезд. Понимаете? Прямо на нас несутся.
— Стой! — говорят. — Кто такие? Откуда?
«Ну, — думаю, — Петя Трофимов! Завяз».
Сижу на земле на корточках и встать не могу.
А Зыков, вы знаете, не смутился. Он отвечает бойко:
— Так, мол, и так… Генерала Мамонтова личные курьеры.
— А куды идете?
— А идем, — говорит, — мы в деревню Курбатово, к полковнику Штепселю с донесением.
— Так, — говорят, — дело. А ну — поворачивай в штаб.
— Это зачем?
— А затем. Там разберемся.
И вижу — глядят на мои погоны. И хмуро посмеиваются. Дескать, нам все понятно. У нас глаза спробованные. Нас на арапа не возьмешь.
А только и Зыков не дурак. Он тоже глядит на мои погоны и тоже чего-то кумекает.
— Вы знаете, — говорит, — между прочим, кто это там сидит? Это, говорит, — самый главный врач деникинской армии. Он только что убежал из советского плена, и теперь ему спешно необходимо податься к Деникину. А я его личный конвой. Чуете?
Те говорят:
— Врешь?!
Он говорит:
— Если вы только осмелитесь нас задержать, вам от Мамонтова так влетит, что лозы не хватит. Верно, — говорит, — господин доктор?
А я, понимаете, прямо смутился и не знаю, что сказать.
— Да, — говорю. — Висеть вам, ребята, на первой березе. Серая, говорю, — вы скотинка. Какое вы имеете право так с благородным человеком поступать?
Я говорю:
— Наука этого не допускает.
Ну, они тут все сразу шапки посымали и стали затылки чесать. А тут, на наше счастье, еще какой-то подъехал. Казак. Он Зыкова знал. Он говорит:
— А! Зыков.
Зыков говорит:
— Здорово, Петров (или, там, Иванов). Подумай, какое дело: меня признавать не хочут!
Тот говорит:
— Что вы, ребята! Это же Зыков. С первого эскадрону. Нашему каптеру земляк.
Ну, тут уж бандиты совсем поверили, что я доктор, а Зыков мой адъютант.
— Пожалуйста, — говорят. — Можете ехать.
И мне говорят:
— Извините, ваше благородие. Мы не нарочно.
Я говорю:
— Чего там… Ладно. Наука это допускает.
И пошел. И Зыков за мной, как адъютант, идет.
А они нам кричат:
— Послухайте! Эй… Послухайте!
— Что еще? — спрашиваю.
Стал. А Зыков мне шепчет:
— Дуй! Дуй, парень…
Они говорят:
— Вы, господин доктор, на правую руку не ходите.
— А что такое?
— А там, — говорят, — за ручьем буденновцы окопались.
— Буденновцы? — говорю. — Ах, какой ужас! Ладно, — говорю, — не пойдем. Мерси вам. Можете ехать.
Они на коней позалезли и поехали.
А мы сразу — в канаву, где, помните, у нас сумасшедший был положен. Мы думали — он задохся. Но видим, что нет сумасшедшего. Туда, сюда, представьте себе, исчез сумасшедший! Один ремешок в канаве лежит, и тот пополам лопнувший.
Ох, я дурак тогда был — мне до чего ремешка стало жалко, я чуть не заплакал! Зыков смеется, говорит: «Вот боров — какой сильный», — а я чуть не плачу. Тем более, что ремешок я купил у нашего взводного за четыре куска рафинада и ему сносу не было. Такой сыромятный, свиной кожи ремень — его двадцать пять человек тяни, не растянешь. А тут один человек без рук разорвал… Или он его зубами раскусил, — я не знаю.
Стою, вздыхаю. Вдруг вижу, что Зыков тоже нахмурился и тоже чего-то соображает. Как будто он чего-то потерял. Или дома оставил.
— Ты чего? — говорю. — Что с тобой?
— Погоди, — говорит, — не мешай.
И чего-то он себя осматривает и ощупывает и лоб потирает. Потом говорит:
— Я, — говорит, — забыл… Это какая рука?
Я говорю:
— Левая.
— А эта?
— Правая.
— Ну, — говорит, — слава богу! Давай сюда. На эту руку.
— А! — говорю. — Понимаю. На правую. За ручей. К Буденному. Есть такое дело! Топаем, Вася!
Бросил свой бывший ремень и так, понимаете, бодро зашагал, что сам удивился. Но только — недолго.
Немного прошел, и опять, вы подумайте, заскулила мозоль, опять в животе заворчало и заныла спина.
Иду раскорякой и думаю.
«Эх, — думаю, — герой! Аника-воин. Таким из-под пушек лягушек гонять, а не за власть бороться».
А Зыков идет, идет и остановится. Потом остановился и говорит:
— Стой! Ты ничего не слышишь?
— Нет, — говорю.
Остановился. Послушал.
И в самом деле, где-то далеко-далеко как будто горох молотили. Я говорю:
— Что-то трещит.
— Стреляют, — говорит Зыков. Пулеметная дробь. С кольту бьют. Чуешь, говорит, — как ваши нашим накладывают?
— Да, — говорю, — чую.
Ну, мы тут опять побыстрее пошли. На дорогу вышли. И по пыльной дороге прямо на солнце топаем. А солнце уже садится, уже темнеет, и чем дальше, тем громче — то справа, то слева — бум! бах!
— Ну, — говорит Зыков. — Довольно! Давай сымать эту дрянь.
— Чего, — говорю, — сымать?
— Погоны, — говорит. — Сымай их к бесу. Ша! Хватит! Пофасонил четыре месяца. Не поверишь, брат, на плечах мозоли натер.
— А пора? — говорю.
— Пора, — отвечает. — Вполне. Давайте, — говорит, — господин доктор, я вам первому сыму.
И начинает сдирать с меня деникинские погоны.
Я голову повернул и вижу, что лицо у него злое-злое, как будто он не погоны снимает, а что-то такое грязное делает. А тем более, что булавка попалась ржавая, не отшпиливается. Он ее дергает, а она не лезет.
— А, — говорит, — холера!
Дернул и — прямо с мясом погон оторвал. Прямо такой вот кусок гимнастерки вырвал.
— Есть, — говорит, — один штука. Давай, — говорит, — поворачивайся!
И только второй отцепил и только бросил его куда-то к черту в канаву, слышим топот.
Опять, понимаете, не успели опомниться, не успели вздохнуть — опять конный разъезд несется.
И прямо на нас.
— Тикай, — говорит Зыков. — Тикай, парень, если жить хочешь.
И так, понимаете, поскакал, будто его стегнули.
И я побежал. Уж не знаю, как я бежал, но только бежал хорошо и от Зыкова не отставал.
А конники, ясно, нас нагоняют. Это в лесу легко убегать от кавалерии, а по гладкой дороге это не очень легко. Все-таки у них ног больше. Лошади все-таки.
Ну, слышу, что ближе и ближе стучат их копыта. И вдруг — трах-тах-тах!
Над самой моей башкой свистит пуля.
Бах! — еще раз…
Как принялись пулять из берданов — спина похолодела.
Зыков мне говорит:
— Милый! Браток!
Я говорю:
— Что?
Он говорит:
— Милый… товарищ! Не отставай…
Гляжу на него: бледный несется, глаза выкатил, на губах пузыри белые, как у лошади.
— Беги, — говорит. — Беги, пожалуйста… Не отставай. Милый…
Ох, не хотелось, как видно, парню обратно к Мамонтову! Видно, и в самом деле хотел он перед смертью Буденного повидать.
Да и мне помирать не хотелось. Я прямо как орловский рысак скакал.
Бежим, понимаете, а вокруг такая пылища, как дым на пожаре. Дороги не видно. И Зыкова мне тоже не видать. А сзади так и трещит:
Бум! Бах! Трах!
Вдруг Зыков мне что-то сказал. Не сказал, а крикнул:
«Ай!»
Или:
«Ой!»
Я не помню.
Я повернул голову и вижу: упал мой Зыков навзничь, лежит на дороге, щека у него в крови, а нос в земле.
А сзади: бах! бах!
Я побежал. Вперед. Не могу. Не бежится. Вертаюсь тогда назад и кричу.
— Зыков! — кричу. — Вставай! Зыков!
А он — не встает. Не шевелится. Землю нюхает.
Хватаю его тогда за плечо. Трясу что есть силы.
— Зыков, — говорю, — хватит трепаться! Вставай!..
Но тут над самой моей головой:
— Стой! Руки кверху!
Поднимаю я эту свою чумовую голову и вижу…
Мать честная! Вижу на мятых солдатских фуражках красные красноармейские звезды.
Сел я тогда, как помню, в самую пыль, где Зыков лежал, и говорю.
— Товарищи! — говорю. — Что же это? Зачем? Ведь вы же, — я говорю, своего убили!
— Брось, — говорят. — Не вкручивай. У наших погоны не блестят.
— Да мало ли, — я говорю, — что погоны! Он все-таки свой! Он, — говорю, — наш!
— Верно, — говорят. — Это ты правду сказал, что ваш…
А ихний взводный командир, такой чубастый парнишка, смеется и говорит.
— Эва, — говорит, — эполеты-то — с мясом вырвал. Сдрейфил, белобандит?
— Сам ты бандит, — говорю. — я тебе, знаешь, — за оскорбление…
Я задохнулся даже. «Что, — думаю, — за черт? К своим попал, а так встречают».
Я говорю:
— Я тебе зубы пересчитаю.
Он говорит:
— Ладно. После посчитаемся. Товарищи, — командует, — убитого обыскать, а этого счетовода гони в Бандурово до комиссара.
Я тут только и понял.
— Вы что, — говорю, — думаете, я — белый?
— Нет, — говорит, — ты, пожалуй, серо-буро-малиновый.
А Зыков по-прежнему все лежит в пыли. Его поворачивают на спину, на бок и шарят во всех карманах. Говорят:
— Еще дышит.
— Ладно, — говорит взводный. — Пускай подышит. Погода сегодня чудная.
Вынимают тогда из кармана Зыкова бумажки. Читают:
«Василий Семенович Зыков, первого эскадрона добровольческой казачьей дивизии генерала Мамонтова рядовой».
— Н-да, — говорит взводный. — Это наш. Это по всему видно, что наш. А ну, — говорит, — на коня, хлопцы!
А мне говорит:
— А ну, солдат… Вперед — за бога, царя и отечество!
— Ну нет, — говорю. — Я не оставлю своего товарища. Берите его с собой. Слышите?
— Извиняемся, — отвечают. — У нас катафалка с собой не захвачено.
— Я, — говорю, — не пойду без него.
— Не пойдешь? Верно? Не шутишь? Ну, если так, то бери его сам. Неси на закукорках. Согласен?
А я — что вы думаете? Я понатужился, сграбил Зыкова в охапку и положил на плечо. Ну, тяжело, конечно, а все-таки я не упал и Зыкова не уронил и стою на своих ногах.
Ну, тут мы поехали.
Спереди едут двое на дозоре, слева еще один, справа еще один, сзади взводный на белой лошади, а посредине Зыков на мне. Конечно, ноги у меня неподкованные, и шибко бежать я не в силах. Тем более, что мозоли, спина… Сами знаете. Я не особенно шибко иду. И невесело.
Иду я, как пьяный. Глаза закрываются, ноги шатаются… И все время, тем более, на коней натыкаюсь. Все время меня окрикивают:
— Эй! Беляк! Лошадей не пугай… Чучело!
Я говорю:
— Извиняюсь. Нечаянно.
И дальше иду. Мне, понимаете, все равно, что кричат. Мне не жалко. Такая в башке чепуха, что и думать не хочется.
Думаю только, что чепуха. Чепуха такая, что ужас! Ужас, какая чепуха! Ведь это представить надо: буденновец к Буденному в плен попал!
А все-таки мне спокойнее.
Свои ведь, черт подери! Ведь свои все-таки, со звездочками. Разве я надеялся, что увижу своих, со звездочками? Нет, никогда не надеялся.
А сбоку копыта стучат. И в голове стучит. И на плече Зыков поминутно вздрагивает.
«Ах, — думаю, — бедняга Зыков! Погиб ты, — думаю, — не за медную пуговицу. И не увидал ты мечту своей жизни, товарища Буденного».
Но я не могу. Я чуть не падаю. Чуть под копыта не попадаю.
Слышу — сбоку смеются:
— Эх, солдат! Мало ты каши ел. Видно, белая каша не очень-то жирная. А?
А я и сказать ничего не могу. Даже выругаться как следует не могу. Я прямо падаю.
Тогда говорит кто-то сбоку:
— Давай, — говорит, — солдат, клади свово друга моему коню на загривок.
Я положил. Я, помню, «спасибо» сказал и взвалил своего бедного Зыкова на теплую лошадиную шею. Ну, он повис и руки свесил. А я дальше пошел.
Уже темно стало. Уж звезды наверху замигали, когда мы въехали в село Бандурово, Марьевской волости, Луганского уезда.
И помню, что мы на каком-то дворе долго чего-то ждали. Тут часовые стоят, тут Зыков лежит на земле у колодца, а я на корточках рядом сижу и плачу.
Может быть, у меня нервы расстроились, может быть, я устал, но мне тяжело было, товарищи, смотреть, как помирает мой друг.
Он дышал еще. Но так, знаете, — невесело и нечасто. Вздохнет, замычит, головой поерзает — и снова молчит. И кровь уже не идет с виска. А это худо.
Я говорю:
— Зыков!
А он молчит. И глаз не открывает. И ушами не шевелит.
Я говорю:
— Зыков!.. Да брось!.. Не журысь! — говорю. — Все ладно будет. Ошибка ведь вышла. Ведь это наши, буденновцы, — говорю, — со звездочками. Завтра мы, — говорю, — Зыков, сами наденем звездочки и пойдем до Буденного знакомиться. Вот я тогда и скажу: «Товарищ Буденный, позвольте вам познакомить мово друга Василия Семеновича Зыкова. Он — первый герой на нашем земном шаре…» Зыков, ты слышишь? А Буденный тебе ответит: «Да, — скажет, хороший ты парень и вид у тебя боевой, но только служить тебе не у белой сволочи, не у Деникина, а в особом отряде товарища Заварухина». И пошлет тебя к нам в часть. Ты хочешь, — говорю, — Зыков, к нам в часть?
Чепуху, конечно, я говорю, потому что Зыков не слышит, молчит и лежит у колодца, как дерево.
Тут отворяются двери, и из дому кричат:
— Пленных!
Это я-то пленный!.. Подумайте только: буденновец к Буденному в плен попал!
Ну, вводят меня в избу. В избе, понятно, и хлебом, и щами, и керосином воняет, под иконами стол стоит, на столе — молока кувшин и английский маузер. А за столом сидит молодой парень в кавказской рубахе. И другой рядом с ним — в кепке. И еще, с бородой — у окна. И еще какие-то — я не помню.
— А ну, — говорят, — ходи, голубчик, сюда, поближе.
Зыкова кладут на лавку, а я подхожу к столу.
Все они разглядывают меня, как будто я не человек, а чудо. Потом они начинают писать акт.
— Фамилия? — спрашивают.
Я говорю:
— Трофимов Петр Васильевич.
— Чего? — говорят.
Я говорю:
— Я не могу вам громко отвечать, у меня горло чернилами смазано.
— Фу, — говорят, — чумовой!
Я говорю:
— Что?
Они говорят:
— Рядовой?
— Да, — говорю, — особого отряда товарища Заварухина боец.
— Как! — говорит парень, который в кавказской рубахе. — Ты заварухинец?
— Ну конечно, — говорю.
— Что за чепуха! Товарищи, где вы его взяли?
А те говорят:
— Заливает, товарищ комиссар. С мамонтовской дивизии чистокровный разведчик. Вот документики.
И кладут перед ним на стол зыковский военный билет.
Я говорю:
— Ну так что ж? Это — Зыков. Он беглый мамонтовец. Это верно. А я Заварухина боец. Я вез, — говорю, — секретный пакет к товарищу Буденному.
— На чем это, — спрашивают, — вез?
— На Негре, — говорю.
— На каком негре? Ты, — говорят, — голубок, не в Африке. Ты, голубок, в Российской республике.
— Да, — говорю, — я знаю, что я в Российской республике. Но Негр — это лошадь.
— Да? А где же она, твоя лошадь?
— Потонула, — говорю.
— Это лошадь-то потонула?
— Да, — говорю, — представьте себе… Затянул чересчур подпругу, ну, с ней в воде худо стало.
— Вот, — говорят, — чудеса какие! Ну, а пакет-то твой где?
— Ну где? — говорю. Обозлился я, помню, страшно. — Где? — говорю. Съел!
Как загогочут:
— Хо-хо-хо!
Не верят, понимаете… Ни одному моему слову не верят. Думают, я треплюсь.
Я говорю:
— Вот у меня и спина вся исстегана. Видите? Что, я сам себя, что ли, шомполами отхлестал?
И тут я задрал рубаху и показал. И тому, который в кавказской рубахе, и тому, который в кепке, и тому, который стоял у окна, с бородой.
У окна, с бородой, говорит:
— Это да. Это так невозможно себя самого исхлестать. Это верно. Вон ведь как, черти, излупцевали! Кто это тебя так?
Я говорю:
— Мамонтовские казачишки.
— А, — говорят. — Что же с ним делать? Может быть, он и верно наш. Кто его знает… Документы у тебя есть?
Я говорю:
— Нету. Все съел. Вы, — говорю, — самое лучшее, телеграмму пошлите к товарищу Заварухину. Он вам ответит.
— Эвона, — говорят, — от Заварухина три дни известий нету. Где он и что с ним — аллах ведает.
— А я, — говорю, — знаю, где он и что с ним. Я товарищу Буденному от него все сведения везу. Пустите меня, — говорю, — пожалуйста, я дальше поеду.
— Ну как? — говорят одни.
— А что? — говорят другие.
И вижу — плечами пожимают и руками вот этак делают. Отпустят, вижу. Ей-богу, отпустят.
Но тут, понимаете, снова случилось приключение.
Вдруг, вы представьте, за окном во дворе какой-то начался шум. Какой-то послышался голос. Какое-то даже пение послышалось. И мне почему-то сразу стало невесело. У меня какое-то вроде предчувствие появилось. Мне худо стало.
А комиссар, который в кавказской рубахе сидел, спрашивает:
— Чего там такое случилось во дворе?
Который с бородой повернулся к окну и отвечает:
— А это все тот самый несчастный старикан шумит.
— Какой несчастный старикан?
— А тот пасечник, у которого белые жену зарезали.
— А, — говорит комиссар. — Чего ж он бродит тут? Чего его не впускают? Может быть, он голодный, так пусть ребята накормят.
А тут распахнулась дверь, и сам этот несчастный пасечник ворвался в избу.
Ну, я его сразу узнал. Как же мне было его не узнать, когда он на меня за один день столько страху нагнал! Это был тот самый мужик. Сумасшедший. Теперь он совсем уж был страшный. Одежда его совсем изодралась. Руки и ноги были в крови, как будто он три часа в шиповнике прятался. И главное дело глаза у него совсем полоумные стали. Такими глазами можно было цельный полк боевой кавалерии испугать. Я чуть на пол не сел от страха. А он увидел меня — как замашет руками, как заорет…
— Ага! — кричит. — Вота он! Товарищи! — говорит. — Большевики! Бейте его! Бейте чертова сына! Стреляйте в него сию минуту с самого длинного нагана…
— А что, — говорит комиссар, — ты его разве знаешь?
— Знаю! — говорит. — Как же не знать! Они самые хату мою сожгли и Нинку, старушку мою, штыком закололи. Они, собаки, после уздечкой меня в лесу увязали…
— Что? — говорит комиссар. — Что такое?!
А я говорю:
— Как уздечкой? Врет, — говорю, — не уздечкой, а ремешком.
А он:
— Это, — говорит, — генерала Мамонтова кульеры. Шли они, — говорит, до Курбатова с доносом. Я все своими ушами слышал, хотя они меня, подлецы, уздечкой связали и в канаву кинули.
Я говорю:
— Не ври! Что ты выдумываешь? Не уздечкой вовсе мы тебя вязали.
А комиссар:
— Ша! — говорит. — Не гуди! Ты лучше скажи, дрянь, зачем это ты в Курбатово путешествовал?
Я говорю:
— Ну так что ж… Это верно. Действительно, мы шли в Курбатово. Но шли мы занарочно… Шли мы…
Я смутился. Я спутался, понимаете, и покраснел, наверное.
— Шли мы, — я говорю, — не туда, а шли сюда. Шли мы…
— Стой! — кричит комиссар. — Достаточно.
Потом говорит комиссар старику:
— Ладно, диду. Спасибо тебе. Можешь идти. Скажи красноармейцам, чтобы тебе кушать дали. Прощай.
Пожал сумасшедшему руку, и сумасшедший ушел… А все ребята сели в углу под иконами и стали совещаться…
Ну, время тогда, сами знаете, какое было. Экономное. Рассусоливать некогда было.
Пошептались ребята, подумали, написали чего-то в бумагу и уже читают:
— «Трофимова Петра, неприятельского разведчика и шпиона, — расстрелять. Приговор привести в исполнение немедленно».
Я — что? Я ничего не сказал. Только, помню, сказал:
— Н-да!.. Буденновец к Буденному в плен попал…
Тогда все встали. Кто из избы пошел. Кто о военных делах заговорил. А меня взяли трое или четверо за бока и повели во двор. И велели вставать к стенке.
Я, помню, им говорю:
— Во дворе не стоит. Зачем, товарищи, двор гадить? После, — я говорю, мужику противно будет. Вы где-нибудь в стороне, чистоплотно…
— Ладно, — говорят. — Ставай. Некогда чистоплотничать.
Я говорю:
— Ну что ж… Я разденусь.
— Не надо, — отвечают.
— Что же, — я говорю, — значит, одеже пропадать? Нет, это так не годится… Лучше, ребята, я вам свою одежу отдам. У меня, — я говорю, сапоги отличные. Спиртовые! А?
— Не надо, — говорят. — Не желаем английских сапог. Пущай в них Антанта ходит.
— Дурни вы! — говорю. — «Антанта»! Сами вы Антанта! Так это же, — я говорю, — не английские сапоги. Это московские. Фабрика «Богатырь».
Сажусь я скорей на землю и тащу с себя эти самые богатырские сапоги.
— Нате, — говорю, — ребята, носите на вечную память.
Кидаю им сапоги. Разматываю портянку.
И — что вы думаете? Ну, этого мне не забыть!
Я вижу в своей изодранной, потной портянке какой-то клочок. Какой-то бумажный комочек. И что-то на нем написано.
Я развернул его и вижу — буквы. Но что это были за буквы, в то время я не знал.
Я говорю:
— Ну-ка, ребята, я неграмотный. Прочтите, чего тут написано.
Они говорят:
— Чего нам читать! Нечего нам читать. Вставай к стенке!
Я говорю:
— Да что вам, жалко, что ли? Успею я к стенке встать. Прочтите, чего тут сказано. Может быть, тут что-нибудь важное сказано.
Ну, один нашелся, который зажег спичку и стал читать. Стал шевелить губами и составлять буквы. Потом говорит:
— Тут написано, в общем, «хайло».
— Как? — я говорю. — Какое хайло?
— Да, — говорит, — хайло.
Другой подошел. Третий. Стали читать.
— Да, — говорят. — В общем, «нуми… хайло… К.К…».
Потом говорят:
— Подозрительно все-таки. Тут и печатка была пришлепнута… Давайте, говорят, — ребята, позовем Белопольского.
Пошли в избу. Через секунду возвращаются с комиссаром. Комиссар — в кавказской рубахе — ругается.
— Что еще, — говорит, — за хайло? А ну, покажите.
Берет, я помню, рваную, мятую мою бумажку и читает:
— «…ну Михайловичу Буденному… арму Первой конной штаб шестой дивизии РККА».
Ну, тут что было — можно и не говорить.
Комиссар Белопольский за голову схватился.
— Что это? — говорит. — Что это такое?!
Я говорю:
— А это все, что от пакета осталось. Который я вез в Луганск. К Буденному. А остальное, — говорю, — я сшамал.
Ах, что тут было!
Комиссар Белопольский кричит:
— Отставить. Приговор отменяется!
Потом он подходит ко мне, нагибается и хватает меня за плечо.
— Товарищ, — говорит, — извини! Чуть к богу в рай не послали.
Я говорю:
— Ничего. Пожалуйста. Дайте мне лошадь, я к Буденному поскачу. У меня, — говорю, — к нему очень важные оперативные сводки.
А сам, понимаете, и с земли встать не могу. Сижу на земле, без сапог и портянками пот с лица вытираю. Упрел, понимаете… Упреешь!..
Через пять минут у ворот тачанка гремит. На паре. Кони такие чудные, так и бьются — прямо копытами землю роют! Меня положили на тачанку. Сеном всего обклали. Тепло, мягко…
Я, помню, глаза чуть-чуть призакрыл и слышу — товарищ Белопольский командует:
— В Луганск, до штаба командарма Буденного.
Тогда я голову поднимаю.
— Послушайте, — говорю, — и Зыкова тоже положьте.
И Зыкова принесли и положили рядом со мной. Пихнул я его, помню, головой в бок. Молчит. Ни бум-бум. Как дерево.
Тут кучер мой захлопал кнутом, тачанка дернулась, и я потерял память. Заснул, одним словом.
И, помню, вижу я сон.
Будто стоим мы в городе Елисаветграде. Будто у меня новые сапоги. И будто я покупаю у Ваньки Лычкова, нашего старшины, портянки. Будто он хочет за них осьмую махорки и сахару три или четыре куска. А я даю полторы пайки хлеба и больше ни шиша, потому что махры у меня нет. Я некурящий. И будто мне очень хочется купить эти портянки. Понимаете, они такие особенные. Мягкие. Из господского полотенца.
Я говорю:
— Полтора фунта я дам. Хлеб очень хороший. Почти свежий.
А Лычков говорит:
— Нет… К богу!
Ну, я не помню, на чем мы с ним сторговались, но все-таки я их заимел. Я их купил, эти портянки. И стал наматывать на ноги.
Мотаю их тихо, спокойно, а тут вдруг товарищ Заварухин идет. Идет он будто и пуговицы на гимнастерке считает. И так говорит:
— Трофимов, до нашего сведения дошло, что ты на ногах имеешь мозоли. Это верно?
— Так точно, — говорю. — Есть маленькие.
— Ну вот, — говорит. — Наш особый отдел решил тебя по этому поводу расстрелять.
Я говорю:
— Как хотите, товарищ Заварухин. Это, — я говорю, — товарищ Заварухин, ваше личное дело. Можете расстреливать.
И начинаю, понимаете, тихо, спокойно разматывать свои портянки. Сымаю портянки и думаю: «Н-да! Бывает в жизни огорченье…»
А тут я проснулся.
Лежу в тачанке. Тачанка стоит почему-то. Темно. Мост какой-то или застава. Мой кучер сидит на передке и курит.
А рядом Зыков.
Хрипит мой Зыков из последних сил, и все лицо у него, подумайте, в крови. Из виска так и булькает. Так и клекочет.
Хотел я подняться и кучеру сказать, чтобы чего-нибудь с ним сделали, но мне так страшно стало, что я обратно без памяти упал. И обратно заснул.
А второй раз проснулся уже в другом месте.
Лежу я в мягкой постели. Над головой у меня лампочка тихо горит. На животе чего-то лежит горячее, пузырь какой-то, а рядом на стуле сидит такой рыжеватый дядя в белом переднике.
Я говорю:
— Ты кто, рыжий?
Он говорит:
— Я доктор.
— А я?
— А ты в лазарете. Ты больной. Лежи, пожалуйста, и не двигайся. У тебя только что в желудке нашли сургуч, чернила и еще кое-что.
Я говорю:
— Так. А бумагу нашли?
— Да, — говорит, — очень много.
Я говорю:
— Всё поняли?
— Что? — говорит.
Я говорю:
— Всё разобрали, что там написано было? Или что-нибудь смылось?
— Да нет, — говорит. — Эта бумага превратилась в сплошную массу.
— Жалко, — я говорю.
Он говорит:
— А тебе теперь нужно лечиться. Тебе нужно серьезно и долго лечить свой живот. На вот, — говорит, — скушай, пожалуйста, на всякий случай пирамидону.
Я съел. Он посидел, поправил пузырь и ушел.
Я повернул голову. Поглядеть, что тут такое происходит. И вижу — лежат больные. Спят. Кое-кто стонет. Кто-то бормочет во сне. А через две койки от меня, у самой печки, вижу — знакомая личность.
Представьте себе — Зыков!
Но только — что он такое делает?
Башка у него забинтована. Один нос торчит. А он, этот Зыков, свесился с койки и чего-то на полу делает. Что-то пихает в щелку.
Я говорю:
— Зыков!
Он свои полбашки поднял и говорит:
— А?
Я говорю:
— Чего, — говорю, — ты там делаешь?
— Я?
— Ну да, — говорю. — Ты!
— А я, — говорит, — это пирамидон туды пихаю. Мне, — говорит, понимаешь, он до чертовой матери надоел. Пирамидоном, — говорит, — наверное, во всех армиях лечат. Я думаю, доктора еще до рождества Христова солдат пирамидоном кормили.
— Чудак! — говорю.
Потом спрашиваю:
— Ты жив?
— А то нет? — говорит.
Я говорю:
— Рад?
— А то нет? — говорит. — Чучело тамбовское!..
Ну, хотел я его как следует обругать, хотел даже в него подушкой кинуть, но вдруг ослаб, ослаб, понимаете, задрожал и тюкнулся на эту самую подушку. И заснул.
А проснулся от солнца. Это уж утром было. Горячее солнце хлещет мне прямо в глаза. Я отворачиваюсь, помню, повертываю голову и вдруг вижу знакомое лицо.
Такой невысокий, плечистый дядя с усами стоял в дверях и смотрел на меня.
Понимаете, я его сразу узнал. Хоть и не видел ни разу, а узнал.
«Ох, — думаю, — братишка наш Буденный! Какой ты, с усам…»
А он — сам с усам — подходит до моей койки, снимает свой громоотвод и говорит:
— Ну, здорово!
Я приподнялся немного и говорю:
— Товарищ Буденный… — Я поперхнулся даже. — Товарищ Буденный! Особый отряд товарища Заварухина окружен неприятелем. Слева, — я говорю, — теснит Шкуро. Справа теснит Мамонтов. Нет, — говорю, — слева Мамонтов… Слева, — я говорю, — Улагай… Извиняюсь, — говорю, — справа Улагай…
Я забыл. У меня в голове, понимаете, все спуталось. Я замолчал. И лег.
А товарищ Буденный, помню, положил мне на лоб ладошку и говорит:
— Жар начинается. Необходимо поставить компресс.
Но я тут вспомнил чего-то, поднялся опять через силу и говорю:
— Товарищ Буденный! Позвольте вам познакомить моего друга — Василий Семеныч Зыков. Первый герой на земном шаре.
Смеется Буденный и говорит:
— Это который герой?
— А тот, — я говорю, — у которого полбашки завязано. Вота он вам улыбается.
— Ага, — говорит.
И пошел к зыковской койке.
Ну, как они там познакомились, я не помню. Проще сказать, я не видел. Я спал.
А через две недели я вышел из лазарета и поехал обратно в дивизию.
А потом зима наступила. И под самый Новый год — мне из Москвы подарок: орден Красного Знамени.
За что? — вы подумайте…



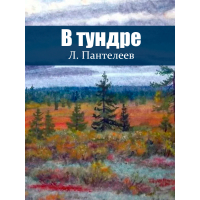
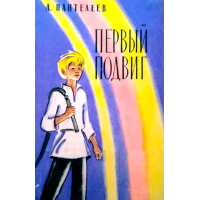
Комментарии