Пеструха
Виктор Астафьев
Валентину Распутину
Холодны и коротки январские дни, длинны и тоскливы стылые ночи. Жизнь идет большей частью под крышей, в тесноте и духоте избы, оглохшей, ослепшей от толсто намерзшего на окне льда, от ставен, для сохранности тепла, может, и от сонной, одуряющей лени, не открывающихся и днем.
Но вот какое-то беспокойство поселяется в избе, все чаще бабушка вскакивает по ночам, накинув шубенку, какая попадет под руку на вешалке, спешит куда-то с фонарем — и долго ее нету. Приходит, гасит фонарь, крестится и сидит какое-то время на краю кровати, потом, сронив с ног катанки, не раздеваясь, приляжет поверх одеяла со словами: “О, Господи, Господи! Сохрани и помилуй нас” — и уж долго лежит в глухой тиши, поворачиваясь с боку на бок. По избе медленно растворяется запах горелого керосинового фитиля. Слышно, и дед не спит, кряхтит, громко сморкается на пол, и бабушка тут же берет его в оборот: “Ну чисто из пушки палит! Спят ведь люди-то, робятишки набегались, без задних ног свалились…” Дед: “Бу-бу-бу” — в ответ и начинает закуривать. Бабушка снова на него наваливается: “И жрет, и жрет этот клятый табачишша, ну ни дня ему, ни ночи!” Дед опять: “Бу-бу-бу”, и все стихает. Потом уже дед с кряхтением, щелкая костями, слазит с курятника, нашаривает на шестке печи теплые катанки, засвечивает фонарь и тоже надолго исчезает. Появившись, заносит с собой и пускает в дверь морозного, сладкого воздуха, завывая, зевает и влазит на курятник. В избе снова поселяется тишина.
Спустя время между дедом и бабушкой начинается озабоченный разговор, совершенно недоступный нам, малым ребятишкам, упорно борющимся со сном. “Навымнуло, брюхо затужело, переступает чижало, беспокоится”. — “Куда головой-то лежит?” — “Наполночь”. — “Ну, стало быть, ночью и жди”. -“Да‑а, уж спать надо вполглаза”. — “Все уж сроки навроде прошли”. Бабушка шепотом считает во тьме и успокаивает деда: “Так-то, по дням-то, вроде бы и прошли, но она ж у нас барыня, всегда перехаживат… — И, подумав, продолжает как бы про себя, но с явным расчетом, чтобы и деду было слышно: — Я как поведу коровенку к быку — все как надо быват — огуляется, завяжется. Как наш хозяин пойдет, так и жди прорухи… Ну никакого ответственного дела не доверяйНу везде сама поспевай, досмотривай…”
Дед бубнить было начал, но потом закряхтел и утих, пуская во тьму реденькие, приглушенные вздохи. Переживает дедушка. Думает, отчего он такой бесталанный уродился, все у него идет через пень-колоду… ладно вот баба попалась удалая, пропал бы без нее, пропа-а-ал! Тут и говорить нечего и думать не об чем.
— Может, ее в город, к ритеринару свести?
— Стельну-то? В последнем-то сроке? Ну, хозяин у нас! Ну, голова!
— Дак сама же в сумленье. Может, говоришь, не завязалась?..
— Я не знаю? Я не знаю? У меня перва корова на дворе? У меня их перебыло больше, чем у тебя, у красавца такова, девок на повете!..
— Оно конешно… Так-то бык каченскай, злой. Орет, глазом верьтит, на Пеструху целится, аж слюна в роте закипела. Покрыл навроде справно, без промаху…
— У ково слюна-то?
— Да у быка! Пеной, холера така, брызгат, глаз кровью налитой. Копытом землю бросат! Я аж попятился.
— Испужался?
— Аха.
— Вот и пропятился! Теперь живи не тужи, жди холоду в петровки…
— Ох-хо-хо-о‑о… Живешь, живешь, одно переживанье за другим.
— Нет, надо эту барыню со двора сводить, надо нетель запускать.
— Дак и нетель избалуешь. Барыней сделаш.
— Барыней… От барыни и молоко барско! Чье молоко красноярский базар выделят?! То-то!
— Да так-то оно конешно…
— Ох-хо-хонюшки… Витька! А тебе чЕ не спится? Ты ково караулишь? Тоже Пеструху?
— Ага, тожа.
— Молочка охота? Замер. Ну, погоди, потерпи. Бог милостив…
И снова бдение в темноте, шептание молитв, хождение на улицу с фонарем. Днем к бабушке не подступись. “Да отвяжитесь вы, окаянные! — устало бранится бабушка. — Не до вас!”
И нот наступает еще одна ночь — чаще всего всякие таинства свершаются, как им и положено, ночью. И вот, стало быть, глухой ночью слышатся торопливые, грохающие, по звуку даже радостные, добрую весть несущие шаги. Дедушка с высоко поднятым фонарем бухает дверью и еще от порога звонким, молодым даже голосом извещает:
— Ну, старуха, с телочкой!
Бабушка мигом вскакивает с кровати, нащупывает ногами катанки, сует в них ноги, крестясь, миротворно напевает:
— Слава, те, Господи! Слава те… — и тут же спохватывается, вспомнив, кто она есть и зачем на свете существует. — Дверь-то, дверь притвори! Холоду напустил… И разболакайся. ЧЕ стоишь как столб телефонный! Вытер ли его? Вытер. Сухой ли тряпкой? Сухой. Облизала, говоришь? Хорошо кормить будет.
Дед раздевается взбудораженно, шумно и как бы между прочим ввертывает:
— А чЕ, старуха, по такому случаю…
— Да уж чЕ уж с тобой сделаш? У тя на все случаи один спрос…
На кухонный стол является из каких-то избяных недр извлеченная “четушка” в сургуче, похожая на молодого петушка с гребешком, чашка с капустой, растресканная эмалированная тарелка с хлебом. Слышно, как булькает сперва коротко, потом подлиньше. Коротко — бабушке глоток-другой, длинно ‑граненая рюмка всклень — в этих делах дед себя не обделит.
— Ну, старуха, дай Бог! — И, ахнув так, будто оступился голой пяткой в ледяную прорубь, отправляет дед злодейскую, жгучую зелью единым глотком в далекие места. — А‑а-ах, хорошо-о‑о! Вот и дождалися! Вот и все тревоги кончились. Да и то сказать — так-то коровенка аккуратная, в теле, бык матер, не должно обсечки быть, думаю, но вот вишь ты — не живи, как хошь, а живи, как Бог велит! И день, и другой, и третий томит…
Ну, дед! Ну, оратор! Хлеще тетки Татьяны-активистки речь валит. Это он, посмеивается Кольча-младший, под бабку колеса передков подкатывает, точно под комель неподатливо-тяжелой лесины. И подкатил! И навалил!
— Уж допей. ЧЕ зло-то оставлять?..
Утром — редкостная картина: все спят, словно в праздник, долго, успокоение. Дед под бочком у бабки, она “на его ручке” — так принято у нас говорить. Проснувшись, как всегда, первой, обнаружив неслыханный семейный союз, бабушка впадает в конфузию и вроде бы сердито сымает себя с дедовой “ручки”, даже отталкивает ее. Дед, ублаженно вздохнув, почмокивает губами, отворачивается лицом к стене и продолжает сладко спать, глубоко и мощно дыша. Бабушка ворчит, повязываясь платком:
— Токо бы дрыхал. Токо бы дрыхал!.. И так уж проспал все царствие небесное, увалень! — А сама “незаметно” прикрывает его одеялом, подтыкает под спину и, махая перед лицом и перед грудью вялой еще рукой, говорит с будничной, привычной раскаянностью, просто так, для перестраховки: — Прости наши грехи тяжкие, матушка Пресвятая Богородица! — и отправляется править утренние кухонные и хозяйственные дела.
Лад и склад царят в нашем доме, всем людям на зависть и на загляденье. Забегающим родственникам сообщается важная новость, и они, которые крестясь, которые просто так, говорят: “Вот и слава Богу! Вот и слава Богу! А наша ‑с первотелу, тута больна, дак боимся. А што как двойня?!” — “Да кто же об двойне печалится? Об двойне молятся! Молода, ниче в жизни не кумекаш”, ‑журит бабушка какую-нибудь из своячениц, либо невесток, либо дочерей.
Малый деревенский народ тоже себе на уме — не говорят взрослые, что корова благополучно отелилась, только прорвется намеком у бабушки: “Ну, робятишки, скоро-скоро с молочком будете, а то замерли, совсем замерли…” — и мы делаем вид: слыхом не слыхали, видом не видали, какое беспокойство, почти паника были в дому, и, коли нам не велено ничего знать, мы и “не знаем”. Из несмышленышей, из малышни кто заведет разговор о теленочке ‑старшие ребята вытаращатся на него: “ШаСглазишь!” — суеверная, пугливая благоговейность, таинство ожидания сделают ребятишек на какое-то время послушными и даже раболепными…
Наступает день — помнится он, этот день, морозным, солнечным, озаренным не только ярким светом снегов и ломающихся на стуже солнечных лучей, но и обещанием торжественного праздника, хотя в явности происходят будни, однако предчувствие необычного не обманывает нас.
— Ну, робятишки! — поигрывая глазами, улыбающимся ртом начинает бабушка, малые обитатели избы и гости напряжены, в струнку вытянуты, ждут, что последует дальше, и, зная заранее, что последует, все-таки всякий раз соловеют, словно бы хмельными делаются от сотворяющегося в доме чудесного действа, сердчишки ребятишек обмирают от приближения к той тайне, которая должна открыться сейчас вот, на глазах, и, благодарные от приобщения к делам и секретам взрослых, готовы уж и смеяться, и любить всех. — Ну, робятишки, пойдемте телочку смотреть, имя ей придумывать.
— Ой! — исторгался стон радости из детских грудей. Детей брали на такое дело не только своих, но и соседских либо дружков ближних, и тут уж Санька левонтьевский непременно увяжется за нами, и Танька левонтьевская ‑у самих-то коровы нету, стало быть, и теленочка быть не может, так хоть к нашему подмажутся.
В парной, прелой соломой и назьмом пахнущей стайке мутнеет оконце, прорубленное в стене, застекленное на зиму. Обмерзло оконце с наружной стороны, и внутри оно обметано настынувшим льдом по уголкам проруба и стесам бревен. Мутное, отпотелое в середке, пропускает оно едва ощутимый свет, куржак по потолку стайки тоже чуть отсвечивает блеклой пеленой. В стайке на морозы установлена печка, да топлена она с вечера, и в коровьем помещении заметно выстыло. Парно и зябко в стайке, желтая свежая солома, щедро наваленная на пол и в углы, источает сладкий, чистый запах овсяного поля. Солома и пахнет, и светится свежо в этом мрачноватом, дыханием большой доброй скотины, теплом навоза чуть согретом строении с низким, грубо тесанным потолком из напополам расколотых бревен. Пазы в потолке словно бы проконопачены белыми бечевками куржака. При нашем появлении потревоженный куржак заструился сверху мелкой пыльцой, коснулся едва ощутимым холодным дуновением напряженных ребячьих лиц, начал оседать на шапки, на одежду людей, затиснувшихся в стайку.
— Проходите, проходите проворней, — отчего-то вполго- лоса, вроде как боязливо поторопила нас бабушка, и от ее голоса мы, и без того присмирелые, оробели еще больше. — Холоду напустим, — пояснила она.
Дед вошел последним и поднял фонарь. Корова Пеструха лежала на свежей соломе, подобрав под большое, орыхлевшее, мягкое брюхо теленка, прикрыв его шеей, ногами и всем телом так, что у теленочка была видна лишь рыженькая головка со светлой проточиной на лбу. При появлении такого многолюдства корова забеспокоилась, стала подниматься, теленочек, поджавший под себя ножки и весь упрятавшийся в уютном прикрытии матери, все лежал с полузакрытыми глазами, плотно сжатыми бледно-белыми губами широкого рта, и хотя бабушка успокаивала корову, оглаживая ее и разговаривая: “Ну, что ты, что ты, Пеструха! Что ты! Успокойся, успокойся! Это ж робятишки. Попроведать тебя пришли, на дитю твоего полюбоваться, пожалеть тебя, полюбить ево…” ‑корова все же трудно поднялась, повернула голову и грустными, усталыми глазами поглядела на нас вроде как с досадой и недоверием.
Дедушка повесил фонарь на железный крюк, вбитый в потолок, и, бережно взяв под брюхо теленочка, начал поднимать его на ножки, напевно воркуя:
— Ну, подымайся, подымайся с Богом, рожоной. И когда теленочек нехотя, как бы с ленцой поднялся на длинные, узластые ножки со светлыми, будто игрушечными копытцами, дед все продолжал держать под брюхо коровье дитя своими большими вытянутыми руками и что-то ворковал, ворковал, просветленно улыбаясь в бороду.
— Подойдите, подойдите к теленочку-то, подойдите, не бойтесь! Да по спине-то не гладьте теленочка, захредеет, — поощряла и наставляла ребятишек бабушка. И я, за мной Алешка, за ним уж “чужие”, соседские, ребятишки осторожно приблизились к теленочку, окружили его. “Рожоной” смотрел на нас удивленным взглядом новожителя земли, привыкал к нам, осваивался с народом. Я осторожно потрогал проточинку на лбу теленка, которая вверху как бы расцветала на светлом стебельке совсем ярким, на лучистую звездочку похожим цветком. Теленок потянулся к руке и лизнул мою ладонь теплым, ласковым, детски доверчивым языком, и, хотя мне было боязно и щекотно, я не отдернул руку, раскрыл ладонь еще шире, и теленок лизал ее или искал что-то на ладони.
— Баба, можно ему дать кусочек? — Я еще с вечера засунул в карман своего пальтишка кусочек хлеба, солью его посыпал, зная, догадываясь, что все равно скоро пойду знакомиться, родниться с ним, с нашим теленочком, которого сразу никому не показывают — “от сглазу” (слава Богу, никого у нас в родове и у левонтьевских тоже нету с урочливым, черным глазом, и вот мы, наконец, допущены к теленку).
— Ты и кусочек прихватил? Ну, молодец! Ну, добрая у тебя душа. Дай, дай, токо без корочки, штабы не подавился, он же ишшо совсем маленький, совсем крошка. Третий день на свету, на белом. Храни его и нас, Господи!
Теленок откликнулся на мое подношение. Сперва обнюхал ладонь с хлебом, втягивая воздух, потом шумно выдохнул, притронулся языком к кусочку, лизнул сольцы, пошлепал, пошлепал губами, распробовал сладь земную, против которой и дикий, осторожный зверь не устоит, и начал неумело, поспешно жевать хлебушек, крошить его на моей ладони.
— Баба, ест! — от радости дрожащим голосом сообщил я, будто невесть какую неожиданную новость, и от громкого голоса снова забеспокоилась Пеструха. Но бабушка, всезнающий, опытом наделенный человек, вынула тоже заранее приготовленное лакомство из-за пазухи, и корова успокоенно начала жевать ломоть хлеба с сольцой, шумно при этом и, как мне показалось, благодарно вздыхая.
Той порой, когда я кормил кусочком телочку, дед пальцами вытащил из ноздрей ее засохшую слизь. Корова-мама облизала дитя свое и мордочку ее обиходила, но лишь сверху, в носу у новорожденной все еще насыхали пробки и мешали ей дышать. И когда дед выскреб из носа ссохшееся мокро, высвободил ноздри телочки, она так вольно и шумно ими дохнула, что соль с хлебушка разлетелась и на кусочке сделалась луночка.
— Не балуй! — стукнул я пальцем по широкому и плоскому, как у кряквы, носу телочки. Она восприняла это как игру и дохнула так, что соль белыми брызгами полетела вверх и по сторонам, словно бы синичьим клювом прошлась по стеклу, сыпко ударилась в лицо, одна солина попала в глаз, другая под рубаху. Кольнуло тело холодной искрой, зябкой струйкой черкнуло по животу, солинка застряла ниже его, защипало солью возле петушка и в глазу. Глаз заслезился, я начал тереть его рукавичкой. Тем временем солинка внизу отлепилась и упала в валенок. Я слышал ее пяткой до тех пор, пока она не впиталась в кошму валяной шерсти.
— Да ты навроде как нюнишь? — спросила бабушка.
— Не‑е, маленько глаз щекотит. Не балуй! — уж легонько, ногтем щелкнул я телочку по носу. Она чуть попятилась и вроде как с разгона головой в меня ткнулась, боднула вроде бы. — Она уж играет! — обрадовался я и зажал ее голову под мышкой. — Будешь знать, как баловаться!
— Она ж дитя. Ей тоже поиграть охота. Телочка подерга- лась, подергалась головой, и я отпустил ее.
— Г‑ме‑е! — пожаловалась телочка.
— Поиграй! Ишшо с ней поиграй! — просили ребятишки и уже смелее окружили теленка, оглаживали его, ласкали. Танька левонтьевская вдруг обняла новорожденного за шею, припала щекой к его нежной, местами куржачком закучерявленной шерстке и прошептала, зажмурясь:
— 0‑ой, до чего же он хорошенька-ай! — И столько нежности, столько теплоты источалось из детской груди девчонки, что бабушка похвалила малую соседку:
— Хоть и в непутевой ты семье взрастаешь, Танька, а баба из тебя, видать, ладная получится, — подумала и добавила: — Душевная.
Скоро и сыр-бор начался в тесной, глухой стайке — мы взялись придумывать имя телочке, и хотя говорят, что творчество — дело тихое, да вот не всякое оно, выходит, тихое. Ласка, Звездочка, Мушка, Полька, Манька — все это было отвергнуто по тому мотиву, что под такими названьями уже бывали коровы на нашем дворе. Долго жили на свете бабушка с дедушкой, и все имена, как человеческие, так и скотские, извели, по этой причине у нас были два Кольчи — младший и старший; два Ивана — старший Иван и его сын, Иван Иванович, наш брат, а бабушке внук, — поэтому никаких подходящих имен на память не приходило.
В стайке после первой вспышки спора, предложений и ора повисла тишина, было слышно только, как жует и шумно вздыхает Пеструха. Напряженная вокруг работала мысль, ребятишки шевелили мозгами и губами, перебирали всякие имена, но ничего на данный момент нужного, как нарочно, не являлось, бабушка с дедом на помощь ребятам не приходили.
— Хавронья! — с напряжением выдохнул левонтьевский Санька.
— Ну‑у! — понеслось возмущение со всех сторон. — ЧЕ те, свинья, чЕ ли? Ляпнул, как в лужу…
Санька сконфуженно умолк и больше, как ныне принято говорить, в конкурсе не участвовал, только гладил телочку, выбирал из ее шерстки соломинки и вытягивал губы трубочкой, говоря на ухо малышке какие-то нежности или пытаясь согреть ее своим дыханием.
Дело двигалось туго. Ребята снова громко расспорились, до грудков начали доходить, как бабушка, опять же бабушка, разрешила трудный вопрос жизни и нашего, набирающего силу, собрания.
— ЧЕ Алешка — Божий человек велит, так тому и быть.
И мы все, и бабушка, и дедушка обратились взором к Алешке, который, как вошел в стайку, так все блаженно улыбался, то гладил теленочка, то смотрел на нас, пытаясь угадать — чего же все-таки мы решим, к какому результату придем?
Алешка перестал улыбаться, построжел, напрягся, рот его приоткрылся, и долго он был в оцепенении от скованности мысли, уж и слезы начали у него на глазах выступать, и несчастным лицо его делаться — как всегда, когда он пытался понять и не до конца понимал людей со слухом и языком. Почти догадываясь, но все же не веря, какое ответственное, равноправное со всеми нормальными людьми дело доверено ему, он еще раз настороженно обвел нас взглядом.
— Угха! — не языком, горлом, скорее даже чревом, с натугой выдохнул Алешка и стал рукой утирать с глаз слезы, от напряжения, потраченного на мысль, звук и слово возникшие.
— Ну что ж, — подвела итог бабушка. — Старшая Пеструха скоро сойдет со двора, появилась молодая Пеструха. И, как говорится, хорошему роду нет переводу.
Все мы от счастья запрыгали, заобнимали теленочка, затормошили Алешку, он цвел, улыбался, а по лицу его катились крупные светлые слезы радости: шутка ли — он придумал имя телочке, нашей будущей корове, с которой долго нам жить, любить ее, лелеять, кормить, она за это за все будет нас поить молоком, из которого можно будет добыть масло, настоять сметану, сделать простоквашу, творог, мороженые кружки молока с лучинкой в накипелой сливками середке, продать в Красноярске городским людям и за денежки, вырученные на рынке, купить материи на рубахи и на штаны, платки, полушалки, карандаши и тетрадки, пряник конем и даже сладчайших в мире конфеток — “лампасеек”.
Всегда, сколь я помню, в крестьянском дворе детишки приобщались к радости явления новой жизни, к нехитрому сотворчеству и никогда, ни за что не пускали на двор и под навес ребятишек, пока они не входили в серьезный возраст, где забивалась на мясо скотина. Ребят оберегали от вида крови и мучений, потому как они рождались не для истребления, а для мирного крестьянского труда и назначение их было: создавать жизнь, растить хлеб, любить все сущее вокруг.
Скупой, часто бессловесной, но вечной и взаимной любовью освещена была с виду будничная и простая крестьянская жизнь.
Молодая Пеструха, в отличие от меня, уверяла бабушка, была дитем нестроптивым, ласковым. С приближением невестинского возраста у нее выросли красивые рога ухватом, тело подобралось в талии, объявилось нежное, застенчивое вымечко с чуть приметными сосцами, охваченное легким пушком; словно отмытые в молоке, сделались ярче рыжие пятна; на ходу облаком шевелились и плавали белые проточины на боках и на лбу нетели; толстые длинные ресницы плотными щеточками прикрывали глаза, из которых исчезла сонливость, но появилось игривое беспокойство и девчоночье любопытство. Она принялась бодаться с подругами, приставать к матери, облизывать ее, ни с того ни с сего взбрыкивать задом и, запугивая меня или заигрывая, целилась в меня рогами, будто намеревалась боднуться со мной.
Поскольку Алешка жил у нас набегами, бабушка была день и ночь занята руководством двора и до предела захвачена бурными новостями и событиями, начавшимися в деревне в связи с коллективизацией, дед хранил мужское достоинство и ничего бабьего и ребяческого по двору не делал, да и делать не хотел, Пеструх с пастбища приходилось встречать мне. И дело это до поры до времени не угнетало меня, даже и нравилось. Соберется братва за поскотиной или возле первой россохи Фокинской речки, вальнется шайкой на траву и ждет стадо. Неторопливо приближается к селу стадо, позвякивая боталами, дзинькая колокольцами, с переполненными молоком вымями, мешающими шагать сонно переваливающим жвачку коровам. Я почему-то думал всегда, что коровы жуют рогожную мочалку, упертую из предбанника, и никак ее изжевать не могут. Пастух просто так, уж из одной привычки, щелкает кнутом, материт так же привычно и люто какую-нибудь непутевую скотину с обломанным рогом, ведь как человечий, так и скотский коллектив без разнообразных личностей обходиться не может.
Все ближе, ближе стадо, все громче звук ботал и колокольцев, все реже хлопки бича и брань пастуха. Иная смиренная скотина, балованная хозяйкой, уловив ноздрями вечерний дым, подает голос, чтоб слышали, что идет она, идет домой в целости-сохранности, несет ведро молока, и за это за все хозяйке надо ее встретить у ворот, погладить по шее и дать кусочек хлеба с солью, ну, если хлеба и соли нету, просто поговорить с нею по-человечески: “А, матушка ты наша! Кормилица ты родная! Ступай во двор, ступай с Богом”. И она, дородная, малоповоротливая, все поймет и оценит и промычит ответно о взаимной своей симпатии ко двору, хозяйке, хозяйству, работникам, пояснит, что лучшего двора, лучших хозяев, ласковой доярки она не имела и иметь никогда не захочет.
Братва на полянке, ощущая брюхом или спиной ласковую теплоту прогретой за день земли, треплется кто о чем; постарше которые — курят, еще которые побольше — учат малых, что надо делать с девчонками, когда мы подрастем. Дух захватывало от волнующих красочных рассказов, застенчивых парнишек высмеивали и посрамляли за “неполноценность”, за отсутствие мужской смекалки. В дополнение пелись еще частушки, не просто соленые, но пересоленные, и я их помню все до единой по сию пору — так они складны и выразительны, и когда был солдатом, да и по молодости лет, бродя в лесу, пел их с пребольшим удовольствием.
Но вот стадо. Коровы, они что люди, иные с пониманием, иные без него. Которые с пониманием — узнают своих встречающих, приветствуют их мычанием и сами выступают из стада, бредут впереди парнишки, помахивающего хворостиной. Иные вдруг, задрав хвосты, затрусят под гору, болтая выменем из стороны в сторону. Мои Пеструхи обязательно уж подойдут ко мне, шумно, сыро дохнут в меня, лизнут в лицо большими, зелеными от травы языками и ждут, когда я вытащу из кармана посоленный кусок хлеба и разломлю его пополам.
Так вот однажды встретил я возле речки Пеструх, благополучно препроводил их ко двору и жду, когда дед откроет ворота. Пеструхи устало уперлись дремотными головами в створки ворот. Дед не идет и не идет. Он последнее время, наслушавшись всякой всячины о будущей колхозной жизни, стал погружаться во все более длинные и отрешенные размышления, не реагируя порой уж ни на что, не встревая в текучую жизнь, только чаще и яростней вступал в перепалки с бабушкой, с маху всадив топор в чурку так, что мы вдвоем с Санькой левонтьевским не только вытащить его из чурки, но и расшатать не могли, рявкал: “Пропади все пропадом!” И борода его ходила вверх-вниз, вверх-вниз. Бабушка мелко, украдчиво крестила себя под фартуком не там, где положено класть кресты, и для себя только шептала: “Тошно мне! СбесилсяСовсем сбесился!..”
Дедушка пребывал в задумчивости или спал, бабушка шерстила по деревне, неустанно черпая новости, мне высоко доставать заворину, открывать ворота не хотелось. Коровы, покорно стоявшие рогами в ворота, начали мычать. Мычали, мычали да и заблажили, заухали бунтарски, за что той и другой тут же попало от меня по хребту хворостиной. Старшая Пеструха покорно снесла привычное наказание, блажить перестала. Младшая глянула на меня строптиво, будто Танька левонтьевская, когда ее за волосы дернешь, на морде и в глазах Пеструхи-малой появилось выражение протеста: “А‑ах, так! В ворота не пускать! Да еще и хлестаться! Значит, если я скотина, то со мной обращаться можно, как с бесправным, угнетенным пролетарьятом?! Мироед ты! И элемент!..”
Тут Пеструха-меньшая как задрала хвост, как хватанула по улице аллюром — рога в землю, зад вверх, ногами взбрыкивает, чье-то ведро у ворот подцепила на рога, куриц, в пыли дремавших, подняла на крыло; собаки за ней из подворотен метнулись; бобыль Ксенофонт, понуро несший из лесу дрова, бросил вязанку и соколом взлетел на заплот. Не умеющий креститься, он все же на всякий случай вознес дрожащий кулак к плечу. Народы, скот, птицу — все разметала забунтовавшая Пеструха-меньшая и скрылась за кладбищем.
Я за ней. Бегом. Ласково уж зову:
— Пеструшка! Пеструшка! Ты чЕ?
Ни привета, ни отзвука. За речкой, в сосняке, мелькнуло раз-другой белое с рыжим и исчезло без следа.
— Пестру-уушенька-а-а‑а! — заблажил я. — Где-ка ты? Я ить пошути-ыл…
Все! Пропала скотина. Сгинула. И что теперь мне будет? А главная Пеструха как? Если и ей вздумается в бега? Ой, батюшки-светы! Надо бежать домой. А меньшую-то Пеструху на кого бросать? Подвывая на ходу, я кинулся во весь дух домой. Гляжу: бабушка впускает корову в ворота и на меня поглядывает, ждет.
— А нетель где-ка? — спросила она вежливо. Хуже нет, когда бабушка так вот вежливо, почти печально спрашивает. Когда орет и грозится — легче.
— Сбежала, — чуть слышно сообщил я.
— Хорошо‑о, — сказала бабушка. — Тот партеец бока отлеживат, этот комунис скотину терят! Вы об чем думаете? Вы чЕ исти будете? На кой-то часок ушла — развал в хозяйстве, полное расстройство… Показывай чичас же, куда она убежала?
Я частил ногами впереди бабушки. Она, отмеряя саженями шаги, продолжала крушить меня и дедушку, заодно Митроху-председателя, Таньку-активистку, по ее разумению породивших развал и смуту не только у людей, но и середь скотины.
Мы обшарили все заросли возле речки, поднялись до чищенки, до первых выбитых скотом покосов — Пеструхи-меньшой нигде не было. По второй, Осиновской россохе снова свалились под гору, в речку. Тут нам встретились бредущие с Фокинского улуса бабы и сказали, что на заимках медведь задрал корову, а русамага (росомаха) будто бы чью-то нетель исцарапала.
— 0‑о-ой! — запричитала бабушка. — Спаси и помилуй, мать ‑Пресвятая Богородица! — И на меня: — Ну чЕ, нахозяевали?! Ходко у вас без бабушки дело-то идетЯ с тебя шкуру спущу, если што…
Долго мы метались по речке, по горам и косогорам. Бабушка за сердце хваталась, ноги ее начинали вянуть и заплетаться. Я упал на брюхо, стал хватать ртом воду из речки, болтанул мордой в холодной воде и, утираясь подолом рубахи, заявил:
— Я ее, курву, как найду, тут же и зарежу!
— Зарежешь? А потом че? — черпая ладонями воду и припивая со скрипом глоток с руки, задышливо спросила бабушка.
— Съем!
— Эко, эко! Таку грозу да не дай Бог к ноче! Ты эдак-то разойдешься, глядишь, и всю деревню вырежешь, нас с дедушкой порешишь…
— Дедушку оставлю.
— Конешно-конешно. Союз у вас. Опчество. Бабушку уж на мыло пора переводить. Не любишь бабушку-то?
— Не знаю, — уклонился я от прямого ответа.
— Не любишь, не любишь. Да и за чЕ любить-то? Кормит, обстирыват, обмыват, хворово лечит и оплакиват. Всего и делов-то…
— Вот она, красавица, является! — кивнул я, увидев, как из лога бежит-трюхает Пеструха на голос бабушки и протяжно мычит, жалуясь ей на меня, искариота, истязателя, и радуясь ей.
— Да доча ты моя! Да золотко ты мое золотое! Да разумница ты из разумниц. Да красавица ты из красавиц!
Как только Пеструха приблизилась, я изо всей-то силушки пнул ее под брюхо и загнул такую матерщину, что бабушка и та оробела, сказала, уж спустя время, и не сказала — выдохнула:
— Вот, дорогие граждане, как мы умеем! Вот каку грамоту постигли!
Я еще раз пнул Пеструху.
— По вымечку попадешь, товды чЕ?
Я зашел сзаду и пнул Пеструху, норовя угодить под хвост, но до цели не достал, угодил по костям. А ноги-то у меня босые. Я завыл, схватил с дороги черемуховую хворостину, начал вытягивать телку по хребту, гнал ее домой, наскакивал петухом и без устали лупцевал.
Бабушка, не поспевая за мной, ужасалась:
— Де-эдушко, де-эдушко родимай!.. Ой, забьет, ой, забьет коровенку!
Пеструха трусила впереди меня и орала-жаловалась: “Сам дак бродяжишь дни и ночи, мне дак уж и на часок нельзя отлучиться! Не зря бабушка тебя варнаком кличет. Не зря. 0‑ой, мамочка моя! 0‑ой, родимая! Забьет он меня, забьет!”
Ворота были открыты, двери в стайку полы и Пеструха-меньшая, набравши разгон, ворвалась в стайку, чуть не сшибла там маму Пеструху.
— Вот! Получайте свою красавицу в целости-сохранности! — сказал я бабушке, запиравшей ворота, и деду, пеньком торчащему на крыльце, с хрустом изломал об колено хворостину, бросил ее и, утирая злые слезы рукавом, пошел со двора, хватанув воротами так, что все задребезжало: и ворота, и стекла в рамах, и сам дом.
— Ты далеко ли это на ночь-то глядя? — окликнула бабушка.
Я не отозвался, ушел на берег Енисея, сел на яру и, уткнувшись лицом в колени, плакал до тех пор, пока не иссякли слезы.
Тем временем вечер прошел, в деревне все смолкло, с задов и от моста послышалась гармошка, гуще и чадней сделался запах горящего под ярами навоза, огни бакенов, засвеченные братаном Мишей, пустили тени бегучего света на воду, где-то, еще далеко-далеко, шлепал плицами пароход, правясь на их призывный свет; тупо стукались бревна, обреченно плывущие вдоль боны, спускаемые с Манской запани, сами боны поскрипывали и крякали в ночи дергачами, уже начавшими летовать в лугах, но отсюда, с реки, из-за огорода и домов, неслышимыми…
В переулке послышались шаги. Я узнал, чьи это шаги, но не повернулся. Сзади меня протяжно вздохнула бабушка.
— И долго тут сидеть будешь?
— Захочу, дак до утра.
— А простудишься? А рематизня опять загибать начнет?
— Пущай загибат.
— Эко он. эко с бабушкой-то? Ласково да приветно как? Не жрамши ведь.
— Не подохну.
— Ага, ага, не подохнешь. Это я, несчастна, скоро от вас подохну…
Я промолчал. Бабушка долго стояла, не двигаясь, позади меня, смотрела на реку, слушала ночь. Потом бросила к моим ногам лопотинку, обутки, фуражку, удочку и сказала:
— На, нечистый дух! Знаю ить, знаю, до утра не явишься, во зле кипеть будешь… — и тоненько запела: — ЧЕ из тебя токо и будет?
— Каторжанец! Артист! Сама пророчишь…
— Не‑э, токо каторжанец! Артисты — оне веселы и добры.
— Много ты понимаешь! Оне только изображают добрых да веселых. Вон Митряхин сынок — Бубен птичек мучат, крыс и мышов палит живьем, а в спектакле смешного попа продергивает. Это как по-твоему?
— Как? Да такой же безбожник, как и ты. Дак не пойдешь домой-то?
— Не пойду.
— Дедушка меня запилит, во ступе истолчет — “выгнала, заела бедного робенка…”.
Я хотел сказать: “Тебя запилишь”, но сдержался.
— Мотри, не вздумай на бону лезти, на бревнах вертеться. Утонешь ‑домой не являйся!
— И утону! И буду к тебе ночью утопленником являться! Ы‑ы-ы! ‑оскалился я и попер на бабушку. Она аж отшатнулась от меня, потом смазала мне по затылку и ушла домой, на ходу ругаясь:
— Я ить смотрю, смотрю…
После возникновения колхоза имени товарища Щетинкина оставшиеся без молока, хлеба и мяса члены новой артели и единоличники села Овсянки постановили на собрании кормить ребятишек при школе, сбили столы из теса, снятого с крыши пустующего кулацкого дома, скамьи из заплота двора того же дома, собрали по селу ложки, кружки, чашки, назначили поварихой Василису Вахромеевну, из-за припадков негодную к работе на пашне и покосе, и она со своими девчонками пилила тут и колола дрова, мыла посуду и полы, скоблила столы и кормила нас, как помнится мне, не очень чтоб сытно, однако жить можно было.
Главное — тогда я узнал слова “обшэственно питанье”, попривык к шумному ребячьему коллективу и выучил наставленья типа: “Когда я ем, то глух и нем”, которые где-то услышала старшая дочь Василисы Вахромеевны, Зойка. Была она в мать статна, красива и строга. Нам доставляло радость слушаться Зойку и повторять за нею хорошие слова — худых-то мы уже наслушались и запомнили дополна.
Однажды нам дали в чашках горячие щи, по одной котлете и по кусочку хлеба. От ребят в тот день по “куфне” дежурил Микешка, сын колдуньи Тришихи. Шубы на нем уже не было, подстрижен Микешка под гребень, и от этого волосья его тыкучие торчали во все стороны, и вся голова была, что осенний репей. На Микешке хоть и мятая, зато с галстуком, с пионерским, рубаха.
— Лопай, как свое! — оскалил клык в рассеченной губе Микешка, поставив передо мной чашку. — Мясо в супе и котлета — из Пеструхи!..
— Ка-ак? Из какой Пеструхи?
— Из вашей! Она не хотела доиться, оказывала сопротивле- ние властям, легалась — ее и пустили на котлеты…
Не помню, как я выскочил из-за “обшэственного” стола и с ревом ринулся домой, к бабушке. Она прижала мое мокрое лицо к животу, гладила меня по голове.
— Ну вот ревешь… А сам говорил, зарежу и съем…
— Дак я же понарошке-е-э‑э.
— И оне: Ганька Болтухин, Шимка Вершков, Танька наша, да и все горлопаны — тоже понарошке, согнали скотину в одну кучу, думали, вокруг нее плясать да речи говорить будут, а коровы имя молока за это… Не-эт, не зря говорено: хозяйство вести — не штанами трясти. Вокруг скотины не токо напляшешь- ся, но и напашешься, и наплачешься… Корова на дворе — харч на столе, да у ей, у коровы-то, молоко на языке, ее поить-кормить надобно, да штоб с руки, с ласковой, да штоб обиходно, штоб пастух не каторжанец, штоб сена зелены, солома ворохлива… 0‑хо-хо! ЧЕ будет? ЧЕ будет? Может, ты ошибился? Может, не нашу Пеструху?..
— На-ашу‑у. Я шкуру видел.
— Ладно, ладно, не реви. Большой уж. Скотину грех оплаки- вать. Человеки ею взрастают, но ее же и съедают. Чисто волки свою матку аль отца… И нечево нюнить…
— Да как же это, ба-аб‑а?
— А так вот. Поживешь — поймешь. Вся жизнь така.
— Я не хочу‑у.
— ЧЕ не хочешь-то?
— Жи-ыть так.
— А куда ж от ее, от жизни, денешься, батюшко? Никуда не денешься. И реветь нечево. Ишшо нареве-ошься, побереги слезы-то. Пригодятся…
Тогда, после ссоры с бабушкой из-за Пеструхи, просидел я всю ночь на яру, почти до утра. Закинул удочку и сидел недвижно. О чем-то думал. Грустно мне было, и трогало сердце печалью, мне еще незнакомой, необъятной. Зло на Пеструху, на бабушку и на все на свете прошло у меня. Мне было и спокойно, и тревожно. Кажется, тогда я прожил самую незабываемую летнюю ночь и, может быть, что-то начал понимать или впервые ошутил прикосновение к сердцу огромного, загадочно и пугающе-прекрасного мира. Слава те Господи, что я не городское дитя, которое вовремя уторкают спать и вовремя подымут. Я вольный деревенский казак-рыбак, и видел я то, что никогда им не увидеть. Зарождение, нет, соединение дня вчерашнего и сегодняшнего видел.
Белых ночей в нашей местности нет, но есть, оказывается, промежуток времени — это в самой-самой середине июня, когда день вовсе не исчезает, не гаснет, он скапливается за Енисеем в треугольнике распадка над Караульной речкой.
Уже и вечер прошел, и в сон село погрузилось, и летучие мыши засновали в тени скал, все унялось, смолкло, даже коровы перестали бренчать боталами, кони — колокольцами. Легли они в росную траву, обсушив своим боком пятнышко на поляне, согрев собою и для себя клочок земли, а в небе ночь все борется со днем и никак не может погрузить его в бездну темноты. Вот уж оттеснила тьма свет дня на закрайки, вдавила в распадок, вроде бы все обратила в серую мглу, утопила в сумраке немого безбрежья; но меж вершин все еще рдеют остатки зари, бледненькие, что лоскутки, оторванные от выцветшего платка на игрушечные девчоночьи пошивки. Но вот и от лоскутов зари лишь отсветы остались, сам свет прошедшего дня окончательно завял. Прозрачной зеленью, отсветом горных лесов и приречных трав наполнился треугольничек распадка, сделался похож на стеклянную воронку, в какую цедят молоко, мажет белым, нет даже бледновато-синим, снятым молоком стенки стекла, утягивая за собой и настой земли, и теплоту небесной синевы.
Внизу, в скалистом ложе речки Караулки, вроде бы все остановилось, не работало, не принимало в себя ничего — ни влаги земной, ни света небесного. Последние капли его как бы замерли, не пульсировали, не дышали на донышке распадка. В сосце воронки притаенно и ненадежно, за прозрачной стенкой совсем тоненькой полоской держался отстоявшийся, кристально ясный свет, отражая в себе дальнюю, четко очерченную вершину горы, днем невидную, два-три деревца на голом останце, какую-то в другое время, в обычный час незримую даль. И эта частица дня вселяла на что-то надежду, ровно бы заставляла ждать, боязливо замирать от прикосновения к небесной тайне.
Но как не дано человеку увидеть, когда раскроется цветок, так и я не скараулил ту минуту, не увидел миг зарождения нового дня, лишь замечалось, что в воронке становилось прозрачней, и не вышняя даль, но ближний лес, склоны гор и каждая травинка возле меня начинали обозначаться отчетливей, а там, за Енисеем, в распадке речки Караулки, отуманивало зелень, отжимало темень обратно в тень лесов и склонов гор, и чем больше наполнялась воронка молочным светом, тем шире становилась земля, возносилась до неба своими главными вершинами, своей вечной высотой. И когда, переполнив воронку распадка, свет народившегося дня переплескивался через края и становился утром, ало-розовым светом зари — тогда заливало мир и все, что было в нем: небо делалось шире, необъятней, мир, встрепенувшись, радостно отряхивался, спешил со всех сторон навстречу утру и новому дню, затаившемуся в распадке красивой нашей речки Караулки и так незаметно оттуда вновь появившемуся.
Но я отчетливо помнил, зрел, когда и дню, и свету его оставалось жить лишь мгновение. Саму воронку, этот хрупкий сосудик, как бы раздавливало громадами скал, он вовсе исчезал, становился воздухом, от него оставался один только рожочек, но и рожочек сжимало тесниной тьмы, рассыпало по ущелью осколками, и уже не рожочек, лишь сосулька, вешняя льдинка, вся источенная, готовая вот-вот рассыпаться с неслышным мне звоном, провисала меж сдвинувшихся гор. Совсем-совсем крохотная капелька дрожала, готовая вот-вот сорваться, упасть в бездну ночи — и тогда уж вce, тогда уж не будет никакого дня во веки вечные, тогда покроет всех и вся тьма небесная, только “адовы огни”, коими всех пугает бабушка, будут полыхать из края в край, протыкая пространство, в котором и не поймешь: где верх, где низ, где земля, где небо.
Но именно в эти вот мгновенья, нет, в самый напряженный миг, когда дыхание в груди от страха и ужасного ожидания конца света должно было остановиться, вдруг за истаявшей льдинкой, за той остатней, едва пульсирующей капелькой света возникало видение гор, остановившихся дерев, означался намек на белое облако, открывался лоскут совсем уж дальнего неба, на котором недоступно светилась потусторонняя звезда. Кусочек небесной голубизны был столь нежен и прозрачен, что нельзя было не только кашлянуть — дохнугь во всю глубь и то боязно было, чтобы не прорвался, не улетучился, не исчез свет далекого неба.
И мне открылось внезапно: “тот свет!” Там живет Сам Бог, и что Ему захочется, то Он и сделает со всеми нами. Но раз по бабушкиным молитвам выходило, что творит Он дела лишь великие, добрые, то, мнилось мне, оттуда, с “того света”, из-за горных вершин распадка Караульной речки, мягко ступая по облаку, спустится Он, погладит меня по голове и скажет: “Пойдем со Мной, дитя Мое”.
Зачем? Куда мы пойдем и как вознесемся на небо — я этого не ведал, но знал, что обязательно пойду за Ним со счастьем и страхом в сердце и узнаю, увижу что-то совершенно никому недоступное, испытаю доселе никем и никогда не испытанное счастье.
Никогда-никогда более я не был так близок к небесам, к Богу, как тогда, в те минуты соприкосновения двух светлых половинок дня, и никакая тайна не вселяла в меня столь устойчивого успокоения.
На исходе той памятной ночи я отправился домой, залез на сеновал и уснул, уверенный в том, что горы, земля, все-все на месте, что наступит день и веки вечные ему быть, потому что там, за горами, в распадке речки Караульной, никогда не гаснет свет будущего дня, а за высокой горою, в Царствии Небесном, есть Тот, кто хранит не только лад и мир на земле, но и думает о будущем рабов Своих, оберегает их покой и, значит, мой покой, мою жизнь от зла, скверны, геенны огненной…
Проспал я до высокого солнца, жарко нагревшего крышу надо мной и прошлогоднее ломкое сено подо мной. Дверца на сеновал была открыта — дед проверял, дома ли я. В квадрате солнечного, почти бездонного провала плясали мошки, кружилась и билась, билась в ярком свету, играя сама с собой, нарядная бабочка, полоской тянуло щекочущую пыль от растревоженного сена.
— Учи его, учи, потач! Вон он сулится всю деревню вырезать! Одново, говорит, дедушку оставлю…
— И будем жить припеваючи!
Слышно было, как бабушка громко плюнула, ногой топнула и ушла со двора, причитая:
— Да тошно мне, тошнехонько! Да ковды Господь приберет меня, несчастну‑у…
— Бу-бу-бу… Ишшо всех переживешь! — дед вдогонку ей.— Самово сатану в калач загнешь и на лопате в горячу печь посадишь.
Послышался скрип лестницы. На сеновал поднялся взъерошенный, воинственно-возбужденный дед и сказал:
— А ну, давай спускайся! Поедем на Усть-Ману. Избушка наша там покуль жива, откроем, будем дрова пилить, картошки варить, ты станешь рыбу удить, песняка драть. Пушшай оне тут! И Митроха, мать бы ево так, и Ганя Болтухин со своим холхозом, и Танька с собраньям, и наша генеральша, и все сдохнут.
— Ой деда! — преданно глядя на него, сказал я. — Вот как я тебя люблю, даже не знаю. А когда ты помрешь, как я буду?
Дед смущенно закряхтел, запокашливал, веревку начал сматывать, вилы и грабли подбирать, сено к стене подпинывать.
— Да чЕ про это говорить? Все помрем. И я. Потом и ты. Думать про это не надо. И торопиться не будем, так?
Он поднял меня на руки, прижал к себе, пощекотал бородой и на руках спустил по лестнице вниз. Как в самую малую пору моей жизни, я приник к деду, притих на его груди, и сладко-сладко подтачивало мое нутро, заливало его такой волной тепла, что снова мне захотелось плакать, но я лишь крепче сжал руками шею деда, плотнее приник к нему и не отпускался до тех пор, пока не донес он меня до телеги, не опустил на клок сена. Разворотив Ястреба, дед уже за воротами сказал, кивая головой на холщовый мешок:
— Пожуй хлебушка. Ести будем уж на Усть-Мане, — и пошевелил вожжи: ‑Н-но, Ястреб, н‑но‑о, конишко наш, шевели ногам, пока тя на живодерню не свели…
Такого возбужденного, многословного дедушку я никогда еще не знал и сперва обрадовался, петь начал, но после отчего-то мне тревожно стало; какое-то предчувствие коснулось меня, и предчувствие, как всегда, не обмануло — скоро дедушка надолго занедужил и больше уж не поднялся. На Усть-Ману, на заимку, оказалось, мы ездили с ним в последний раз. Избушку на заимке сплавщики нечаянно своротили трактором с бычка, и она, развороченная, с рыжим кирпичом и кишкой растянутыми пестрыми тряпками, лежала вдоль горы и под горою до зимы. Весной большой водою ее и вовсе разнесло, растащило, только долго еще краснел, обмытый водою, кирпич на берегу, но и он скоро погас.
После полувека жизни побывал я на месте нашей заимки. Там стояла, неприступно огороженная, дача в два этажа, с фасонистой крышей, вся в цветах, с теплицей средь огорода, с баней-сауной над обрывом, из трубы которой прямо в ключ, затем в Ману текла зловонная, мыльная вода. Средь стекла, грязи, банок я нашел обломочек старого кирпича, обожженного до керамической крепости и обмытого до стеклянного блеска, вытер его рукой и привез домой. На память.
А еще несколько лет спустя занесло меня в компании творческих людей, пристально вглядывающихся в современную действительность, на образцовый скотокомплекс, где тысячи коров отменной, продуктивной, по науке селекционированной породы, цвета старинной меди, стояли на бетонном полу, в тесной железной изгороди. Перед мордами коров двигалась лента с кормом, сзади по канаве разматывалась другая лента и увозила наружу назем; если требовалось пить, скотина тыкалась мордой в железную заслонку, и в нос ей ударяла вода. Гуляли коровы на улице, тоже в тесной загороди, и ни одна из них не имела имени, все они были под номерами, все одного цвета, роста, характера, и все они доились аппаратами. Передние дойки-сосцы у коров, даже по науке созданных, короче задних, самые же жирные капли молока — остатние, и надо продаивать корову до конца, и когда задние дойки дают последнее молоко, из передних все уже выдоено, а неумолимый казенный аппарат терзает безответную и бессловесную скотину, и тонкие ниточки крови начинают прошивать по белым трубочкам текущее молоко.
Животное, которое на комплексе впадает в апатию или непослушание, начинает ли заигрывать друг с другом, а то и посасывать молоко у соседки, немедленно выбраковывается и отправляется на мясокомбинат. Живут активной, плодотворной жизнью, стало быть, едят, доятся и творят навоз на удобрения коровы на этом гиганте предприятии семь-восемь месяцев.
Я не сдержался и спросил у директора комплекса, не жалко ли ему животных?
— Я — крестьянский сын, — без зла, но хмуро ответил мне директор, ‑и такие вопросы, товарищ писатель, если вы считаете себя гуманистом, задавать жестоко.
Я сжал в кармане крошку кирпича с родной заимки, хранимую мной до сих пор, и подумал: не надо искать истоки жестокости людей современного мира только за морями- океанами, в войнах, в битвах, в горах, в лесах. И любовь, и жестокость часто находятся гораздо ближе, чем мы думаем, порой совсем они рядом с нами, а то и в нас самих. И всегда при виде спокойных и грустных животных, вековечных наших кормилиц, возникала передо мной блаженная пора деревенского предвечерья. Все дневные хлопоты, крики, звоны ботал и колокольцев, привычная ругань на непослушную или неповоротливую скотину, всякий стук и бряк обрывались — на селе начиналась дойка коров.
Бабушка не любила доить Пеструху на людях, на виду. Зимой доила корову в теплой стайке, усевшись на низенькую, желтой краской крашенную скамейку. Летом — чаще всего под хворостом крытым, односезонным навесом, приделанным к стайке, и только осенями, когда не было овода, народ не толокся во дворе, да веснами, чтоб корова побыла на вольном духу, дойка производилась во дворе.
Погладив корову по выпуклому боку, как бы подтолкнув ее легким хлопком по холке под навес, бабушка теплой водой ополаскивала фигурную подойницу с рожком. якобы доставшуюся ей от покойной матери, плескала ковш-другой воды в плошку и неторопливо следовала под навес. Там она мыла вымя корове, долго прилаживалась на своей скамейке, готовясь к исполнению важного, можно сказать, главного дела во дворе, вполголоса творя молитву “Во благословение стада”: “Владыко — Господи Боже наш, власть имея и всякия твари, Тебе молимся и Тебе просим. Яко же благословил и умножил еси стада… Благослови и стадо скотов сих раба Твоего Ильи, и умножи, и укрепи, и сотвори… навета врагов и воздуха смертного и губительного недуга…”
После такой складной молитвы, которую дети повторяли за бабушкой, шевеля губами, все стихало, усмирялось привычным, почти торжественным ожиданием. И ожидание это разрешалось слабым звоном. Как бы издалека, из лесов, с гор, может, из умолкшей церкви с сопрелой тесовой крышей, под которой висел еще на веревке один, фулюганами не обрезанный, небольшой колоколец, донесшимся.
После краткого перерыва, в который вмешался облегчен- ный и благодарный вздох коровы, следовал звон протяжней и звучней, а там уж почти впритык друг к дружке — дзинь-журу, дзинь-дзжунь, дзинь-джуру. Звучит, что музыкальный инстру- мент, древняя, не раз паянная подойница, похожая на пухлый чайник, только сосок у нее покороче и крышки нету. Пузатенькая, округлая, с ловким донышком, выглядит она игрушечной посудинкой, но входит в нее больше ведра молока. И как же можно сменить эту подойницу, неизвестно из каких времен и краев к нам пришедшую, неведомо из какого металла сотворенную, на какое-то ведро? Пусть и на “малированное” или на современную цинковую посуду, что прижилась в колхозе. В ней и молоко-то железом отдает. К такой посуде даже коровы неуважительно относятся, молоко не все “отдают”, лягаются, а если и отдают, так с неохотой, да и не продаивают их вертоголовые девки, на собрания да на вечерки торопятся. Попробовали бы дома не продоить, так сполна получили бы премию от мамы и тяти, а в колхозе что ж — корова не своя и молоко в ней чужое.
В пору хорошей травы, доброго корма, коли еще и овода мало, из-за которого коровы плохо едят, сбавляют надои, бабушка, случалось, надаивала молока столько, что белая пена воздушной шапкой сбивалась над подойницей и нечасто, но приваливало такое счастье, когда дополнительно к подойнице и синюю кружку бабушка надаивала. Тогда уж все у бабушки, начиная с деда и кончая мной, были молодцы, старатели, всех она хвалила, в первую голову корову, пастуха, потом меня и Алешку, если он тут случался. Ну и о дедушке роняла одобрительные слова, вскользь правда. Планы и мечты бабушки простирались далеко‑о: если дело с надоем молока дальше так пойдет, накопит она сметаны, творогу наварит, может, и маслица собьет на зиму, да и на продажу смаракует — деньжонки никогда не лишние. Надо катанки к зиме всем починять, рубашонки самому и Витьке справить, обносились, чинить нечего, под иголкой рубахи расползаются, да и сена прикупать придется. Сынок-то, дорогой помощничек-надежда скрутился с разлучницей-невесткой да с колхозом аховым ‑глаз с заимок не кажет. Закукуешь зимой без кормов-то, решишься всего и коровы, упаси Бог, тоже. “На холхос кака надежа? Холхос, он еще себя покажет!..”
Планы и мечты эти чаще всего не сбывались. Наступала жаркая летняя пора, пауты, слепни, шустрая мошка, к вечеру комары гоняли стало, заедали скотину до того, что она не подчинялась пастуху, разбродно, как войско при отступлении, мчалась в панике к берегу, забредала в Енисей и погружалась в воду — одни рога да ноздри виднелись. Один раз Пеструха и вовсе расхворалась, слезами плачет, не доится. Бабушка установила: непутевая скотина съела с травой осиное гнездо, осы искусали ей язык, горло, кишки и брюшину, кабы колоть кормилицу не пришлось. Среди лета, в самую-то кормную пору! “Спаси и помилуй, Господи!” — причитала бабушка на коленях перед иконостасом. Не к пьянчуге же Болтухину, не к Татьяне-автивистке ей обращаться за помощью. Татьяну самое днями на ягодах оса жогнула под подолом, да так, что она полдня сидела задом в Фокинской речке и выла, как Авдотьин неделю не кормленный Мистер. Травки, корешки, молитвы бабушкины, ругань вперемежку с ласками, доброе пойло, тщание в уходе не раз и не два спасали Пеструху. И в то засушливое, жаркое лето, когда осы сожгли внутренности коровы, она тоже оклемалась и была уведена в стадо. Вялая, с подведенными боками, на которых ободьями выступали ребра, Пеструха, спотыкаясь, шла за ворота, бабушка крестила ее, двор, стадо, себя, напутствовала добрым словом, кормилицей и доченькой называла. Пеструха ухала — мычала, рассказывая подругам о своей болезни, о том, каково ей было без них, жаловалась на то, что жизнь — вообще штука серьезная.
Все утихло на селе и в миру. Лишь дальний крик сплавщиков слышен с Енисея да с улицы зов тетки Авдотьи, находящейся в постоянном напряжении, в поиске: “Агашка! Агашка! Где-ка ты, курва? Ну я те все волосья повытаскиваю!..” Агашка, вон она, у нас во дворе. Пришла со своим Костенькой по молоко. Малый пустую кринку, точно куклу, молитвенно к сердцу прижимает, слышит запах молока, слюнки глотает. Агашка, тихая, простоволосая девка, зажав меж колен Костеньку своего, думает об нем, об себе ли, может, и подремывает после затянувшихся до петухов проводов с вечерки, может, отдыхает от вечного домашнего содома. Корову тетка Авдотья не держит, заимки у них нету. Покосы у нас далекие, горные, на них только мужикам управляться, да и то сильным, умелым. Поставить сена, накосив их по склонам гор и в непролазных речках, да высушить в тайге и сметать в зароды — полдела, надо еще сено сплавить па плотах, либо в начале зимы, по мелкоснежью, успеть вывезти на крепких лошадях.
Мужики же овсянские нынче в разброде, на собраниях сидят, по бригадам бывших заимок толкутся да на мельнице пьянствуют. Их стали часто на какие-то комиссии да обследования вызывать. Несколько мужиков после вызовов в город домой не явились. Иные из тюрем через людей табаку закажут, которые и вовсе никаких вестей не подают. Нынче всем вызываемым в город бабы, на всякий случай, собирают котомки.
Тетка Авдотья давно и привычно пользуется молоком от нашей коровы — в счет будущих заработков: поможет избу вымыть, в огороде выполоть, по двору управиться, дом вести, когда “тетенька Катя хворат”. Свой она человек, хоть и шалопутный и “куда ее денеш?” — вздыхает бабушка.
Бегает тетка Авдотья по деревне, ругается, ищет дочь со внуком, и наконец ее осеняет заглянуть к нам. Брякает щеколда, слышатся шустрые ноги по настилу. Из-под навеса строгий бабушкин голос: “И когда на тебя уем будет?!” “Дои, тетанька, дои с Богом!” — торопливо откликается тетка Авдотья и мимоходом, на всякий случай, смазав Агашку по голове, лепится рядом с нею, молча тянет внука к себе. Агашка молча его не отдает. Подергав ребенка туда-сюда, чувствуя, что он вот-вот разорется, обе женщины успокаиваются, ждут.
Подойница уже не звенит. Из-под навеса слышно журчание, умиротворяющее журчание глубокого молочного ручья. Вот и журчание перешло в короткие, едва слышные всплески — молоко в подойнице поднялось высоко, вспенилось, и пена глушит звуки струй.
И над селом ни звука, ни стука. Время дневного торжества и минуты ожидания сладкого парного молока. Дрема охватывает корову, исполнившую свое привычное и такое необходимое для жизни людей дело. Отдавая уже последние, самые жирные и самые короткие струйки наработанного, скопленного за день молока, корова почти спит, валяя во рту смачную жвачку. “Благодарствую тебя, доченька, спаси тебя Бог”, — шепчет бабушка и легонько хлопает корову по крупу.
Слышно, как бабушка поднимается со скамейки, хрустят, щелкают траченые бабушкины кости. “Ох-хо-хо, Господи, совсем рассыпаюсь…”
Приседая на обе ноги, она выступает из-под навеса с подойницей, поддетой локтем за медную дужку. Тетка Авдотья легкой тенью снимается с крыльца, спешит навстречу бабушке, и та с заметным облегчением отдает ей подойницу.
Лицо бабушки торжественно и устало. Завершается день трудов и забот, вечных трудов, вечных забот. И словно бы сейчас вот, во время самой желанной женской работы, в уединении и в отрешенности от людей бабушка постигала какую-то, нам неведомую, истину, разгадала тайну земного бытия и ясновидяще зрела неизбежность, всех нас ждущую, тихую, печальную неизбежность, похожую на это деревенское предвечерье. Бабушка глядит мимо или сквозь нас, дотрагивается до моей, до Костенькиной головы, словно бы удостоверяясь, что мы еще здесь, с нею. Детский легкий волос зацепляется мозолями ее корявой ладони.
Но пугающая отчужденность длится минуту, может, две. Бабушка очнется, начнет хлопотать, бранить тетку Авдотью. К удивлению и радости моей и Костенькиной, вынесена будет знаменитая синяя кружка парного молока, наполовину или почти полная: “Пейте, пейте, робятушки!” — и мы попеременке с Костенькой дуем из кружки духовитое, пенистое молоко, отмякнув от предвечерней благодати. Бабушка велит нести кринку молока левонтьевским пролетарьям. “Добрыми травами сегодня Пеструха покормилась, дивно молока дала, всем хватит”. Журчит молоко, текущее из подойницы сквозь ситечко, журчит теплым молоком и бабушкин голос.
— Санька! Нинка! Митрей! Вовка! Данька! ТолькаТашшыте посуду какую ишшо не перебили, — кричит бабушка через двор во флигель дяде Митрию и Татьяниным “коммунистам”.
Какой добрый наступает вечер! Так и хочется поделиться с соседями и всеми людьми на свете хлебом, молоком, солью и сердцем. Пеструха всех напоила, ублажила, надежду на завтрашний день подарила.
И знаю я: раньше всех поднявшись, бабушка осторожно опустится на колени перед иконостасом и, глядя на неподвижный синенький свет лампады, будет молиться и просить, чтобы все дни были похожи на прошедший благостный день. “Дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день… Во всех словах и делах моих руководи моими мыслями и чувствами… Дай мне силу перенести утомление наступающего дня и все события в течение дня. Руководи моею волею и научи меня молиться, верить, надеяться, прощать и любить. Аминь”.

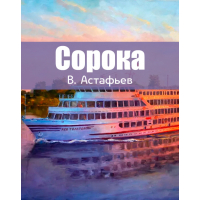


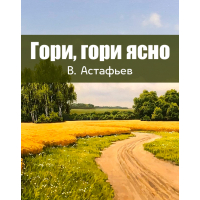
Комментарии