Путешественник с багажом
Владимир Железников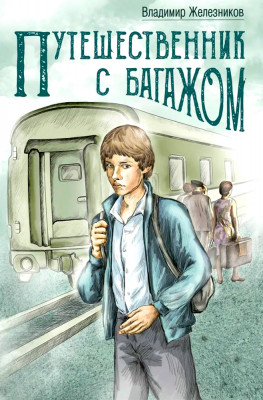
Оглавление
Глава 1
В наш совхоз прислали одну путёвку в Артек. И вдруг её преподнесли мне. Для многих это было полной неожиданностью. Правда, слово «преподнесли» не совсем точно передаёт события, которые произошли из-за этого. Честно говоря, путёвку мне дали с боем: Нина Семёновна, наша старшая вожатая, считала, что я её не заслужил.
Она так и сказала: «Я считаю, что ты эту путёвку не заслужил, а некоторые думают, что ты её заслужил. Посмотрим, посмотрим…»
Не знаю, кого она засекретила под «некоторыми», но я-то уверен, что они абсолютно правы. Кто же тогда её заслужил, если не я, скажите мне, пожалуйста? Во-первых, я самый «старый» целинник во всей школе. Я приехал в совхоз, когда вместо всех этих домов стояли какие-нибудь три-четыре палатки.
Ух и поработали мы тогда, хотя нам было нелегко, особенно зимой! Осенью палатки насквозь продувались ветрами, а зимой их заносило снегом до самой макушки.
Да, да. Мне тогда было три года и пять месяцев, но я всё отлично помню, точно это случилось вчера. Такие вещи не забываются.
Ну, а во-вторых, я… в общем, самое главное — это во-первых!
Итак, я еду в Артек. По дороге домой, когда от радости, что я уезжаю, меня просто распирало, я встретил директора совхоза Николая Павловича Шерстнёва. Между прочим, он тоже живёт в совхозе с первых палаток.
Мы поздоровались, пожали друг другу руки. У Николая Павловича привычка с каждым встречным перекинуться словом, если есть свободная минута.
— Ну, как дела, Сева? — спросил он.
Сами по себе эти слова ничего не значили. Люди ведь часто встречаются и говорят: «Как дела?» А ответ их совсем не интересует. Из вежливости они спрашивают про дела, что ли? А у Шерстнёва это было совсем по-другому, он действительно хотел узнать, как мои дела.
— Неплохо, — ответил я. Неудобно было сразу выкладывать свою новость. У него впереди самая горячая работа: сенокос, подготовка к уборочной, а я еду отдыхать. Потом не выдержал и добавил: — Дали путёвку в Артек, не знаю, отказаться или нет? Сейчас из совхоза ни один человек не уезжает в отпуск, а я вдруг уеду.
— Не страшно, — сказал Шерстнёв. — В этом году мы справимся. А тебе надо, брат, подлечить свой тонзиллит. Будешь там горло полоскать морской водой и поправишься. Ну, бывай здоров!
— До свидания! — сказал я.
— Между прочим, держись в Артеке солидно, не подводи совхоз. Сам понимаешь, там ребята со всего Советского Союза и даже из-за границы, и если ты что-нибудь откомаришь, представляешь, какой шум пойдёт?
— Понимаю. — Было ясно, что он к чему-то клонит.
— Соберутся, например, пионеры на сбор, — продолжал он, — будут петь, танцевать, а ты вдруг замяукаешь по-кошачьи. Международный скандал.
— Это я ради матери придумал, вы же знаете, — ответил я. — Она не выносит, когда врут. А меня иногда так занесёт… И тогда, чтобы остановиться, я начинаю мяукать.
— Прогрессивный метод, — сказал Шерстнёв. — Ну, а удоду почему ты подражаешь?
— Господи, вот уж Нина Семёновна! — возмутился я. — И это она рассказала. Просто я изучаю птичьи голоса. Задумался на уроке и закричал, как удод. Несчастный случай.
По-моему, я здорово выкрутился, хотя никакие птичьи голоса я не изучал. Поспорил с ребятами, что закричу на уроке удодом, и закричал. Я хозяин своего слова.
— Ясно, — сказал Шерстнёв. — Только постарайся без несчастных случаев.
— Конечно, — ответил я. — А Нина Семёновна обиделась на меня. Она вообще обидчивая. Я у неё прощения просил — не прощает.
— А за что она так на тебя? — спросил Шерстнёв.
Я промолчал, не хотелось про это рассказывать, но он упрямо ждал и подозрительно поглядывал на меня.
— Ничего особенного, — сказал я. — Я её прозвал «Богиня Саваофа».
— Как, как? — переспросил Шерстнёв.
— Ну, в общем, верующие придумали себе бога Саваофа. Он у них один в трёх лицах: бог-отец, бог-сын и бог — святой дух. А Нина Семёновна тоже одна в трёх лицах: старшая вожатая — раз, учительница — два, главный редактор — три. Ну, я и прозвал её «Богиня Саваофа». Я ей говорю: «Простите, Нина Семёновна, не знаю, как у меня такое с языка сорвалось», а она голову отворачивает. Даже разговаривать на эту тему не желает.
— Строгая у вас Нина Семёновна, — сказал Шерстнёв.
— Строгая, — ответил я. — И ужас до чего обидчива.
С этим мы и разошлись. Шерстнёв пошёл в свою сторону, а я в свою.
Потом я оглянулся. Сам не знаю почему, потянуло меня оглянуться. У него была широкая, сутулая спина и длинные руки. И тут он тоже оглянулся. Обычно когда люди оглядываются одновременно, то они чувствуют себя неловко и сразу отворачиваются. А Николай Павлович и не подумал отворачиваться.
Глава 2
На сборе отряда, когда мне давали рекомендацию в Артек, меня изрядно пощипали: и ленивый, и разболтанный, и иронически относится к девочкам.
Надо же, какое слово придумали: «иронически». Так оскорбить человека только за то, что он одну девчонку назвал дохлой принцессой. И самое главное, что против слова «принцесса» никто не возражал. Их, видите ли, возмутило определение «дохлая».
Тут я решил вставить слово, надо было защищаться.
— Но ведь сейчас живых принцесс в Советском Союзе нет, — сказал я. Это шутка, литературный образ.
Все мальчишки засмеялись, девчонки возмущённо зашикали, а «Богиня Саваофа» сказала:
— Ты грубиян, Щеглов, но мы на тебя не обижаемся. Просто ты не понимаешь душевной тонкости человеческой натуры. О-чень, о-чень жаль.
Когда она произносила эти слова, то так выговаривала каждую букву, словно хотела, чтобы её «о-чень, о-чень жаль» перевоспитали меня в одно мгновение, чтобы я, как Иванушка-дурачок после купания в кипящем котле, сразу преобразился и сказал: «Дорогая Нина Семёновна, я больше никогда, никогда не буду вас огорчать, и вообще я никого не буду огорчать, я стану первым земным ангелом».
Наступила минута напряжённого молчания. Бывают такие напряжённые минуты, когда всё решается. Вот и сейчас наступила такая минута, и ребята задумались, стоит ли меня посылать в Артек.
«Так, так, — подумал я. — А кто лучше всех прочёл лекцию о международном положении, это они забыли? Забыли, как я им рассказал, что было время, когда пустыня Сахара была плодородной долиной? Они сначала смеялись. А я им сказал: смейтесь, смейтесь, только учёные нашли там на скалах рисунки древних людей, которые жили в Сахаре. Например, рисунок «Великий марсианский бог». Представляете, не просто какой-то обыкновенный бог, а «марсианский», потому что он нарисован в скафандре. Ну, вроде как наши космонавты. И, может быть, это совсем не бог, которого придумали жители Сахары, а марсианский космонавт. Может быть, он спустился к ним на корабле, а они по своей отсталости приняли его за бога и нарисовали на скале. Тут ребята прямо закачались от неожиданности. А потом три дня только и разговаривали про марсианского космонавта. Правда, какой-то скептик заметил, что всё это не имеет ни малейшего отношения к международному положению, что моя лекция не по правилам. А я ответил, что не люблю по правилам.
А разве не я работал на огородах в совхозе, четыре часа ползал на четвереньках среди этих проклятых полосатых огурцов? Причём добровольно! Хотя я самый отчаянный враг ручной работы».
А теперь об этом никто не вспоминал. Все сидели и молчали. Ну, ну, чего же вы молчите? Откажите мне в путёвке, раз вы решили, что я плохой человек. Откажите, если вы думаете, что я вам даю прозвища по злобе. А вы знаете, как я сам себя прозвал? «Трусливый заяц» и «Барон Мюнхаузен». Эти прозвища пообиднее, чем у вас. А они молчали. Нужно было что-то сказать, заплакать или ударить себя кулаком в грудь и дать честное слово, что я теперь буду хорошим. Ради Артека необходимо было это сделать, и потом, мне обязательно надо было попасть в Москву по личному делу.
— Раз так, — сказал я, — можете не посылать меня в Артек.
Несколько ребят подняли руки, чтобы выступить, но «Богиня Саваофа» никому не дала слова.
— Я думаю, что теперь Щеглов сможет критически оценить своё поведение. — Она улыбнулась. — А мы дадим ему рекомендацию.
— Правильно, правильно! — закричали ребята. — Дадим ему рекомендацию.
А когда мне написали рекомендацию, то там оказалось всё наоборот. Чёрным по белому было написано, что я дисциплинированный, находчивый пионер, добрый товарищ, прилежный ученик.
Я тогда говорю «Богине Саваофе»: чему же верить? То ли тому, что она говорила на сборе, то ли тому, что написано в рекомендации? А она отвечает: и там и там есть немного правды.
— А почему немного? — спросил я. — Говорили, на полуправде в коммунизм не въедешь, а сами…
Она вдруг разозлилась и сказала:
— Слушай, не морочь мне голову, сам прекрасно знаешь всё про себя!..
Действительно, это было так. Про себя я всё прекрасно знал. Только непонятно, зачем нужно было обсуждать меня на сборе и писать наоборот, если про меня всё ясно.
Помолчали. Я не хотел с ней заводиться, но никак не выходили из головы её слова, что у Меня нет сердечной теплоты к людям. Это меня мучило, и всё. Неужели она так на самом деле думает?
— Нина Семёновна, — выдавил наконец я. Не так легко это было спросить. — Нина Семёновна…
— Слушай, Щеглов, — перебила она, — шёл бы ты домой. Мешаешь мне работать.
Боже мой, какая работа! Она писала заметки для стенгазеты. Она писала все заметки сама, а потом ребята их переписывали.
Однажды она привлекла к этой важной работе и меня: поручила нарисовать цветными карандашами заголовки. А я взял и разрисовал все заметки. Когда она увидела, что я наделал, ей дурно стало. Она закричала, что это продуманный враждебный политический акт, что я нарочно сорвал выпуск стенной газеты.
Теперь она меня к газете близко не подпускала.
— Нина Семёновна, — я всё же решил довести разговор до конца, — вы тогда на сборе серьёзно сказали, что я бездушный человек или, может быть, пошутили? Просто меня воспитывали?
— Разумеется, серьёзно.
Ох, до чего она была деревянный человек, прямо мокрая деревяшка, ударишься об неё — и никакого отзвука! Она выводила большими буквами заголовок на газете: «Стенная печать — сильнейшее критическое оружие!»
— И ребята так про меня думают? — спросил я.
— Разумеется, — ответила она.
Мне захотелось сказать ей что-нибудь обидное, но я ничего не мог придумать. И тогда я издал такой клич удода, что ни одному настоящему удоду он и не снился никогда. «Богиня Саваофа» подскочила на стуле.
— Хулиганство! — сказала она. — Безотцовщина!..
Нина Семёновна прямо так и крикнула мне в лицо: «Безотцовщина!»
А я ничего ей не ответил и выскочил из комнаты. С улицы я заглянул в окно. «Богиня Саваофа» сидела в той же позе, писала заметки: наводила на всех критику. Я затарабанил по стеклу. Она посмотрела на меня и сделала страшное лицо: поджала губы и прищурила глаза. Но мне теперь было всё равно, меня ничего не пугало: ни её поджатые губы, ни прищуренные глаза. Я мог сам поджать губы и прищурить глаза.
Тогда она наконец оставила свои заметки, медленно подошла к окну и открыла его.
— А про ребят вы сказали неправду! — крикнул я. — Вы соврали!
— Что, что? — сказала она. Притворилась глухой или на самом деле не расслышала моих слов.
— Меня ребята уважают! — крикнул я. — Уважают, а вы, вы… вредная!
Я изо всех сил толкнул раму, и вдруг из рамы выскочило стекло. Оно ударило меня по голове и разбилось. Я повернулся и побежал.
— Щеглов, Щеглов! — закричала «Богиня Саваофа». — Сейчас же вернись! Я тебе приказываю, вернись!
Но я не стал возвращаться.
Глава 3
У меня нет отца. Это моё слабое место. Вернее, у меня есть отец, только он живёт в Москве. Именно поэтому «Богиня Саваофа» крикнула мне «безотцовщина»: мол, ничего хорошего не получается, когда отец живёт так далеко от сына. Действительно, ничего хорошего, если он в Москве, а я тут, в совхозе. Отсюда не закричишь: «Папа!» — и не позовёшь его на помощь.
Но разве можно бить человека по его слабому месту, как это сделала «Богиня Саваофа»?..
Когда-то мы все трое жили в Москве, а потом мать окончила институт, и мы приехали на целину. Мать стала работать в совхозе зоотехником, а отец шофёром. А потом он уехал обратно в Москву.
Дома мы об отце никогда не разговариваем. Года два назад поговорили и с тех пор молчим. Мы тогда в школе писали сочинение о родителях. А потом оказалось, что все ребята написали сочинения об отцах, а я — о матери. Учительница меня тогда даже похвалила. «Молодец, — говорит, — Щеглов, что написал о матери. А вы все, ребята, неправы. Ваши матери вместе с отцами трудятся в совхозе: и дома ставят, и на фермах работают, и в поле, а вы о них ни слова».
В общем, хотела она меня похвалить, а получилось наоборот: у меня от её похвалы испортилось настроение. Я вдруг подумал, что во всём нашем классе у меня одного нет отца.
В этот день я пришёл домой и спросил у матери о нём.
— Многие родители, — сказала она, — скрывают от детей правду. А я тебе всё скажу. Он был хвастун. Наобещает и ничего не сделает.
Мы сидели за столом. Я готовил уроки, а она штопала рукав моей рубашки: вечно они у меня на локтях протираются. Оба мы делали вид, что ведём совсем обыкновенный разговор.
— Я его стыдила, ругала, просила. Он обещал исправиться и не исправлялся. Однажды перед ним даже на колени встала…
Я представил мать на коленях перед ним. Это было непонятно. Чего только взрослые не придумают!
— А тут произошёл такой случай: зимой это было. Из района нам передали, чтобы прислали людей за витаминами для скота. Послали на тракторе с санями его и ещё одного тракториста. Назначили его старшим, потому что он знал дорогу в райцентр и ходил на тракторах туда по снегу. Прошло три дня — их нет. Подождали ещё три дня — опять нет. Никто не знает, что случилось. Может быть, они в дороге замёрзли, а может быть, у них трактор сломался. Им навстречу ушли Шерстнёв и механик с автобазы. Знаешь, тот самый, что разводит в пруду рыб.
— Знаю, — ответил я. Точно это было очень важно, знаю я или не знаю этого механика. Его фамилия Зябликов. Совхоз ему не дал денег на этих рыб, так он на свою зарплату их покупает.
— На лыжах ушли. А до райцентра сорок километров. А в степи, если метель, темнота. Вот они и шли в этой темноте, помёрзли, пока дошли до райцентра. Шерстнёва после этого в больницу положили и на правой ноге пальцы отняли. Отморозил.
Она замолчала, и я молчу. Ждал, что она скажет ещё про отца, а сам делал вид, что увлёкся уроками.
— Собрала его вещи и говорю: поезжай куда хочешь, а когда станешь человеком, возвращайся. И он уехал… Ты представляешь, что он придумал: в райцентр должны были приехать цирковые артисты, так он решил их дождаться. И ещё говорит, что мы скучные люди, а он поэтическая натура.
— Он ведь не знал, что Шерстнёв пойдёт его искать и отморозит пальцы, — сказал я.
— Когда ты станешь взрослым, — сказала мать, — ты поймёшь, что нельзя всё прощать.
Я промолчал. По-моему, мать зря его отправила из дома. Может быть, постепенно он бы исправился. Я бы с ним на рыбалку ходил, на машине вместе ездили. Я бы его обязательно перевоспитал.
Многие говорят: подумаешь, нет отца, мол, не беда, есть мать, и так далее. Конечно, человек может привыкнуть к чему угодно, а я всё равно думаю об отце. Вот только лягу в постель, закрою глаза, и сразу он появляется передо мной.
Разные истории для него придумываю. То он вернулся в совхоз со Звездой Героя, и сам Шерстнёв у него прощения просит, что плохо о нём думал. То он долго не возвращается, потому что его тайно тренируют в космонавты. То придумаю, что он уехал на Кубу помогать кубинцам осваивать наши, советские, автомобили.
В общем, придумываю разные истории, хотя знаю, что всё это чепуха. Тогда я начинаю мяукать, один раз даже мать ночью своим мяуканьем разбудил, и она решила, что какая-то чужая кошка забралась к нам. Зажгла свет и начала её искать. А я притворился, что сплю. И снова, после того как она погасила свет, мне в голову полезли всякие истории про него…
У меня сильно заболел палец, на нём была кровь. Видно, я порезался, когда разбил стекло.
Я вспомнил «Богиню Саваофу», вспомнил её поджатые губы и прищуренные глаза. Представил себе, как она влетела сейчас в кабинет директора школы, точно ею выстрелил из лука сам Робин Гуд, и рассказала всё обо мне. А он тут же схватился звонить матери, а мать после этого вернётся домой и будет стирать до полуночи бельё. Она меня никогда не ругает, а только стирает и стирает бельё, хочет, чтобы у неё от работы и усталости прошла обида на меня.
А мне-то каково? Один раз я тоже решил принять участие в стирке, решил поднести ей ведро с горячей водой. Так она мне такой подзатыльник подарила, как будто через меня пропустили настоящий электрический заряд.
С тех пор я больше не пристраиваюсь к её стирке.
Глава 4
Когда я пришёл домой, то оказалось, что мать уехала на дальние пастбища и должна вернуться через два дня.
У меня сразу улучшилось настроение. Обмотал бинтом потолще палец, для солидности, и принялся размышлять.
Два дня — это большой срок, за два дня что хочешь можно сделать. Пойти, например, к «Богине Саваофе» и извиниться перед ней. От извинения язык не отвалится. Можно сказать: «Нина Семёновна, я больше никогда не буду хулиганить». Можно ударить себя в грудь и потереть нос кулаком, точно я хочу заплакать. Она любит, когда перед ней так извиваются.
С этим я и лёг спать. Но вечером у меня всегда одно настроение, а утром другое. Так случилось и на этот раз.
Я проснулся и подумал: а почему, собственно, я должен извиняться? Она меня оскорбила, и я же должен извиняться. Только потому, что она старшая вожатая, главный редактор стенной газеты и учительница, а я просто ученик?! А как же тогда справедливость?
Все говорят: справедливость прежде всего. Говорят: воспитывайте в себе человеческую гордость. А на деле: я ни в чём не виноват, и я же должен страдать, унижаться. Когда мать не пускает меня стирать бельё, это я понимаю, а тут что-то не так.
В школе на первой перемене меня вызвали к директору.
Видно, «Богине Саваофе» не терпелось меня наказать, и поэтому меня вызвали тут же.
Ну что ж, это тоже неплохо. А то надоело, что ребята поздравляют с путёвкой в Артек. После того как я выйду от директора, сразу все узнают, что я никуда не еду, и перестанут меня поздравлять.
Печальные новости распространяются со скоростью звука — триста тридцать метров в секунду. Они прямо летают по воздуху между людьми.
Зашёл к директору, поздоровался по всем правилам. Жду. А он сидит за столом и что-то читает.
Директор в нашей школе какой-то ненастоящий, он никак не может запомнить фамилии ребят. Вечно нас путает. Про него говорили, что он очень долго был большим начальником и оторвался от народа. И поэтому его послали на живую работу, то есть в нашу школу.
— А, пришёл, герой, — сказал директор. — Подойди поближе. Так. Сейчас заполним путёвку.
Вот это была неожиданность: выходит, «Богиня Саваофа» ничего ему не сказала.
Он вытащил путёвку и спросил:
— Фамилия?
— Щеглов, — ответил я.
— Напишем — Щеглов, — сказал директор. — Имя?
— Севка, — ответил я.
— Напишем — Всеволод, — сказал директор. — Севка — звучит не солидно. И поедет Всеволод Щеглов в Артек.
Он был уже старый, наш директор, и, вероятно, ему было трудно с нами. По-моему, он не знал, что нам нужно говорить. Не умел так ловко и гладко говорить, как другие учителя.
— Ты там, в Артеке, сразу включайся в пионерскую работу, — сказал он. — Стихи умеешь читать?
— Нет.
— Плохо. Надо научиться. Выучи, например, стихи о советском паспорте В. Маяковского.
Мы помолчали.
— На, держи, счастливый Щеглов. — Он это сказал как-то печально, словно завидовал мне, и протянул путёвку.
— Спасибо, — ответил я. Помялся, постоял, мне почему-то стало его жалко, и я спросил, чтобы поддержать разговор: — А что это такое, когда говорят: «Он оторвался от народа»?
Директор вскинул глаза. Вдруг они у него блеснули, точно он разозлился. Он у нас целый год, этот директор, раз сто приходил к нам в класс, но я ни разу не видел, чтобы у него блестели глаза.
— Когда так говорят про кого-нибудь, — сказал он, — это плохо, очень плохо, и сразу даже не объяснишь, в чём тут дело. Ну, в общем, так можно сказать про человека, который никак не может запомнить фамилии людей, которые работают и живут вместе с ним. Ясно?
— Ясно, — ответил я.
И тут вошла «Богиня Саваофа». Она сразу увидела, что я держу в руке путёвку в Артек.
— Вручили? — спросила она.
— Вручили, — ответил директор. — Иди, Щеглов.
Я повернулся и медленно пошёл. Чувствовал, что они провожают меня взглядами. Вот сейчас «Богиня Саваофа» ему всё скажет, и тогда наступит её торжество, и у меня отнимут путёвку.
Дошёл до двери, секунду помедлил: ну, окликайте меня, теперь уже самое время меня остановить. Но они молчали.
Не успел я отойти и двух шагов от канцелярии, как «Богиня Саваофа» догнала меня. Я нарочно поднял забинтованный палец: пусть видит, что я пострадал.
— Помни, Щеглов, — сказала она, — за тебя поручился сам Шерстнёв. Смотри не подведи его.
Всё было ясно — почему мне рекомендацию хорошую дали и почему «Богиня Саваофа» не пожаловалась директору школы на вчерашнюю историю. Просто «некоторые» в лице Шерстнёва заступились за меня.
— Не беспокойтесь, — ответил я, — Шерстнёва я не подведу.
Я подумал, что наш директор всё же меньше оторван от народа, чем «Богиня Саваофа», хотя она любого ученика в школе знает не только по фамилии, имени и отчеству, но и по голосу.
— Отдыхай, Щеглов, хорошо, — сказала она.
— Спасибо. — Разговор у нас был очень вежливый, точно не она вчера крикнула мне «безотцовщина» и не я разбил оконное стекло.
— Ах, когда же у тебя в голове всё уложится по полочкам! — сказала «Богиня Саваофа».
Я почему-то вспомнил библиотеку и ряды аккуратных полок, уставленных книгами. А потом я представил, что у меня в голове точно такие же аккуратные полки, но вместо книг на них лежат бумажки со словами: «Это опасно», «Это не положено», «Это нужно». Мне захотелось затрясти головой, чтобы эти полки на самом деле не выстроились в моей голове. А здорово было бы, если бы «Богиня Саваофа» сейчас затрясла головой и её «полки» рассыпались бы навсегда. У неё-то они крепко сидят. А ещё лучше было бы, если на людей, у кого в голове всё разложено по полкам, налетела трясучка, как ураган, и все полочки у них бы рассыпались.
— Не знаю, — сказал я и слегка тряхнул на всякий случай головой. Ради предосторожности.
Она тяжело вздохнула, и я тяжело вздохнул.
Пора было расходиться, раз она не напоминала о вчерашнем. Но она как-то странно вела себя, какую-то бумажку комкала в руке, волновалась, что ли.
— Ты меня прости за вчерашнее, — сказала она.
Я прямо чуть не упал от её слов.
Вот до чего дожил — сама «Богиня Саваофа» просит у меня извинения. Неизвестно, что было отвечать, на всякий случай спрятал ладонь с обвязанным пальцем за спину. А то этот палец у неё торчал перед глазами.
— Ерунда, — сказал я.
Она улыбнулась, честное слово, она улыбнулась мне и вроде даже махнула рукой. Ну совсем как будто мы добрые друзья. Вот и пойми тут людей! Я ей тоже улыбнулся и пошёл по школьному коридору.
Я шёл школьным коридором и помахивал путёвкой в Артек. По всей школе над головами ребят летела новость, что я, Севка Щеглов, получил наконец долгожданную путёвку.
Оказывается, и хорошая новость распространяется быстро, значительно быстрее, чем плохая. Я думаю, что она распространяется со скоростью света — триста тысяч километров в секунду.
Глава 5
В город к поезду меня провожала мать. Я не хотел, чтобы она меня провожала: в конце концов, я не маленький. Представляете, была бы картина: приходим мы на вокзал к поезду, все ребята одни, только я при матери.
Но этого не случилось: родителей на вокзале было ровно в пять раз больше, чем детей.
— У тебя какие-то странные глаза, — сказала мать. — Горят, как фонари. Ты увидел ребят и не слушаешь меня.
— Обыкновенные глаза, — ответил я. И несколько раз мигнул, чтобы они потухли.
Дело в том, что я думал совсем не о ребятах, а об отце. Думал про то, как приеду в Москву и встречусь с ним. Я испугался и начал смотреть по сторонам, чтобы мать не перехватила мой взгляд. Она по глазам отгадает мои мысли. Это у неё есть, она так изучила меня, что иногда совершенно точно отгадывает мои мысли.
— Всеволод, — снова сказала мать, — сконцентрируй своё внимание.
— Сконцентрировал, — ответил я.
Но тут мы попали в водоворот толпы, и мать сама расконцентрировалась.
Все ребята говорили одновременно, орали вовсю, и ничего нельзя было понять. А родители были ничуть не лучше своих детей: каждый старался перекричать другого, чтобы сказать последнее слово сыну или дочери.
Я просто очумел, и когда дали команду прощаться, то поцеловал чужую женщину. Она в последний момент бросилась между мной и матерью. Потом мать всё же прорвалась ко мне и крикнула в ухо:
— Прошу тебя, не делай глупостей!
Не знаю, что она подразумевала под этим, но я твёрдо ответил:
— Не волнуйся!
Наконец эта страшная толчея окончилась: нас усадили в поезд, а родителей оставили на перроне. Все ребята, как вошли в вагон, сразу бросились к открытым окнам, и я тоже устроился у окна. Рядом со мной стоял какой-то странный парень. Волосы белые, и глаза совсем светлые, а кожа тёмная, точно он долго-долго загорал. Прямо шоколадная кожа.
— Можно подумать, что мы едем в голодную Южную Африку, а не в Артек, — сказал этот «шоколадный». Он кивнул на самых настойчивых родителей, которые прыгали под окнами вагона и совали своим детям разные бутылки, пирожки и кульки.
У одного мужчины свёрток с едой выскочил из рук, и по перрону рассыпались пирожное, пять конфет «Ну-ка, отними!» и два больших жёлтых апельсина. А люди не видели и топтали пирожное и конфеты ногами. А какая-то женщина ударила по апельсину, как по футбольному мячу.
— Вот здорово! — сказал я и засмеялся.
«Шоколадный» посмотрел на меня и ответил:
— Ничего хорошего в этом нет. Они бросаются едой, а одна пятая человечества голодает.
Глупо получилось, что я засмеялся, когда женщина футбольнула апельсин. Парень может подумать, что я из разряда бездельников и вообще думаю, что еду покупают в магазине, а туда она попадает прямо с луны. Хотя уж кто-кто, а я-то знаю, как выращивают хлеб.
— Прошлым летом мы были на уборочной, и я сам управлял комбайном, — сказал я.
«Шоколадный» посмотрел на меня. Ясно было — не поверил. А ведь это чистейшая правда. Это Шерстнёв придумал. Он пришёл в школу и говорит: «Давайте отправим ребят в поле, пусть полюбуются, как работают их родители». Нас привезли в поле поздним вечером. Было темно, и неизвестно, что делать в этой темноте, но, оказывается, комбайнеры преспокойно убирали пшеницу. Да, да, я сам всю ночь простоял на мостике комбайна. И вот именно тогда Шерстнёв мне доверил штурвальное колесо. А сам вдруг повернул фару, которая была укреплена рядом со штурвалом, в небо. Я его спросил, зачем он это делает. А он ответил: «Чтобы в космосе видели наш огонёк». Неплохо придумал. А этот не верит.
— Мы работали всю ночь, — сказал я. — Нельзя было терять время. А утром Шерстнёв, наш директор совхоза, собрал ребят и взрослых и говорит: «Не знаю, как вы, а я себя чувствую человеком».
«Шоколадный» внимательно посмотрел на меня.
— Да, — сказал я. — Хлеб вырастить — большой труд. Это не я только так думаю, это Шерстнёв часто говорит.
«Шоколадный» снова посмотрел на меня.
— А знаешь, что одна пятая человечества, — сказал он, — это шестьсот миллионов человек. Шестьсот миллионов! И все они голодают.
Я так растерялся от его слов и от количества голодающих людей, что просто потерял дар речи. Никогда бы не подумал, что столько людей на земле голодает.
— А что же делать, чтобы одна пятая не голодала? — спросил я.
— Не знаю, — ответил он. — Только мне это мешает жить.
— Несправедливо, — сказал я.
Я поискал глазами мать. Она стояла в сторонке совсем одна и смотрела на меня. Я-то отлично знал, как она не любила провожать и не любила вокзал этого города, потому что восемь лет назад отсюда в Москву уехал мой отец.
Помахал ей рукой, но она не ответила. Смотрела в мою сторону, а меня не видела. Бывает так иногда у людей: смотрят прямо на тебя, а ты чувствуешь, что они тебя не видят, что у них перед глазами кто-то другой. Может быть, она сейчас думала об отце и о том, что она зря отправила его из дома? Недаром про мать говорили, что «у неё одна любовь на всю жизнь».
Я мог её окликнуть, но в такие минуты, по-моему, нельзя орать или говорить: «Ты смотришь мимо меня».
Ждал, и всё. Она спохватилась в последний момент. Поезд тронулся, и мы помахали друг другу руками. Она долго-долго махала мне рукой, точно провожала меня в дальнее и трудное путешествие.
Глава 6
Когда перрон с шумной толпой и моя одиноко стоявшая мать пропали вдали, я оглянулся. Но этот «шоколадный» уже куда-то исчез.
Жалко было, что он исчез. Я не особенно люблю одиночество. Вернее, я его совсем не люблю. Прошёлся по вагону: ребята уже разбились на группы и разговаривали. Девчонки с девчонками, мальчишки с мальчишками. Девчонки рассказывали друг другу про своих учителей, а мальчишки — про космонавтов и про футбол. И тут он сам появился передо мной.
— Почему ты ушёл? — спросил я.
— А, слёзы-грёзы, — сказал он. — Тебя ведь мать провожала. Я видел.
— А тебя кто провожал?
— Никто. Мама уехала в экспедицию. Она монтирует в горах автоматические метеостанции, а отец взрывается.
— Как это — взрывается? — не понял я.
— Он проводит опыты с газом гелием и часто взрывается. То руки обожжёт, то лицо. Это его любимый газ. Он поэтому и меня назвал Гелием. Он очень лёгкий, этот газ, и создаёт температуру до двухсот шестидесяти градусов.
— Подумаешь, — сказал я. — Сталь плавят при семистах градусах.
— А гелий создаёт температуру двести шестьдесят градусов ниже нуля, то есть мороза.
Он мне очень нравился. Всё у него было необычное, даже имя: Гелий. И загар необычный, не то что у других: нос облупился, а лоб белый. Или в глубине морщинок светлые полоски, как у меня, потому что я не могу отвыкнуть от привычки морщить лоб. А у него загар ровный и гладкий: руки, лицо и даже уши — всё одного цвета.
— А у меня обыкновенное имя, — сказал я. — Просто Севка.
В это время в наш вагон вошла девушка с пионерским галстуком. Я сразу догадался, что это пионервожатая, они все какие-то одинаковые: у них одинаковые причёски и очень строгие лица. Точно им всем запретили улыбаться.
— Ребята, минуту внимания, — громко сказала девушка.
Все тут же повылазили из своих купе и уставились на девушку. Она почему-то покраснела.
— Меня зовут Наташа. — Она покраснела ещё сильнее и поправилась: Наталья Сергеевна. Вам, ребята, строго запрещается драться и выходить на остановках из вагона.
Я вспомнил «Богиню Саваофу», и мне сразу стало скучно-скучно.
— Надеюсь, вы меня не подведёте? — спросила она.
— Нет, нет! — закричали все.
Кроме меня, конечно. Я на всякий случай решил промолчать. И Гелий промолчал.
— У вас есть чувство ответственности? — снова спросила она.
— Есть, есть! — закричали все.
А мы с Гелием промолчали. И вдруг она улыбнулась и сказала:
— А теперь можете прыгать, бегать, кричать и петь сколько угодно.
Это было неожиданно, но в следующий момент началось такое, что было не до рассуждений. Все стали прыгать по полкам, перебегать из купе в купе, и везде были ребята, и никто не ругался, что надо молчать, никто не требовал тишины. Здорово было, но только это быстро мне надоело. Сколько можно орать, если тебя не останавливают! И другим это тоже надоело. В вагоне наступила тишина.
Потом мы легли с Гелием спать на верхние полки. Спать нам не хотелось, и Гелий перебрался на мою полку.
— Почему ты молчал, когда Наташа с нами разговаривала? — спросил он.
— Есть у меня причина, — ответил я. — А ты?
— Из солидарности с тобой, — сказал он. — А Наташа мне понравилась. Ничего себе устроила шумок.
— Подумаешь, — сказал я. — Вагон прочный — всё выдержит.
— Это разве прочность? — сказал Гелий. — Скоро вагоны будут делать из железобетона. Вот это будет прочность. И самолёты будут делать из железобетона, крылья и фюзеляжи… А Наташа хорошая, ты зря к ней придираешься.
Утром я проснулся первым. Гелий ещё спал. Он хоть и «летучий газ», а вот сон из него долго не вылетал. И все остальные ребята спали. Известно, у них на душе легко и свободно, а у меня отец, как гвоздь, сидит в голове. Попробуй тут поспи.
Мне надоело валяться, и я потихоньку сполз с полки. В коридоре встретил Наташу. Она уже была на страже. По-моему, она вообще не ложилась спать. Я ночью вставал, так она тоже не спала. Увидела меня и говорит: «Щеглов, комната мальчиков в конце вагона».
Я стоял у окна и считал телеграфные столбы. У меня привычка такая всё считать: окна в домах, проезжающие машины, собак, пролетающие самолёты. Когда считаешь, очень хорошо думать.
Сначала я подумал о матери. Потом об отце. Решил отправить ему телеграмму, чтобы он меня встретил. Потом подумал, хорошо бы ему привезти подарок и сказать, что это от матери. А то неизвестно, с чего начинать разговор.
Мимо неслышно ходит Наташа. Теперь, когда я присмотрелся, то убедился, что она совсем не похожа на вожатую, то есть она не похожа на «Богиню Саваофу». Во-первых, она часто улыбается, во-вторых, она маленькая и худенькая, и лопатки у неё торчат, как у девчонки. Настоящая девчонка, не такая уж, правда, молодая, но замуж ей ещё рановато.
Наташа ходит мимо меня, а я считаю столбы и думаю, как бы её назвать. Когда я насчитал пятьдесят столбов, я вдруг придумал для неё очень хорошее прозвище. Назвал её «Детектив».
Как она косит глаза в мою сторону, прямо стрижёт глазами. Подозрительна до ужаса, ну конечно, настоящий «Детектив». Ей интересно, почему я стою один у окна. Может быть, я думаю выбить окно головой и выпрыгнуть из поезда на ходу. А может быть, решил дёрнуть за стоп-кран, хотя там написано, что за это привлекают к уголовной ответственности.
Но тут её подозрительность резко усилилась, потому что она увидела, что у меня шевелятся губы, и сказала:
— Почему ты один стоишь у окна?
— А разве это запрещается?
— Нет, — сказала она. — Но, может быть, ты себя плохо чувствуешь или скучаешь о родителях?
— Я люблю одиночество, — сказал я.
— Можно, я постою рядом с тобой? — спросила она.
— Стойте.
Мы помолчали.
— Когда ты смотришь в окно на степи и леса, на незнакомые города, на новые стройки, тебе не хочется соскочить с поезда и идти по этой степи или заявиться на стройку и сказать: «Ребята, я остаюсь с вами»? — спросила она.
— Хочется, — ответил я.
— Я так и думала, — сказала Наташа. — Почему ты молчал, когда все ребята кричали, что не подведут меня.
— А, старая песня, — ответил я. — Меня все вожатые не любят.
— Почему?
— А-а, — сказал я нехотя. Пусть не думает, что я очень хочу с ней поговорить. — Наша школьная, например. Я назвал её «Богиня Саваофа», потому что она, как бог Саваоф, одна в трёх лицах: пионервожатая — раз, учительница — два, главный редактор газеты — три. Она обиделась, стала ко мне придираться. Шуток не понимает.
— Смешно. «Богиня Саваофа». А меня ты как назвал?
Я не подумал и трахнул:
— «Детектив». Вы — подозрительная.
Неудобно получилось. Как это у меня выскочило? Она вдруг покраснела.
— Ну, вот видите, — сказал я. — Вы тоже обиделись. Не знаю, как отделаться от этой привычки. «Богиня Саваофа» сказала, что я бездушный человек. Как вы думаете, это правда?
— Нет, неправда, — сказала она. — Просто у тебя остросатирический ум, поэтому ты придумываешь обидные прозвища.
Но я видел, что ей всё же было неприятно, она стала какая-то другая. Зря её обидел, тем более что Гелий её хвалил, а он разбирается в людях.
— Вы не думайте, — сказал я. — Я буду бороться и отвыкну от этой привычки: никому не стану давать прозвищ. Я ведь ко всем хорошо отношусь, и даже к «Богине Саваофе», то есть к Нине Семёновне. — Потом я вдруг вспомнил, как она извинилась передо мной, не каждый может признать свою вину, даже если виноват, и добавил: — Вот сейчас я к ней просто замечательно отношусь.
В это время поезд остановился у перрона какого-то вокзала, и Наташа бросилась к выходу. Она всегда, как только остановка, сразу — к выходу.
Я подошёл к ней и сказал:
— Мне нужно отправить телеграмму одному человеку.
— Ну нет, — ответила Наташа.
— Мне очень нужно, — сказал я. — Честное пионерское!
Она внимательно посмотрела на меня.
— Хорошо, я пойду с тобой. — Она попросила проводника не выпускать из вагона ребят, и мы побежали на почту.
Бегала она быстро, как мальчишка. Я еле за ней поспевал. Наконец мы прибежали на почту.
— Давай пиши. — Наташа протянула мне бланк телеграммы. — У нас мало времени.
Она повернулась ко мне спиной, чтобы не видеть, о чём я пишу. А я не знал, что мне писать. Думал, думал, ничего не придумал, а тут ещё Наташа под боком, и народ кругом разговаривает, и все спешат.
— Ну, чего же ты? — возмутилась Наташа. — Ты когда-нибудь телеграммы писал?
— Нет, — ответил я. Теперь мне уже не хотелось посылать эту телеграмму, и я сказал: — Нет, не писал… — Хотя я уже писал телеграммы два раза в жизни. Поздравлял маму с днём рождения, она была в командировке, и Юрия Гагарина, когда он благополучно приземлился в заданном районе.
— Давай я напишу, — сказала она. — Диктуй адрес.
— Не буду я писать, — ответил я. — Передумал.
— Ты просто меня обманул. — Она на всякий случай схватила меня за руку. — Ты и не думал никому посылать телеграмму. А я всю ночь не спала, ходила по вагону, боялась, кто-нибудь свалится из вас с верхней полки.
У меня горело лицо, точно я стоял перед теми кострами, которые мы разжигали в поле. Нужно было как-то объяснить ей, что я на самом деле хотел отправить телеграмму. Она даже на «Детектива» не обиделась, и мне совсем не хотелось, чтобы она думала, что я её дразню.
— Я не думал вас обманывать, — сказал я.
— Если бы я тебе могла поверить!.. — сказала Наташа. — У меня предчувствие, что ты меня обманешь.
Можно было попытаться договориться с ней. Но тогда надо было выложить всё про отца, и про то, как мать тоскует о нём, и какая она гордая, и ещё многое, что словами не расскажешь. К тому же я не любитель выкладывать свою биографию каждому встречному-поперечному. Скажешь, к примеру, отца нет, и тут же тебя начинают жалеть, и сиротой называют, и бедненьким.
Противно слушать, не понимают они, что ли, что никому их жалость не нужна.
— Я выпью воды, — сказал я. — У меня в горле пересохло.
— Ну ладно, — согласилась она. — Пей. — Она всё ещё держала меня за руку. Боялась, видно, что меня куда-нибудь в сторону занесёт.
Мы подошли к автоматам с газированной водой. Их было тут восемь штук, но все они не работали. Они стояли, как в строю, большие, красные, пузатые, и все не работали.
— Уже тридцать восемь, — сказал я.
— Что — тридцать восемь? — не поняла Наташа.
— Тридцать восемь автоматов я насчитал в дороге, и все не работают. Порядки.
— Пошли обратно. Напьёшься в вагоне.
— Хорошо, — сказал я. — Только разве сравнишь обыкновенную воду с газировкой из автомата.
И тут я увидел на витрине киоска большую разноцветную глиняную вазу. Она была ярко-оранжевая, а в центре красовался чёрный петух с жёлтым глазом.
— Подождите. Мне надо купить эту вазу, — сказал я. — В подарок одному человеку.
Она смотрела на меня, как на ненормального. А я подошёл и купил вазу. Отгрохал за неё два рубля. По-моему, продавец был очень доволен, потому что он даже мне её упаковал.
Когда он её упаковывал, я увидел, что на другой стороне вазы нарисован второй петух. Этот был жёлтый с чёрным глазом.
Я взял вазу из рук продавца и сразу как-то почувствовал себя неуютно, неспокойно, ну вроде сделал что-то не совсем так.
— Ваза тому же человеку, что и телеграмма? — спросила Наташа.
— Да, — ответил я.
Теперь она меня уже не держала за руку. Поняла, что я никуда не собираюсь убегать. Раз покупаю вазы, значит, бежать не собираюсь.
Когда я вернулся в вагон, Гелий ещё спал. И двое других мальчишек в нашем купе спали. Я поставил вазу на свою полку и вышел в коридор.
В коридоре был настоящий цветник, клумба с цветами разных сортов, потому что все девчонки были в цветных платьях. Они бегали, суетились, пищали, хихикали и заплетали косы. Они очень гордились своими косами: то бросят их небрежно за спину, то положат на грудь.
Я стоял и смотрел на них. Интересно смотреть на незнакомых девчонок. Это меня немного развеселило. И тут я понял, почему у меня было такое плохое настроение: просто я потерял надежду, что увижу отца. А теперь у меня снова появилась надежда. Может быть, оттого, что светило солнце, может быть, оттого, что Наташа стерегла нас всю ночь, чтобы мы не упали с верхних полок и не разбились, а может быть, оттого, что все девчонки были в цветных, ярких платьях. В общем, неизвестно отчего, но у меня появилась надежда, что у нас с отцом всё закончится удачно.
Конечно, Гелий счастливый. У него вон какой отец: учёный. Во время опытов взрывается, а всё равно продолжает работать. Гелий сказал, что он одержимый. Он сказал, что самые счастливые люди — это одержимые. А мой? Опытов никаких не ставит, жизнью ради других не рискует. Ну и что же? Он мой отец. Шерстнёв правильно говорил: «Главное — быть человеком». А ведь он человек. Ну, а недостатки есть у каждого, без недостатков нет ни одного человека.
Чем ближе мы подъезжали к Москве, тем больше я волновался. Телеграмму я отцу не стал давать. Дело в том, что у меня созрел новый план: я решил съездить к нему домой. Наташа сказала, что у нас в Москве будет несколько часов свободного времени между поездами, вот я и решил съездить к нему.
Надо было подготовить к этому Гелия, а то я уйду, а они поднимут панику.
— Я с вами на экскурсию не пойду, — сказал я. — У меня одно важное дело.
— А Наташа тебя отпустила? — спросил Гелий.
— Нет, — ответил я. — Я не спрашивал, мне по личному делу надо.
Ему не понравились мои слова, и он не постеснялся это показать. Он не любил, когда обманывают.
— У меня нет другого выхода, — сказал я.
— Нехорошо причинять людям страдания, — сказал он. — Знаешь, что будет с Наташей, когда ты убежишь?
— А что будет со мной, если я не пойду, ты знаешь? — спросил я. — Я, может быть, только из-за этого согласился поехать в Артек, потому что, если по-благородному, я должен был отказаться от путёвки. Я узнал, здесь все отличники, только я один не отличник, а я не отказался.
— Ладно, я тебя поддержу. Из солидарности… А что мне сказать Наташе, когда она узнает, что ты сбежал?
— Что хочешь… У меня отец в Москве, и я его не видел восемь лет.
Вот была новость для него! Он просто проглотил язык, и даже лицо у него побледнело. С этой минуты, я заметил, он перестал рассказывать про своего отца, точно он так же, как его любимый газ гелий, испарился в одну секунду. Он всё время говорил о матери, но тут-то я уж с ним мог посоперничать.
Мы разговаривали о матерях и вовсю расхваливали их, со стороны могло показаться, что мы их перехваливали.
Но разве мою мать можно перехвалить? Вот если бы мне сказали: теперь твоя мать будет вон та женщина, она знаменитый академик или чемпион мира по горнолыжному спорту, — я бы отказался. Ведь эти женщины никогда не отгадают моих мыслей и никогда не будут стирать бельё до полуночи, если я сделаю что-нибудь не так.
Глава 7
Когда мы приехали в Москву, оказалось, что поезда на Симферополь надо ждать целых восемь часов. И Наташа сказала, что мы пойдём на прогулку по Москве: поедем на Красную площадь, потом на Ленинские горы, а потом во Дворец пионеров. Но я уже ничего этого не слышал, у меня в груди затрепетало, а в голове запрыгало. Я был готов в ту же секунду броситься на поиски отца.
Мы вышли на вокзальную площадь. Это была большая круглая площадь, и по этой площади, как по гигантскому колесу, крутились сотни машин. А людей столько, что вообще не протолкнёшься, и у всех разные лица. И все они спешат, и никто не обращает друг на друга внимания.
— Ребята, — сказала Наташа. — Вот это и есть Москва. Имейте в виду, здесь легко потеряться. Поэтому возьмитесь за руки.
Ребята построились парами и взялись за руки, как малыши из детского сада. Видно, их всех напугал этот московский шум: потоки машин и троллейбусов и толпы людей.
Я тоже чувствовал себя не очень уверенно. Им-то что: они поедут на Красную площадь и во Дворец пионеров, а я должен один броситься навстречу этим автомобилям и людям. А людей в Москве, Гелий сказал, шесть миллионов.
Хорошо жить в совхозе: если у тебя какая-нибудь неприятность, знаешь, куда идти; если у тебя радость, тоже знаешь, куда идти. А тут — шесть миллионов, и все чужие.
Мы с Гелием стали в строй последними, чтобы мне удобнее было убегать. В руке я держал свою вазу.
— Ты почему не сдал вазу в камеру хранения? — спросила Наташа.
— Я боялся, что её там разобьют, — соврал я.
— А где же тот человек, которому ты привёз подарок?
— Почему-то не пришёл.
Я врал с трудом, обычно мне это даётся легче. Я даже иногда нахожу в этом удовольствие, ну вроде чувствуешь себя прямо артистом, когда ловко соврёшь учителю или сочинишь какую-нибудь историю для ребят. А сейчас мне было неудобно врать. Может быть, потому, что рядом стоял Гелий, и он знал правду, и осуждал меня за враньё, и только из солидарности молчал. И ещё эта Наташа: хороших людей всегда труднее обманывать.
— Ничего, — сказала Наташа. — Не волнуйся, он придёт к поезду.
— А я и не волнуюсь, — ответил я.
Наташа прошла вперёд, и мы направились в метро.
— Пора, — тихо сказал Гелий. Он снова побледнел, как тогда в поезде, во время моего рассказа об отце.
Я поставил вазу на тротуар и наклонился, точно мне было остро необходимо перевязать шнурок на туфлях. Решил, буду завязывать, пока они не скроются в метро. Но мне пришлось тут же вскочить, потому что какой-то мужчина чуть не сбил мою вазу. Я еле успел её подхватить, а он обругал меня ещё размазнёй. А потом я пошёл в противоположную сторону…
У меня было три рубля. Целое состояние. Это я понял, когда подошёл к продавщице мороженого и приценился к московским ценам. Там было мороженое в бумажных стаканчиках, которое стоило семь копеек. Я подсчитал, что смогу купить сорок три порции такого мороженого. Сорок три стаканчика — это ли не богатство? Можно было бы накормить весь наш класс, и ещё осталось бы матери и Шерстнёву. Но я не имел права сейчас тратиться. Неизвестно, что ждало меня впереди.
Ух, до чего у меня пересохло во рту, точно я пересек пустыню Сахару и не пил десять дней! А я всего-навсего перешёл вокзальную площадь.
Это, правда, тоже не такое лёгкое испытание. Во-первых, я тут рисковал жизнью не меньше, чем отец Гелия во время опытов, потому что московские шофёры совсем не обращают внимания на людей. Катят прямо на них, а сами прохожие тоже норовят попасть под машину. Я просто очумел от всего этого. А во-вторых, у меня Наташа не выходила из головы.
Честно говоря, я согласился бы в одиночку пересечь Сахару или полжизни не есть мороженого, но чтобы мне не нужно было обманывать Наташу и чтобы мой отец жил вместе с нами. А я сейчас с ребятами в своё удовольствие гулял бы по Москве.
Может быть, тогда бы я даже отвык от своих дурацких привычек: не приклеивал никому обидные прозвища и не считал бы про себя телеграфные столбы, окна в домах и прочую ерунду. Может быть, тогда у меня в голове было бы пусто и легко, как бывает иногда по утрам, когда я забываю про все неприятности?..
Я подошёл к троллейбусной остановке и сел в первый троллейбус. Надо было как можно быстрее уехать подальше, чтобы Наташа не спохватилась и не подняла тревогу.
При современной технике меня могли выловить на площади в одну секунду. Объявят, например, по вокзальному радио, что пропал мальчик двенадцати лет, и опишут приметы, и какой-нибудь сознательный гражданин обязательно меня подцепит. Это точно, и я об этом читал в газетах. Нет, меня не так-то легко провести, хотя я и не москвич.
Москвичи думают, что они самые хитрые и умные, но мы на целине тоже в курсе всех событий. И про объявления по радио знаем, и про то, что в одну минуту по фототелетайпу могут передать мою фотографию во все отделения милиции, а через час она будет в руках у каждого постового милиционера. Это я тоже знаю.
В троллейбусе кондуктора не было. Каждый бросал монету в кассу-копилку и отрывал билет. Я бы тоже бросил монету и оторвал билет, но у меня ведь было три рубля. Постоял, посмотрел, неизвестно, что делать, а потом сел у окна. Поставил вазу на колени и сижу. Смотрю по сторонам. Даже немного успокоился.
— Мальчик, твой билет?
Я поднял голову и увидел перед собой женщину. Тут мне так и ударило — билет-то я не купил.
Все в троллейбусе сразу стали смотреть в нашу сторону. Можно было выкрутиться и сказать, что я выронил билет в окно, но я почему-то ответил:
— У меня нет билета.
— Может быть, тебе ещё нет семи лет? — елейным голосом спросила контролёр.
Она явно хотела меня унизить.
— Нет, что вы, — сказал я. — Мне двенадцать, по-моему, я не такой уж маленький.
— Современная молодежь! — сказала какая-то старуха. — Ни стыда у них, ни совести. А ещё пионер. Соврал бы что-нибудь для приличия.
— А зачем мне врать? — сказал я.
А сам начал лихорадочно думать, как выпутаться из этой истории. Сейчас бы надо было всех разжалобить, заплакать, что ли. Это всегда действует на людей, но я не любил унижаться.
— Вот и мои внуки так же, — сказала старуха. — Говорю им: сходите за хлебом, а они — «неохота». Сказали бы: у нас срочное дело, а то «неохота». Никакого уважения.
— А вот мы его сейчас за воротник да в милицию! — сказала контролёр.
— За что? — спросил я.
— За то самое, там разберутся.
— Просто я привык ездить без билета, — сказал я.
— Ах, он привык ездить без билета! Приятная откровенность, — сказала контролёр. — Да ещё с багажом.
— Какой же это багаж! — возмутился я. — Обыкновенная глиняная ваза. Я её в подарок везу.
— В чём дело, товарищи? — раздался чей-то бас. — Почему не проходите?
— Безбилетника поймали. Мальчишку.
— Воришку? — откликнулся бас. — В милицию его.
— Тихо, тихо, — сказал старик, который сидел рядом со мной. — На мальчишку все готовы орать, а вот если бы тут стоял взрослый бандит, вы бы живо кулаки спрятали в карманы.
— Ну, знаете, только не я, — ответил бас. — Товарищи, разрешите пройти! Разрешите.
Перед нами появился толстый маленький мужчина.
— Где здесь правонарушитель? — спросил он.
— Это я, — ответил я. — Только я не виноват. Просто привык ездить без билета. У нас автобусы бесплатные.
— Где это у вас? — снова спросил толстяк.
— Алтайский край, совхоз «Новый».
— Силён заливать. Из коммунизма притопал, что ли? — засмеялся старик, который сидел рядом со мной. — А еда у вас тоже бесплатная?
— Нет, — ответил я.
— Ну, хватит веселить публику, — сказала контролёр. — Пошли в милицию. Там составят протокол и сообщат куда надо по всем правилам.
— Никуда не пойду! — сказал я. — Я правду говорю.
— Однако каков хулиган! — крикнул толстяк. — Вырастет, будет бандитом. Определённо…
— Тихо, тихо! — перебил его старик. — Это уже слишком.
— Честное слово, дяденьки, я говорю правду! — закричал я.
Я посмотрел на их лица: на старика, на толстяка, у которого от возбуждения нос покрылся капельками пота, на старуху, которая рассказывала про внуков. Ещё в троллейбусе сидели молодой парень с девушкой — но, по-моему, они ничего не слышали и не видели — и пожилая женщина, похожая на артистку.
Я смотрел на них и думал: ну как объяснишь этим чужим людям, если они ничего не хотят знать! Им что, они придут домой, и всё у них дома в порядке, а наша семья разбросана на два конца.
— Честное слово, я из совхоза. Честное слово! Вот, пожалуйста, у меня есть деньги, я сейчас куплю билет.
— Скажи-ка, три рубля! — пропела старуха. — Не иначе, стащил у родителей.
— Почему обязательно стащил? — сказала женщина, похожая на артистку. — Как вам не стыдно!
— Вы меня не стыдите, — ответила старуха. — Ишь какая! Нацепила шляпку и думает, что умнее всех.
— Тётя, — сказал я, — но вы-то мне верите, что я не безбилетник?
— Конечно, верю, — ответила женщина.
— Ну ладно, — сказала контролёр. — Плати штраф пятьдесят копеек, и делу конец.
Я нехотя подал три рубля. Пятьдесят копеек ни за что ни про что — это было просто возмутительно. Но в милицию я тоже не мог идти, не было у меня времени бороться за справедливость. И потом, легко сказать — в милицию: они там сразу во всём разберутся. Могут сообщить в совхоз или в Артек — и возникнет «международный скандал».
— Возьмите, — сказал я. — Денег мне не жалко, только это несправедливо.
— Ладно, ладно, — ответила контролёр. — Теперь будешь внимательней.
Она взяла у меня три рубля и стала рыться в карманах, чтобы сдать сдачу. В это время троллейбус остановился, и женщина, похожая на артистку, вышла.
Из кабины выскочил водитель, молодой парень, очень похожий на наших совхозных трактористов.
— Граждане, прекратите базар! — крикнул он. — Ну, чего вы ругаетесь?
— Безбилетников возите, — сказал толстяк. — Народную копейку не бережёте.
— Кто здесь безбилетник? — спросил водитель. — Ты?
— Да, — ответил я.
— Штрафуете? — спросил он у контролёра.
— Штрафую, — ответила она.
Он внимательно посмотрел на меня.
Пока я тут ворочался, вскакивал и садился, разорвалась обёртка на вазе. И теперь из обёртки выглядывал чёрный глаз жёлтого петуха.
— Братишке? — спросил водитель.
— Нет, — ответил я. — Отцу.
— Тоже неплохо, — сказал водитель. — Весёлый петушок!
Вдруг он выхватил три рубля из рук контролёра, сунул их мне и подтолкнул к двери. А я, вместо того чтобы бежать, стал упираться. Совсем обалдел.
— Иди, иди, — сказал водитель. — И больше не попадайся. Это пиратство — брать с мальчишки пятьдесят копеек.
— Я на вас акт составлю! — закричала контролёр.
Но тут-то я опомнился и выскочил из троллейбуса.
А троллейбус тронулся. Когда он проезжал мимо меня, я увидел, как толстяк и старуха открывали и закрывали рты. Они были похожи на рыб в аквариуме.
Глава 8
Всё окончилось хорошо, и я даже волноваться стал меньше. Иду, смотрю по сторонам. Неплохой всё же городок Москва. Машин много, это по мне. Придётся попросить отца, чтобы повозил по городу. А то вернусь в совхоз, ребята — ко мне, а я ничего не видел. И тут меня окликнула женщина, та самая, которая защищала в троллейбусе.
— Отпустили?
— Водитель заступился, даже штраф не взяли. Он сказал, это пиратство — брать с меня пятьдесят копеек.
— Я с ним согласна, — сказала женщина. — Если меня когда-нибудь выберут председателем Моссовета, я разрешу всем детям ездить в троллейбусах бесплатно. — Она на минуту задумалась. — Нет, не всем. Тогда они будут целыми днями раскатывать. Отличникам, да, отличникам. Им надо придумать значки, чтобы все знали: вот идёт отличник. И везде ему вход бесплатный: в троллейбус, в метро и даже в научно-популярное кино.
Вот это была идея! Я понял, что передо мной необыкновенная женщина. Здесь надо было действовать решительно.
— Знаете что, — сказал я, — приезжайте к нам в совхоз. Вам там понравится. У нас здорово! Шерстнёв вам руки будет целовать.
— Прости, прости, — сказала она неожиданно басом. — Кто такой Шерстнёв и почему он будет мне целовать руки? Он мне не муж и не жених. Я его имя слышу первый раз.
— Это директор нашего совхоза, — сказал я. — Совсем забыл, что вы его не знаете. У него такая поговорка. Если ему кто-нибудь по душе, он всегда говорит: «Передай ему — приеду, руки у него буду целовать». Ну, это вроде самого большого спасибо.
— Любопытный ваш Шерстнёв.
— Очень. Он у нас придумал закон: каждый, кто уезжает на запад, должен обязательно привезти с собой новенького.
— Ах, вот как! А ты, значит, меня наметил жертвой?
— Вас, — ответил я.
— Мило и неожиданно, — сказала она. — Чем же я тебе понравилась?
— У нас в совхозе нет ни одной такой, как вы.
— Выходит, я вроде ихтиозавра или носорога буду у вас в совхозе? Ты меня будешь демонстрировать в клетке?
— Нет, зачем же, — ответил я. — Вы будете работать. Чем вы занимаетесь?
— Преподаю немецкий язык.
— Шпрехен зи дейч? — обрадовался я.
— Умоляю, больше ни слова! — застонала она. — У тебя варварское произношение.
— Хорошо, — охотно согласился я. — Не буду. У нас в школе с немецким языком очень плохо. Ведь смех и грех, у нас немецкий преподаёт учитель физкультуры. По совместительству. Он служил в армии в Германии и вот преподаёт немецкий язык.
— Ты это серьёзно?
— Да, — тихо ответил я. — Вы же испугались моего произношения. Но я лучший в классе, а другие, они думают, что «презенс» — это прошедшее время… Вспомнить страшно!
— Возмутительно! — сказала женщина. — А что смотрит районо, облоно?
— Не знаю, — сказал я. — Вероятно, они оторвались от народа.
— Ну-ка, ну-ка, дай мне адрес твоего совхоза. Физкультурник преподаёт немецкий язык!
Она вытащила маленькую книжку и записала с моих слов адрес нашего совхоза, моё имя и фамилию.
— Ты не волнуйся, я не буду упоминать твоё имя, чтобы у тебя не было осложнений в школе.
— А я не боюсь, — ответил я. — Я принципиальный.
— Вот как! — сказала женщина. — Интересно, какая будет жизнь, когда вы будете управлять страной?
— Прежде всего у нас будут работать все автоматы с газированной водой — это раз. А то, вы подумайте, из ста автоматов, из которых я хотел напиться воды, восемьдесят пять не работают.
— Правильно, — сказала женщина. — С маленького начинается большое. А собственно, куда ты держишь путь, милый Сева?
— В Артек.
— А сейчас?
— Ищу Хомутовский тупик.
— Э, братец, тебе в другую сторону.
— Знаю, — ответил я. — Только я решил вас немного проводить.
— Отчаянные родители, — сказала женщина. — Такого маленького мальчика пускают гулять по незнакомой Москве.
— У нас в степи заблудиться опаснее, чем здесь, — ответил я. — Тут вон сколько людей, а там пустота. А ночью все эти фонари горят?
— Горят, — сказала она.
— А у нас ночью ни одного фонаря. — Я подумал, что проговорился и теперь уж ни за что не уговорить её приехать к нам в совхоз, и добавил: в степи темнота, а в посёлке лампочки дневного света. — Хотел ещё сказать, что их включают только по большим праздникам, и снова вовремя остановился.
Вообще ведь со взрослыми надо осторожнее: они придирчивы к мелочам. Очень для них важно, чтобы была уютная квартира, и чтобы хорошая постель, и обязательно завтрак и обед по расписанию. У нас, например, был такой случай. Приехал в школу новый учитель, побыл неделю, и след его простыл. Оказывается, он уехал из-за туалета! Школьный туалет у нас на улице, поэтому он уехал.
— А ещё, ещё у нас… — Я никак не мог придумать, чем бы её сразить.
— Не уговаривай, у меня в Москве муж и двое детей, — сказала женщина. — А в министерство я обязательно зайду. До свидания.
— Жалко, что отказываетесь, — сказал я. — У нас бы для всех нашлось дело — и для вашего мужа, и для ваших детей.
Потом мы разошлись. На душе у меня было спокойно. Жалко, конечно, что я не уговорил эту женщину приехать к нам. Это была бы победа, если бы она со всей семьёй прикатила в совхоз; интересно, что тогда про меня сказал бы Шерстнёв?
А у «Богини Саваофы» вот бы вытянулось лицо. А то она считает, что совершила героический поступок, приехав на целину. Самый настоящий героический поступок, ну вроде впрыгнула на ходу в горящий поезд и спасла десять грудных детей, которые вот-вот должны были сгореть в этом пламени.
А тут приезжает целая семья; и никакого геройства в этом не видят… Да, геройство. Как же! У нас в школе три учителя немецкого языка. Одного прислали из Барнаула. Одну привезли трактористы, когда ездили на выставку в Москву. А следом за ней приехал ещё один: как выяснилось, её бывший однокурсник.
Он хотел работать именно в нашей школе, и баста. Директор сначала не соглашался его оставлять, а потом почему-то оставил. Именно он и преподавал физкультуру.
Я успокоил себя, что не очень-то соврал, сказал только наоборот, что у нас физкультурник преподаёт немецкий, а нужно было сказать, что «немец» преподаёт физкультуру. Да ещё такой свирепый: все команды отдаёт по-немецки. «Лёйф!» — кричит он. А я: «Что такое?» Притворяюсь, что не расслышал его команды. А он: «Шприх дейч!» Значит, говори по-немецки. А я: «Вас ист дас?» У меня из-за этого на физкультуре всё не так получается. Он приказывает: «Ложись!», а я стою. Он говорит: «Бегом!», а я иду шагом. Раньше для меня физкультура была отдыхом, а теперь я даже не понимал: не то я на уроке физкультуры, не то на уроке немецкого.
Глава 9
Целых двадцать минут я стоял на углу Хомутовского тупика. Ноги у меня тряслись от страха, и руки тоже тряслись: чуть не уронил вазу. Казалось, стоит мне войти в этот Хомутовский тупик, как я сразу столкнусь с отцом.
Я думал, что буду искать тупик ну хотя бы два часа, а он вот, передо мной: маленькая, совсем не московская улочка в старых домах, изогнутая змейкой. Я помнил адрес на память: дом пятнадцать, квартира шесть.
Сколько раз я представлял, как приду к отцу и скажу: «Ну, хватит! Не знаю там, что у вас с мамой случилось, но тебе пора возвращаться. А то что же получается? На весь наш класс я один без отца. А «Богиня Саваофа» даже крикнула мне: «Безотцовщина!» Как, по-твоему, хорошо это?» — «А за что она тебе это крикнула? Небось нахулиганил?» — спросит он. «Может, и нахулиганил, я не отказываюсь. Приедешь — и разберёшься. Если надо, можешь меня наказать, я не возражаю».
«Эх, — подумал я. — Скандал теперь будет. Наташа, видно, уже спохватилась, и началась паника, а я тут стою, точно присох к месту».
Я вошёл в этот несчастный тупик и стал искать дом пятнадцать. Прошёл раз: нет дома пятнадцать. Прошёл второй раз: снова нет. Дом тринадцать, потом небольшой сквер, а потом сразу дом семнадцать.
В сквере на скамейке сидел старик и читал газету. Я сел рядом. Старик посмотрел на меня, и я сказал просто так, неизвестно кому:
— Странная улица: дом тринадцать, а потом сразу семнадцать.
— М-да… — промычал старик. — Сейчас много странного. Вот, к примеру, я вчера прочёл в журнале, что профессор Чумаков испытал действие лекарства против полиомиелита на себе. Страшная болезнь, при ней ноги отнимаются. Он двойную порцию этой вакцины принял, жизнью рисковал. Вот это странно, удивительно и достойно восхищения. А то, что нет дома пятнадцать, в этом ничего странного нет.
— А по-моему, странно, — сказал я.
— Дом этот снесли, — сказал старик. — Старый был, ветхий. Его построили после наполеоновского пожара. В тысяча восемьсот тринадцатом году! Значит, стукнуло ему сто пятьдесят лет. Его и снесли. Скоро всю нашу улицу снесут, и не будет Хомутовского тупика. А то ведь какое унизительное название придумали: «Хомутовский тупик!» А ты сам где живёшь?
— Далеко, я приезжий, — ответил я.
— Ах, ты приезжий! Для тебя здесь много интересного. Видал, как Москва строится?
— У нас в совхозе тоже строятся.
— Что ты, что ты! Сравнил! — сказал старик. — Масштабы не те.
— А где же все жители дома пятнадцать?
— Переехали в новые дома. Одни — в Измайлово, другие — в Мазилово, третьи — на Ленинские горы.
— А как же теперь быть? — спросил я. — У меня в этом доме жил знакомый. Мне необходимо его повидать.
— Очень просто, — ответил старик. — Выйдешь на большую улицу, найдёшь справочное бюро и узнаешь.
Я вышел на большую улицу и нашёл справочное. Перед окошком справочного стояла женщина, и в справочном сидела женщина. Они разговаривали на посторонние темы, это было сразу ясно. У нас в совхозе женщины тоже любили поговорить, но они всегда говорили о важных делах: о том, какой намечается урожай, о своих детях, о новых людях в совхозе, о том, чей муж хороший, а чей плохой. А эти разговаривали о танцах — чего только не придумают москвичи! — про какое-то «па-де-де» и про какую-то «польку через ножку». Ну прямо как наши девчонки.
Мне надоело их слушать, я спешил, а они — «па-де-де», и я сказал:
— Скоро у вас кончится перерыв?
Они замолчали, и та, что стояла рядом со мной, сказала: «Извините», и мелким-мелким шагом, как-то смешно ставя ноги, почти побежала по тротуару. А та, что сидела в справочном, посмотрела на меня, как «Богиня Саваофа», поджала губы и прищурила глаза, выпустила в меня электрический заряд силой в несколько ампер.
Я сказал ей, что мне надо, и она начала приставать: где он родился, когда родился, где жил последнее время. В общем, ясно, что нарочно придиралась. Хотела отомстить, что прервал разговор. Смешно, когда люди злятся, а тебе хоть бы что.
— Ах, какая персона! — сказала она. — Персона грата без пяти минут.
Я не знал, что такое персона грата, но на всякий случай сказал:
— А вы меня не оскорбляйте.
— Если не знаешь, что значит «персона грата», лучше помолчи, — сказала она.
— Я спешу. — И добавил: — Я приезжий.
— Ну и что же? Это не даёт тебе права врываться в чужой разговор. Все спешат. И, между прочим, у каждого человека есть своя жизнь. Об этом всегда надо помнить. Женщина, которую ты сейчас прогнал, да, да, прогнал, я не боюсь резких слов, — нежнейшее существо, героиня! Она была балериной, и какой!
— Я не хотел её обидеть, — сказал я. — Просто у меня сегодня тяжёлый день.
— Вот-вот, я же говорю, ты эгоист! В первую очередь думаешь о себе. Она сняла трубку телефона и стала передавать всё об отце: и фамилию, и когда родился, и где жил последнее время. Выходит, она ко мне не придиралась, когда всё выспрашивала. Потом она подняла глаза, в них не было уже никаких электрических зарядов, и сказала: — Придёшь через двадцать минут.
Я отошёл в сторону и подумал: «Неплохо бы сейчас догнать балерину и вернуть её обратно. Пусть себе поговорят ещё немного, раз у них свободное время, раз им так интересно разговаривать про свои танцы». Потом посмотрел на толпы людей, шагающих по тротуару, и понял, что мне уже никогда её не найти. Стало как-то не по себе. Появился перед тобой человек и пропал. Ты его больше никогда не увидишь, и он, может быть, тебя не запомнил. А ты его запомнил, и тебе неприятно, что ты с ним плохо обошёлся.
Да, хорошо бы найти балерину, но разве в этой толпе кого-нибудь разыщешь? Здесь люди перед тобой пролетают, как падающие звёзды в небе. Мелькнут и пропадут навсегда. И мне вдруг стало не по себе. Показалось, что никогда не найти в этом чужом и громадном городе отца. Наскочил на меня страх. Вернуться бы к ребятам, и сразу всё стало бы просто и легко, и через какие-нибудь шесть часов я сидел бы в поезде и катил в Артек.
Ну нет, этого сделать я не мог, хоть убей, хоть разорви на мелкие кусочки, чтобы я отступил от своего. Вспомнил мать, вспомнил длинные зимние вечера, когда мы сидели вдвоём и она вдруг просто переставала разговаривать. Думала о чём-то своём и не разговаривала. А я тогда изо всех сил старался её развлечь и выдумывал для неё смешные истории и выполнял в одну секунду её приказы.
Решил вернуться к старику на сквер. Но старика уже не было. На самом краешке скамейки спиной ко мне сидела девушка. Я поставил вазу на скамейку и сел рядом.
— Здесь был старик, — сказал я. — Вы не видели, куда он ушёл?
— Не видела. — Она явно была не расположена к разговору.
— Жалко, — сказал я. — Интересный человек. Я хотел его к нам на целину пригласить.
— А ты что, с целины?
— Да. Из совхоза «Новый». У нас знаете какой совхоз? Лучший в республике. Нет, пожалуй, первый во всём Советском Союзе.
— Так уж и первый? — не поверила девушка.
— Конечно, первый. Вот я сегодня ехал в троллейбусе, и меня контролёр хотел отвести в милицию за то, что я был без билета. А почему я был без билета? Потому что у нас автобусы бесплатные. По привычке не взял билет.
— А что ещё удивительного в вашем совхозе?
— Разве всё сразу вспомнишь, — сказал я, а сам потихоньку, незаметно скосил на неё глаза: надо было решить, стоит ли на неё тратить порох. — Вы не немка?
— Почему немка? — удивилась девушка.
— Нет, я понимаю, что вы русская, но вы не учительница немецкого языка?
— Я врач, — сказала девушка.
— Вот здорово! — закричал я. — Нам знаете как врачи нужны? Позарез! — Неплохо бы её уговорить, очень неплохо. — У нас женщины нарасхват, сказал я. — Только приедут, сразу замуж выходят. Мужчин у нас много: трактористы, строители.
— А мне на мужчин наплевать.
— Каждую субботу в клубе танцы, — продолжал я. — Под радиолу.
Нет, танцы на неё тоже не подействовали. Удивительно, до чего трудно угодить человеку: одному подавай одно, другому совсем другое. Одни девчонки дня прожить не могут без танцев, прямо млеют от музыки, а другие презирают.
— Самое главное, — сказал я, — работать там, где ты нужен людям.
— Ты просто агитатор, — сказала девушка.
— Это не я, это наш директор так говорит. Он вам руки будет целовать, когда приедете.
— Куда это ты собралась ехать? — услышал я незнакомый голос.
Позади скамейки стоял мужчина. Молодой, высокий, ну прямо артист или спортсмен. Нетрудно было догадаться, кто это. Здесь уж ничего не скажешь, здесь надо молчать.
— Уезжаю в совхоз на целину, — сказала девушка.
— Ну, брось сердиться, — сказал мужчина. — Я взял билеты в кино.
— Пойдёшь один, — ответила девушка. — А мне надо собираться в дорогу.
Я подумал, что она шутит, но посмотрел ей в лицо и увидел, что она совсем не шутит. Глаза у неё вдруг стали узкие и злые. Не люблю я, когда люди ссорятся. Конечно, приятно, если бы она поехала к нам в совхоз: и Шерстнёв был бы рад, и все бы на каждом углу говорили, что Севка Щеглов привёз «врачиху», но всё равно я не любил, когда ссорились.
— А знаете что, — предложил я мужчине, — поезжайте вы к нам тоже. У нас для всех найдётся работа.
Он резко повернулся в мою сторону:
— Слушай, не лезь не в своё дело. И вообще катись отсюда подальше, пока не схватил по шее!
Я повернулся и пошёл. Потом вспомнил, что забыл вазу, и вернулся. Спокойно подошёл, взял вазу. Нарочно медленно так её брал, чтобы он не думал, что я испугался.
Плевать мне было на его угрозы — подумаешь, по шее! Легче всего дать другому по шее, если у тебя такой рост и такие длинные руки. Это не большая хитрость. Но только мне было обидно: думал, что девушка заступится за меня, а она даже бровью не повела. Не понимаю я таких людей, просто не понимаю. Хорошо, что она не приедет к нам в совхоз. Вот если бы меня кто-нибудь так обидел при Шерстнёве, он бы в обиду меня не дал.
Взял вазу и пошёл, потихоньку так пошёл. Думал, ну вдруг она окликнет меня и скажет: «Прости, парень, за грубость». Но никто меня не окликнул. На углу я оглянулся. Они уходили в противоположном направлении. И разговаривали и даже смеялись.
Я подождал, пока они отошли подальше, и крикнул:
— Мы ещё с вами встретимся… Вот я приведу отца…
Эх, жалко, что я не знал его имя, а то бы ославил на всю страну. Везде бы рассказывал, какой он «герой». Размахался руками. Потом я начал представлять себе, как встречу отца, пойду с ним гулять и случайно приведу сюда, а на этой скамейке будут сидеть и чирикать эти двое. Тогда-то он сразу станет повежливее: увидит отца и спрячет свои длинные руки. А я скажу: «Не трогай его, отец, видишь, у него губы дрожат от страха».
Самое главное — найти отца. Это было самое-самое главное. Тогда бы я успокоился, а то сейчас я совсем растерялся. Может быть, если бы я был девчонкой, я бы даже заплакал.
Глава 10
Прямо на меня из-за угла выскочила «Волга». Неизвестно, как я очутился на середине улицы. Я прыгнул в сторону, и машина повернула в ту же сторону. А в следующий момент она ударилась крылом о столб. Из машины выскочил шофёр и стал кричать диким голосом, что мне нужно оторвать уши, выпороть ремнём, обзывал дураком. Кричал, что из-за таких, как я, честные люди могут угодить в тюрьму.
Ну что он так кричит, точно я нарочно прыгнул под машину?
Вокруг нас собралась небольшая толпа. Только что во всём переулке не было ни одного человека, а тут, на тебе, уже стояла толпа.
Шофёр влез в машину и завёл мотор, а я потихоньку пошёл дальше. Честно говоря, я не прочь был пуститься бежать, чтобы поскорее скрыться из этого несчастного тупика. Но я боялся, что они тогда подумают, что я струсил.
И вдруг слышу — меня нагоняет машина. А я иду своей дорогой, делаю вид, что всё это ко мне не имеет никакого отношения. Губами шевелю, вроде песенку пою. А машина медленно едет рядом. Шофёр опустил боковое стекло и высунул голову.
— Ну, хватит притворяться! — У него было большое мрачное лицо и громкий голос. — Лучше полюбуйся на свою работёнку.
Я посмотрел: на переднем крыле была сильная вмятина. Краска в этом месте облупилась, и виднелось ржавое железо.
— Три годика проездил без единой аварии, — сказал шофёр. — А теперь влип. На двадцатку ты меня нагрел.
Я молча шёл рядом, от машины ведь не убежишь.
Наконец он отстал от меня, остановился, вылез из машины и стал снова рассматривать вмятину на крыле. А я пошёл дальше.
— Эй, малый! — крикнул шофёр. — Постой!
Я пошёл быстрее. Слышу, он догоняет меня. Тогда я припустил бегом, но не прошло и десяти секунд, как он схватил меня за шиворот.
— Легко ты решил отделаться! — крикнул он. — Я тебе покажу, я тебя проучу!
— Не имеете права! — крикнул я. Это было унизительно, он тащил меня за шиворот, точно я какой-то бандит.
— Ничего, ничего. Сейчас подъедем к твоим родителям, с них я получу денежки. — Он втолкнул меня в машину. — Где живёшь? — спросил он. — И не вздумай врать, а то я сейчас включу счётчик, и мы покатим за твой счёт. Ему понравилась эта идея, и он даже издал звук, что-то вроде смеха. — Ты тогда можешь весь день петлять, а домой меня приведёшь.
— Я живу не в Москве, — сказал я.
— А где же?
— На целине, в Алтайском крае.
— Ври, ври, да не завирай. Ишь, хитрая бестия, как ловко вывернулся. На патриотизме хочешь сыграть: целинник, хлебопашец, наш кормилец, мол, придётся тебе, дорогой дядя, меня простить.
— Честное слово, — сказал я. — Честное пионерское под салютом.
— Под салютом, говоришь? А что же ты делаешь в Москве, с кем ты приехал?
— Я проездом, еду в Артек.
— В Артек?
— Да. Знаете? Всесоюзный пионерский лагерь Артек.
— Я-то знаю, — ответил он. — Что же, ты едешь в Артек один?
— Нет, у нас целый отряд. И вожатая Наташа. Уезжаем в десять часов вечера, — сказал я. — А сейчас иду по личным делам.
Мы помолчали.
— Да, выходит, все же ты нагрел меня на двадцатку.
— У меня только три рубля. — Я вытащил три рубля и показал ему.
— Ну что ж, давай твои три рубля. — Он взял у меня деньги и положил в карман. — А теперь вываливайся и считай, что легко отделался.
Я открыл дверцу машины, взял вазу и вылез. Что теперь делать, неизвестно. Денег ни копейки, а мне надо доехать до новой квартиры отца, а потом добраться до Курского вокзала.
Нечего сказать, распорядился я деньгами: два рубля вбухал в вазу, а три рубля забрал шофёр. А ещё директор школы говорил: «Счастливый Щеглов!» Со стороны все счастливые. А где он, этот счастливый Щеглов, что-то его не видно. Может быть, наш директор счастливее меня, хотя он и оторвался от народа. Ему что, научится запоминать фамилии, и дело в шляпе. А мне теперь просто неизвестно, что делать.
Не успел я дойти до конца переулка, как шофёр снова догнал меня.
— Эй, путешественник, как там тебя? — крикнул он.
— Севка.
— Ну, так вот, Севка, три рубля маловато. У меня семья, детишки, им на лето надо дачу снимать.
— У меня больше нет. — Видно, он был здоровый жадюга. Ну конечно, я виноват, но я ему честно сказал, что у меня нет больше денег, а он не верит. — Вот только эта ваза. — Я показал ему на вазу.
— Ваза ничего. — Он посмотрел на моих петухов. Взял в руки и повертел: сначала на одного петуха посмотрел, потом на другого. — Для ребятишек ничего.
— Я не могу вам её отдать, — сказал я. — Везу в подарок одному человеку. — Взял вазу за край и потянул к себе. Он всё ещё не выпускал её из рук.
— Какому человеку? — спросил он.
— Чужому, просили передать, — ответил я.
Не хватало только, чтобы я приехал к отцу на этой разбитой машине.
— Вот что. — Он выпустил вазу из рук. — Садись-ка в машину. Поедем в гараж, там ты всё чин чином расскажешь нашему завгару, и он — официальное письмецо твоим родителям. А они нам — денежки.
— Пожалуйста, — сказал я. — Готов поехать к вашему завгару. Мне только надо выйти на углу, чтобы взять адрес в справочном.
Шофёр подозрительно посмотрел на меня, но на углу остановился.
— Вазу оставь, — сказал он.
Я ничего ему не ответил, раз он так унижается и трясётся из-за этих несчастных денег. Если бы у меня сейчас были деньги, к примеру сто рублей, я бы ему сразу отдал. Я бы ему тысячу рублей отдал, пусть радуется. И я стал думать, как я заработаю много-много денег и всё буду присылать, присылать ему эти деньги, пока он сам не откажется от них.
Подошёл к справочному и постучал в окошко.
— Вот твоя справка, — сказала женщина из справочного. У неё в руке была полоска бумаги. — Плати пять копеек.
Это для меня было как взрыв атомной бомбы. Она держала в руках тоненькую, почти папиросную бумажку с адресом моего отца, но я не мог её получить. У меня не было пяти копеек. Какие-то несчастные пять копеек, одна круглая монета, а где её взять?
— У меня нет денег, — сказал я.
— А зачем жы ты заказывал справку? — спросила она.
Я мог бы ей сказать, что у меня были деньги, когда я заказывал справку, а за эти двадцать минут я остался без денег. Мог бы рассказать про шофёра и про свои три рубля, но мне надоело унижаться и просить. Я стоял и молчал, понимал, что она сейчас разорвёт мою справку, а всё равно молчал.
— Возьми, — сказала она и протянула справку. — На проспект Вернадского надо ехать на метро до станции «Университет».
…На бумажке было написано: «Щеглов Михаил Иванович, 1930 года, проспект Вернадского, 16, подъезд 8, кв. 185». Я спрятал бумажку с адресом и вернулся в машину. Там уже сидел какой-то мужчина.
— Теряю из-за тебя время, — сказал шофёр.
Он крутнул ручку счётчика, машина тронулась, на счётчике стали быстро меняться цифры.
Все молчали. Я видел в шофёрское зеркальце лицо мужчины. Он надел большие роговые очки, достал из толстого портфеля газету и стал читать.
— Придётся ехать переулками, — сказал шофёр. — А то милиционер может задержать за аварийный вид. Всё из-за этого героя.
Мужчина оторвался от газеты. Теперь я увидел, что он читал газету «Советский спорт».
— Приехали, — сказал он. — Вот, вот около этого подъезда. — Ему трудно было выходить из машины. — А этого героя ремешком бы, ремешком.
Шофёр посчитал мелочь, которую ему уплатил этот пассажир, и сказал:
— Солидный человек. А то другой жмётся, считает, считает, копейка в копейку платит. А я думаю так: раз нет лишних денег, нечего лезть в такси.
— Это до революции воспитывали ремешком, — сказал я. И подумал: «Да, хорош ты гусь. Шерстнёв таких презирает».
Я теперь совсем почему-то перестал его бояться.
— Поехали, что ли, в ваш гараж, — сказал я. — У меня своих дел полно.
— Не хочется порожняком, — ответил он. — Может быть, подхватим какого-нибудь «чижика». А насчёт воспитания ремешком ты, пожалуй, прав. Нехороший этот метод, неправильный. У меня два сына, двойняшки; я их пальцем ни-ни. Убеждением действую.
Я промолчал, не хотелось с ним разговаривать.
— Свободно? — Перед машиной стоял высокий, худой мужчина. — Отвезёте на Сокол?
Он сел в машину и с интересом посмотрел на меня.
— Сынок? — спросил он.
— Какой там сынок! Этот парень меня наколол на двадцатку, — сказал шофёр. — Видели вмятину на левом крыле? Он виновник аварии. В гараж его везу, а там письмо напишут родителям, чтобы деньги прислали за аварию.
— А ты, парень, издалека? — спросил мужчина.
— С Алтая, — ответил я. — Мы в совхозе живём.
— Далековато. А родители в совхозе работают?
— Мать — зоотехник.
— А отец?
Я промолчал.
— А отец? — снова спросил он.
— Мы вдвоём живём, — ответил я.
Шофёр скосил на меня глаза, он первый раз скосил на меня глаза. До этого он не смотрел в мою сторону.
— Эх, отцы, отцы! — сказал мужчина. — Понятно, понятно.
Шофёр снова покосился.
— «Понятно, понятно»! — сказал шофёр со злостью. — Лучше скажите, где остановить машину.
— Вот здесь остановите, — сказал мужчина. Он вышел из машины. — Прошу на меня не кричать.
— Давай, давай шагай! — сказал шофёр.
Мужчина ушёл, а шофёр ещё долго что-то недовольно бубнил себе под нос.
— Ну, развернулись, — сказал он. — И в гараж.
В это время к машине подлетел паренёк лет двадцати.
— Шеф, — сказал паренёк, — подбрось на улицу Горького. Спешим.
Шофёр посмотрел на меня и сказал:
— Ну ладно.
— Сейчас, у нас здесь небольшая компания. — Он протяжно свистнул и закричал: — Ребята!
К машине подлетели ещё паренёк и девчонка, вроде Наташи. Худенькая, высокая, но только Наташа была не такая красивая.
— Полетели, шеф, — сказал первый паренёк. — Кафе «Космос». Гуляем. Представляете, спихнули физику. — Это он сказал нам.
— Когда он у тебя спросил, что такое «нормальный металл», — сказала девчонка, — я решила, ты сгорел.
— Это я? — удивился первый паренёк. — Да я эти «нормальные металлы», как орехи…
— А вчера что говорил? — спросил второй паренёк.
— Вспомнил про вчерашнее! — Он засмеялся. — Вперёд надо смотреть, вперёд!
— Мальчики, — сказала девчонка, — отвернитесь. Я приму божеский вид, а то я как общипанная курица.
Она достала из сумки расчёску и начала чесать волосы. Схватит пук волос и начинает остервенело чесать: сверху вниз, сверху вниз. Никогда не видел, чтобы так причёсывались. А потом она уложила волосы руками, и получилось даже хорошо. А потом достала карандашик и начала водить им около глаз.
— Ну, я готова, — сказала она.
— Блеск! — сказал первый паренёк.
И мне тоже очень понравилось. А второй паренёк мрачно заявил:
— Ничего не блеск. Нет, Ленка, из тебя явно не выйдет физик, ты очень интересуешься своей персоной.
— Выйдет. А Лиза Мейтнер? Все пишут, что она была красивой женщиной, модно одевалась и так далее, а сделала больше некоторых мужчин в ядерной физике.
— Синий чулок, — сказал первый паренёк. — Ты на него, Ленка, не обращай внимания.
Лена ничего не ответила, и они все трое замолчали. Видно было, что второй паренёк обиделся и не хотел начинать разговор. А первому молчать было трудно, он посмотрел на меня и подмигнул. А я ему улыбнулся: почему не улыбнуться хорошему человеку.
— Ты где живёшь? — спросил он меня.
— Далеко, — ответил я. — В Алтайском крае, на целине.
— Крепко, — сказал он. — Я в прошлом году тоже был на целине. Здорово поработал.
— Ты? — переспросил второй паренёк. — Леночка, ты слышала? А мы как будто не работали. Он, видите ли, поработал.
— Ладно вам, ребята, из-за ерунды… — сказала Лена.
Совершенно ясно было, что между ними назревал конфликт.
— А вы ещё поедете на целину? — спросил я.
— Может быть, поедем, — ответила Лена. — А что?
— Приезжайте к нам, — сказал я. — У нас совхоз первый на весь край. А директор, он вам руки целовать будет.
— Мальчики не любят, когда мне целует кто-нибудь руки, — сказала Лена.
— Он не целует, он только так всем говорит, кто хорошо работает. «Вы, — говорит он, — молодец, увижу, буду руки целовать».
— Это человек! — сказал первый паренёк. — А ты, между прочим, в кафе «Космос» был?
— Не был, — ответил я.
— Упущение, шеф, — сказал он шофёру. — Паренёк приехал с целины, а ты его даже не сводил в кафе «Космос». Там ведь мороженое знаменитое.
Видно, он принимал меня за родственника шофёра. Я промолчал, и шофёр промолчал. Почему-то не сказал свою любимую фразу: «Он виновник аварии, нагрел меня на двадцатку».
Мы подъехали к кафе, и они выскочили из машины.
— Шеф, у нас идея, — сказал первый паренёк. — Мы забираем твоего племянника в кафе.
— Нет, — запротестовал шофёр.
— Не волнуйтесь. Доставим домой в лучшем виде.
— У него дело поважнее, чем ваше мороженое, — сказал шофёр.
— Жаль, — сказал паренёк.
— Приезжайте к нам! — крикнул я.
Мне хотелось, чтобы мои слова услыхала Лена. Она засмеялась и помахала мне рукой.
— Ещё одна жертва твоей красоты, — почему-то сказал второй паренёк.
Я хотел вставить ещё какое-нибудь слово, но шофёр резко тронул машину вперёд.
— Ишь ты, добряки, — сказал шофёр. — Пожалели. Пожалел мужик волка… Жалостливые какие нашлись. Накрыл бы ты их на двадцатку, что бы они тогда запели?
— Но они ведь ничего не знали, — сказал я. — Просто они весёлые и добрые.
— А, замолчи ты! — крикнул он. — За чужой счёт все добрые.
— Скоро мы приедем в гараж? — спросил я. — Надоело мне!
— Подождёшь, невелика птица, — ответил шофёр.
Почему-то у него снова испортилось настроение.
Он резко свернул с улицы Горького в переулок, проехал немного и остановился.
— Пошли, — сказал он. — Надо съесть пару сосисок. Вазу возьми с собой.
— А можно, я посижу в машине? — попросил я.
— Нет, нельзя. Такие номера у нас не проходят.
Мы вошли в закусочную. Там было много народу, и вкусно пахло сосисками, и все стояли за высокими столиками и ели эти сосиски. По-моему, здесь были одни шофёры такси. Они громко разговаривали и смеялись.
— А, Фёдоров появился, — кивнул кто-то на моего шофёра. — Как дела?
— А… — отмахнулся Фёдоров.
— Опять недоволен, — сказал другой шофёр.
— Что это у тебя за адъютант с вазой? — крикнул первый шофёр.
— Машину из-за него раскокал, сам еле цел остался, — сказал Фёдоров.
Это он-то еле цел остался? Ну и силён привирать! Но я промолчал. Здесь все, конечно, были на его стороне.
Фёдоров пошёл к стойке за сосисками, а я остался стоять у столика.
— Эх, малыш, нехорошо. — Рядом со мной стоял мужчина. В одной руке он держал тарелку с тремя сосисками, а второй руки у него не было — пустой рукав от пиджака был засунут в карман. — Нехорошо у тебя вышло, малыш. Жизнью надо дорожить, особенно в мирное время.
Первый раз мне так сказали: «Жизнью надо дорожить». До сих пор все жалели машину или деньги, которые надо истратить на её ремонт. А этот однорукий вдруг пожалел меня.
Подошёл Фёдоров.
У него на тарелке возвышалась целая гора сосисок. Ну, штук десять.
— Привет, Фёдоров, — сказал однорукий. — Как пацаны?
— Ничего, растут. — Фёдоров улыбнулся. Видно, пацанов он своих любил: как заходил про них разговор, он даже в лице менялся.
Я стоял, а они ели свои сосиски. Фёдоров отправлял в рот сразу по целой. Мне так захотелось есть, что голова закружилась.
Однорукий посмотрел на меня, потом на Фёдорова, который уничтожал свои сосиски, и сказал:
— Эй, малыш, может быть, сделаешь одолжение ради компании? — Он кивнул на последнюю сосиску на своей тарелке.
Фёдоров перестал жевать. Он даже покраснел, честное слово. А я повернулся и вышел из закусочной. Не хотел я есть их сосиски.
Вышел на улицу и остановился около машины. Стою и смотрю на вмятину на крыле. А тут появился однорукий. В руках у него ломтик белого хлеба и сосиска.
— На, съешь, — сказал он.
Я сначала не хотел брать, и есть мне уже не хотелось. Я когда расстроюсь, у меня аппетит пропадает. Но неудобно было отказаться, взял хлеб и сосиску и начал есть.
— Ты сам откуда приехал? — спросил однорукий.
— С целины. — Надоело мне всем объяснять, откуда да зачем.
— Слыхал, мне Фёдоров рассказал, но я решил переспросить, — сказал он. — Ну, и как у вас виды на урожай?
Когда он спрашивал, то видно было, что он делает это не из вежливости и любопытства, а по-настоящему интересуется. Чем-то он был похож на Шерстнёва. И ростом намного ниже, и на лицо другой, а чем-то похож.
— Хорошие виды, — ответил я. — У нас в совхозе всегда хороший урожай… — Хотел добавить, что он может поехать к нам в совхоз, что для него и без руки найдётся там хорошая работа, но прямо так не скажешь. Я решил начать издалека: — Наш директор Николай Павлович Шерстнёв, так у него нет пальцев на одной ноге, и ничего, работает.
— Понятно, — ответил однорукий. — А вот с одной рукой шофёром не поработаешь. До войны я был мастером по автомобильному спорту. А теперь не то.
— Так я вот говорю: Шерстнёв наш вовсю работает. Приезжайте к нам, я вас с ним познакомлю.
— Спасибо, — сказал однорукий. — Но из Москвы я уехать не могу. Здесь родился. Воевал. Слыхал, может быть, про знаменитую оборону Москвы? В армии маршала Рокоссовского служил. Он тогда ещё в чине генерал-лейтенанта был… Мне здесь каждая улица знакома. Да, да, ты не смотри, что Москва большой город. Вот сейчас заверни за угол и увидишь старый двухэтажный дом. Он теперь жёлтого цвета. А я помню, раньше он был серый, а ещё раньше — красный. А живу я за Бородинским мостом. Для тебя этот мост как все мосты. А для меня это Бородинский мост. Ну вроде он живое существо. Мой товарищ. Во время войны, бывало, придёт к нам пополнение, я сразу к москвичам: «Братцы, Бородинский цел?» Тогда фашисты часто бомбили Москву. «Цел», — говорят. И воевать сразу вроде легче.
Из закусочной вышел Фёдоров.
— Ерунда вмятина, — сказал однорукий. — А парень неплохой, на целину меня приглашал.
Я видел, как Фёдоров подмигнул однорукому: молчи, мол.
— Ерунда, говорю, Фёдоров, вмятина, — снова сказал однорукий. — Он тебя нагрел самое большее на пятёрку.
— Ну ладно, не твоего ума дело, — сказал Фёдоров. — Давай топай.
— Ну чего злишься? — сказал однорукий. — Поедем к нам в гараж, я тебе бесплатно всё сделаю.
— Ненавижу добряков. И откуда только они сегодня на мою голову сыплются?
Мы сели в машину. Фёдоров завёл мотор, и мы поехали дальше. Между нами стояла ваза.
— Если вам не хватает денег, — сказал я, — переезжайте к нам, у нас шофёры здорово зарабатывают.
Он посмотрел на меня так, что я сразу замолчал.
— Надоел ты мне со своей целиной, — сказал он. — И студентов ты приглашал, и этого однорукого приглашал, а теперь ещё меня зовёшь!
— Я всех зову, кто мне нравится, — сказал я.
— А что же, я тебе тоже понравился? — спросил он.
— Нет, — сказал я. — Просто вам нужны деньги, поэтому я вам предложил.
— Слушай, помолчи, а то схлопочешь подзатыльник!
— Своих — ни-ни, — сказал я, — а на чужих замахиваетесь?
— Ох и вредный ты парень! — сказал он. — Злой на язык.
Это я-то злой, когда он меня вынуждает, когда несправедливость так и выскакивает из него! Ему бы поговорить с женщиной из справочного бюро, она бы объяснила ему, кто он такой.
— Скажи спасибо, что у тебя нет отца. Жалко тебя обижать.
— А мне ваша жалость не нужна, — сказал я. — И отец у меня есть. Он тоже шофёр. Он в Москве временно живёт, учится в институте. — Врал ему вовсю, пусть, думаю, позавидует. — Скоро инженером будет и вернётся в совхоз… У него есть мотоцикл. А здоровый, как Юрий Власов. Рост два метра. Он свой мотоцикл одной рукой выжимает.
Он мне не верил, косил на меня глаза и помалкивал.
— Вот, — сказал я. — Вот! — выхватил из кармана бумажку с адресом отца и сунул ему под нос. — Читайте: Щеглов Михаил Иванович, проспект Вернадского, шестнадцать, подъезд восемь, квартира сто восемьдесят пять. Ясно? Ему новую квартиру дали за хорошую работу…
— Вазу ему везёшь? — спросил он.
— Ему.
Мы снова помолчали.
— Убери её, а то ещё кокнем, — сказал Фёдоров.
Я убрал вазу, поставил между ног. Теперь, когда Фёдоров опускал вниз правую руку, он дотрагивался до моей коленки. У него были большие, толстые руки. Они были выпачканы машинным маслом, и у меня на коленке осталась узенькая коричневая полоска.
Фёдоров остановил машину у магазина. Интересно, что он ещё придумал?
— Вот тебе три рубля, купи две порции мороженого: мне и себе. Видишь, вон продают мороженое?
— Вижу, — сказал я. — Вам могу купить, а мне не надо.
— Ну, раз ты такой гордый, — сказал он, — купи только мне.
Я вышел из машины и пошёл покупать ему мороженое. Жадюга он был, даже не стал меня уговаривать: мол, брось, купи себе тоже. А он обрадовался. Сейчас куплю ему самое дорогое мороженое, пусть объедается. Поесть он тоже не дурак. Мало ему сосисок, так на закуску ещё мороженое подавай. Барин какой.
Купил ему мороженое за двадцать восемь копеек: оно было облито сверху шоколадом и всё в бугорках от орехов. Я сам это мороженое никогда в жизни не ел, даже не нюхал. Шёл к нему и прямо чуть не плакал над этим мороженым. Можно сказать, на мои три рубля он купил себе мороженое, да ещё моими руками.
Когда я подошёл к машине, она вдруг тронулась. На секунду передо мной мелькнуло хмурое лицо Фёдорова и тут же пропало. А рядом со мной стояла моя ваза, в руке было мороженое, а в другой деньги: два рубля семьдесят две копейки.
Я подумал, что сейчас Фёдоров смотрит в своё шофёрское зеркало и видит меня. Поднял вазу над головой и помахал ею. Представил себе, как моя ваза раскачивается у него в зеркальце. Машины, которые едут сзади него, и моя ваза.
Потом я пошёл в метро, чтобы ехать к отцу.
Глава 11
Ужасно до чего он далеко жил! Надо было сначала ехать на метро, а потом минут двадцать на автобусе. И ещё эта ваза мне руки оттянула. Неудобно её было нести. Приходилось всё время перекидывать из левой руки в правую.
Бумага на вазе разлезлась, я её оборвал, и теперь два громадных цветных петуха так и торчали у всех перед глазами. Стоило мне войти в вагон метро, как сразу все уставились на них. Взял и спрятал вазу между ног.
Но только я спрятал вазу, как маленький мальчик на руках у женщины, которая сидела напротив меня, заорал благим матом:
— Хочу петушка!
Я сначала молчал и прикидывался, что не понимаю, о каком петушке он воет, а потом пришлось вытащить вазу и показать ему.
Всю остальную дорогу держал у него вазу прямо перед носом. А он даже слюни от радости пускал, обнимал вазу, гладил петухов. Еле его оторвали от этой вазы.
Наконец я нашёл нужный мне дом, подъезд и поднялся на пятый этаж. Несколько минут постоял у дверей с номером 185.
Потом переложил вазу из левой руки в правую. А потом решил её поставить временно в угол, чтобы не бросались в глаза сразу эти дурацкие петухи. Уже хотел позвонить, но почувствовал, что у меня во рту стало сухо-сухо, а язык большой и не шевелится.
Поднялся на несколько ступенек выше и тихонько запел песенку про шофёров, чтобы расшевелить язык. Немного успокоился и снова подошёл к этой двери, но, вместо того чтобы позвонить, прислонил ухо к замочной скважине: ни звука.
Постоял немного, потом взял и позвонил. Ещё, ещё секунда, и откроется дверь, и я окажусь с ним один на один. И вдруг я схватил вазу и, прыгая через две ступеньки, бросился вниз. На втором этаже остановился. Глупо было, конечно, так пугаться. Ясно, что отца нет дома, что он на работе. Но возвращаться мне не хотелось. Я вышел во двор…
Двор был большой, усаженный деревьями, а в самом центре — площадка. Там стояли скамейки и играли ребята. Я подошёл и сел — спешить было некуда. У меня было времени ещё часа четыре.
На асфальтовом кругу площадки стояли мальчик и девочка. Мальчишка был с самокатом. Они о чём-то разговаривали и поглядывали в мою сторону. Может быть, смотрели на меня, а может быть, на вазу. Неизвестно. На всякий случай я сделал безразличное лицо.
Потом мальчишка покатил на самокате. Раз проехал мимо меня, второй, а на третий остановился.
— Новенький? — спросил мальчишка.
— Приезжий, — ответил я. — Должен эту вазу одному человеку передать.
— Откуда? — спросил мальчишка.
— Издалека.
— Сила, — сказал мальчишка. — И петухи тоже сила.
— Такого цвета петухов не бывает, — сказал я. — Какой-то художник бешеный их нарисовал.
— А всё равно, — сказал мальчишка. — Хочешь прокатиться на самокате? Самоходный и с тормозом.
— Можно, — ответил я.
Взял самокат и попробовал прокатиться, но чуть не упал. У нас в совхозе никто на таких самокатах не катается. Я их до сих пор только в кино видел.
— Я раздумал, а то ещё сломаю, — сказал я.
— Ерунда, — успокоил меня мальчишка. — Его сто раз ломали. Сейчас я тебя научу. Главное — сильно отталкиваться и не нажимать на тормоз. И всё.
— Эй, я пошла! — крикнула девчонка.
— Ну и иди, — ответил мальчишка.
— Позовёшь — не вернусь, — сказала девчонка.
Ох, любят эти девчонки угрожать! Сама не человек, а палка. Глазищи зелёные, и платье зелёное. Настоящая ящерица. А тоже угрожает.
— Не позову, — сказал мальчишка. — Не беспокойся!
Молодец, а то я боялся, что он убежит за этой ящерицей. А мне надоело болтаться одному, и от взрослых я за день устал. Всё взрослые и взрослые, целый день. Устаёшь от них.
Девчонка повернулась и убежала.
Теперь мы катались на самокате по очереди. Круг я, круг он. Потом он предложил кататься на скорость, кто быстрее. Один вслух считал: раз, два, три… а другой в это время катил по кругу. Он нарочно считал медленнее, чем я, чтобы я оказался победителем.
— Говоришь, издалека? — спросил наконец он.
— Издалека, — ответил я. — С целины.
— Сила! — закричал он. — У меня не было ни одного знакомого целинника.
Он протянул мне руку и крепко пожал. Он жал мою руку изо всех сил.
— Севка. — Я тоже пожал ему руку так, чтобы он почувствовал.
— А я Серёжка, — ответил он. — У тебя мозоли. Сила!
— В мастерской работаю. Трактористам в ремонте помогаю.
— А я ещё сам ни разу в жизни ничего не делал, — вздохнул Серёжка. — Москва, сам понимаешь. Мастерской здесь не найдёшь. А если даже найдёшь, взашей могут выгнать. Пропадаю.
— Ну, в Москве тоже неплохо.
— Хорошо-то хорошо, но размах не тот, — сказал Серёжка. — Давай дружить по-настоящему. Уедешь — переписываться будем.
— Давай, — согласился я.
— А потом, может быть, я приеду к вам, — сказал Серёжка. — Вырасту же я когда-нибудь. Будем с тобой жить в палатке.
— У нас давно нет палаток, — ответил я.
— Ну, всё равно, — печально вздохнул Серёжка. — Всё равно я к вам приеду.
— Приезжай. Не пожалеешь.
— А ты надолго?
— Да я проездом. Сегодня приехал и сегодня уеду. В Артек.
— Сила, — сказал Серёжка. — Ох и счастливый ты!
— Вот передам одному человеку эту вазу и уеду, — ответил я. — А в вашем доме мне знакомого повидать надо. Может быть, ты его встречал: высокий такой? — Подумал, что бы ещё рассказать об отце, но ничего не придумал. — Ну, в общем, он высокий-высокий.
— Здесь высоких много, — сказал Серёжка. — По таким приметам не найдёшь.
— Щеглов его фамилия. Щеглов Михаил Иванович, — сказал я.
— Да ведь это дядя Миша! — крикнул Серёжка.
Это был первый в моей жизни человек, который видел его совсем недавно, вчера или позавчера.
— Только он совсем не высокий, — сказал Серёжка. — Обыкновенный рост… Он мой лучший друг.
Я не стал с ним спорить. Может быть, действительно он и не высокий, я ведь не видел его восемь лет. Но стало обидно, и я даже рассердился на Серёжку, хотя он-то уж во всяком случае не был виноват в том, что мой отец уехал из совхоза и бросил нас.
— Чем ты ему приглянулся, что он записал тебя в лучшие друзья? — спросил я.
— А его весь наш двор знает, — ответил Серёжка. — У него старенький мотоцикл, и он часто занимается ремонтом во дворе, а я ему помогаю. Он скоро придёт с работы.
— Подождём, — согласился я. — Времени у меня достаточно.
— А этих петухов ты ему привёз? — спросил Серёжка и кивнул на мою вазу.
— Этих?.. Нет, не ему. Одна женщина послала мужу — подарок ко дню рождения. Неудобно было отказать… А может, мне сходить к нему на работу?
— Кто его знает, где он работает, — ответил Серёжка.
Да, Москва — это не наш посёлок, где каждый знает, где кто работает, где живёт и что за человек. Здесь вон сколько людей, и все разные. Попробуй разберись в них. Потом я почему-то подумал, что когда мы с Серёжкой станем взрослые, то многое будет по-другому. В общем, нам будет нравиться одно и то же. Потому что ведь вот мы с Серёжкой жили в разных концах Советского Союза и только что познакомились, а уже друг друга с полуслова понимаем.
В это время затарахтел мотор, и кто-то въехал во двор на мотоцикле. У меня прямо задрожало всё внутри. Удивительно, до чего я был нежное и трусливое создание: раньше я этого за собой не замечал. И никто бы в это не поверил. Даже «Богиня Саваофа» говорила, что я парень не робкого десятка. А тут, если бы не Серёжка, я бы убежал.
— Не он, — сказал Серёжка. — Это студент, на новеньком чешском мотороллере. Называется «Чезета». Машинка — высший класс. Папочка купил.
— Неплохо устроился, — сказал я.
— Ерунда, — ответил Серёжка. — Так каждый может, на чужие денежки. Ты думаешь, если бы мне купили мотороллер и цветную рубашку, как у него, то я бы не смог форсить? Форсить каждый может. Но мне лично противно, когда форсят.
Я промолчал. Что говорить, и так всё ясно.
Снова во двор въехал человек на мотоцикле. У этого был большой, мощный мотоцикл, а на глазах квадратные тёмные очки; из-за них нельзя было рассмотреть лица мотоциклиста. Он проехал мимо нас и даже посмотрел в нашу сторону. Я подумал, что сейчас он остановит мотоцикл, и снова почувствовал, что не могу произнести ни слова.
— Тоже не он, — сказал Серёжка. — Это лётчик. Служит в гражданской авиации. Второй пилот на «Ту-124». Неплохой парень, только всегда торопится. А мотоцикл — сила! На малых оборотах тянет без звука. Два цилиндра. На нём можно рекорд скорости поставить.
— А сколько же у вас мотоциклов? — спросил я.
— Двенадцать, — сказал Серёжка. — Студент — раз, лётчик — два, рыжий — три, шофёр-таксист — четыре, инженер — пять, парашютистка шесть… — И тут Серёжка закричал: — Дядя Миша! Дядя Миша!
Глава 12
По двору ехал человек на мотоцикле. Он был в маленькой кепке, сдвинутой на лоб. Я его сразу узнал, я бы его узнал среди тысячи людей, среди десяти тысяч и даже среди миллиона. И мотоцикл я сразу узнал. Вдруг вспомнил, как мы на этом мотоцикле ездили по степи втроём: я, мама и он.
У него тогда была точно такая же кепочка, и у меня была такая же кепочка. Её мне сшила мама и надела мне так же, как носил он. «Правильно, — сказал тогда он. — Правильно носишь кепку».
— Побежали! — закричал Серёжка.
Он проехал мимо нас и помахал Серёжке рукой.
— Постой, — сказал я.
— Ну чего же ты, а то он уйдёт!
— Понимаешь… — Я был не из тех, кто с первого раза выкладывает свои секреты, но сейчас у меня другого выхода не было. — Ты умеешь хранить тайну?
— Могила! Можешь на меня положиться.
Серёжка готов был подождать. А я не знал, с чего начать.
— Ну, — не вытерпел Серёжка.
— В общем, ты не говори ему, что я его жду. Понял?
— Не очень, — сказал Серёжка. — Сам ждал, говорил: нужен, а теперь не говорить. Пожалуйста, не буду. — Он ждал, что я ещё скажу. — Это и вся тайна?
— Нет, не вся, — ответил я. — Мне надо с ним поговорить, но чтобы он не догадался, откуда я приехал и как меня зовут. Понял?
— Понял, — кивнул Серёжка. — Пошли, а то он уйдёт.
— Пошли, — сказал я.
Мы вышли на асфальтированную дорожку, и Серёжка покатил на самокате. Я бежал рядом. Вазу с петухами я держал сбоку, чтобы её не было видно.
Мы подбежали к нему.
— Ну, как работает старик? — спросил Серёжка и похлопал по бензобаку мотоцикла.
— Работает, — ответил он.
— А как работает? — Серёжка изо всех сил старался поддержать разговор.
Он ничего не ответил. Сидел перед мотоциклом на корточках и молчал. Меня он не видел. А я был совсем рядом, стоило мне протянуть руку, и я бы дотронулся до его плеча.
Я бы мог ему сказать: «Хватит копаться с этой старой посудиной». А он бы мне ответил: «А тебе какое дело?» А я бы ему: «Значит, есть какое-то дело». Он бы посмотрел на меня… и произошло бы что-нибудь необыкновенное. Он завёл бы мотоцикл, посадил меня сзади, и мы бы куда-нибудь покатили, где никого-никого нет. Мы бы покатили в самое укромное место в Москве. А у Серёжки рот открылся бы от удивления…
Стоило мне только дотронуться до его плеча, только протянуть руку и шевельнуть пальцем. Ну чего я стоял как чурбан? Столько лет об этом мечтал, столько пережил из-за этого, а теперь стоял перед ним и молчал.
А он продолжал возиться с мотоциклом, и мускулы ходуном ходили под его рубашкой. И руки у него были в масле, совсем как у Фёдорова. Но вот он выпрямился. Ему надо было, видно, подойти к мотоциклу с другой стороны. А мы стояли у него на дороге.
— Идите, ребята, идите, нечего болтаться под ногами, — сказал он. — Не до вас.
Мы с Серёжкой отошли и смотрели на него издали. В конце концов, почему он должен с нами разговаривать? Нет у него для этого свободного времени. Может быть, он торопится на собрание или у него срочное задание по работе, а здесь ещё мотоцикл барахлит. Голос его мне понравился: низкий такой и слова чуть-чуть растягивает.
Наконец он бросил возиться с мотоциклом и пошёл к подъезду. Прошёл мимо нас и посмотрел в мою сторону. Так, скользнул глазами, даже петухи на вазе его не удивили. А меня он просто не узнал.
Вот что происходит с отцами, когда они уезжают из дому! Рядом с ним стоит его сын, а он и в ус не дует. Точно это не его сын, который носит одну с ним фамилию, и до сих пор помнит его голос, и узнал бы его среди миллионов людей. А этот отец преспокойно проходит мимо и скрывается в подъезде.
Неизвестно, что теперь делать дальше. На вокзале, вероятно, паника уже идёт вовсю. И ещё эта ваза с петухами все руки оттянула. Подарить её Серёжке и уехать? Или лучше написать записку, положить в вазу и попросить Серёжку передать отцу? Но мне бы с ним поговорить, хотя бы несколько слов сказать, чтобы он знал, что я — это я.
— Не очень-то разговорчивый, — сказал я. — А мне про него рассказывали, что он любит поболтать.
— У него по настроению, то начнёт говорить — не остановишь, — сказал Серёжка, — а то: «Привет, спешу, брат, спешу», — и всё. Но на мотоцикле меня два раза прокатил, и вот самокат тоже он починил.
Мы помолчали.
— Ну, что теперь будешь делать? — спросил Серёжка.
— Не знаю. На вокзале паника, вероятно, страшная. В общем, мне на это наплевать, но Наташу жалко. Это наша вожатая — мировой человек. Она из-за всего переживает, всё принимает близко к сердцу. Представляешь, ей меня доверили, а я сбежал.
— А зачем же ты сбежал? — спросил Серёжка.
— Чрезвычайные дела, — сказал я. — Если бы я ей всё рассказал, то она бы меня простила.
— Всё не расскажешь, — сказал Серёжка.
— Вот именно, — согласился я. — А дома ты у него бывал?
— Нет, — ответил Серёжка.
— Понимаешь, нужно мне сказать ему одну важную вещь, — сказал я. Привет передать. А я почему-то не смог…
— Он теперь, может быть, до утра из дома не выйдет. — Серёжа помолчал, посмотрел на меня. — А ты этих петухов, значит, не ему привёз?
Ведь я ему уже говорил про этих петухов, что привёз их другому человеку, а он снова спросил.
— Нет, не ему, — сказал я.
— Тогда придётся ждать до утра, — сказал Серёжка.
— Хорошенькое дело! — ответил я. — У меня всего времени час или два.
— Надо что-нибудь придумать, — сказал Серёжка.
— Надо, — согласился я.
— Вон его окно, — показал Серёжка, — на пятом этаже. Открытое… Первое справа. Видишь?
— Вижу.
— Придумал, придумал! — закричал Серёжка. — Бросим ему в окно небольшой камешек, он выглянет, ну, а мы ему что-нибудь крикнем.
— А если мы не попадём? — сказал я. — Выбьем соседнее окно?
— Да. — Серёжка вздохнул. — Тогда нам крышка. Здесь домоуправ жестокий. Он нас в милицию отведёт за милую душу. В детскую комнату. А там женщина работает, лейтенант милиции, как начнёт воспитывать, не обрадуешься.
Глава 13
Стало вечереть. Мы сели на скамейку, а между нами стояла ваза. На меня в упор смотрел жёлтый глаз чёрного петуха. Серёжка посмотрел на своего петуха.
— Севка, — сказал он, — а у твоего петуха какой глаз?
— Жёлтый, — ответил я.
— А у меня чёрный… Бабка моя сейчас, вероятно, уже ругается, что ужинать не иду.
— А ты иди, — сказал я. — Я, например, совсем есть не хочу.
— И я не хочу. — Серёжка вздохнул. — Придётся идти к Софке, она сразу что-нибудь придумает. Она самая умная в нашем классе. Даже иногда обидно бывает: сидишь, мучаешься над задачкой. А она придёт, раз-два — и решила. Мать говорит: Софка способная девочка, а по-моему, просто везучка.
Я промолчал.
— Ты что, вообще против девчонок?
— Вообще против. Обидчивые они. Я одну назвал «дохлая принцесса», так потом меня на сборе отряда разбирали. Шуток не понимают.
— Я тоже вообще-то против, — сказал Серёжка. — Но что же делать? Без Софки не обойдёшься. Она хитрая и ловкая. Думаешь, катал меня дядя Миша на мотоцикле? Нет. А Софку катал. Думаешь, он починил бы мне самокат? Никогда в жизни. Ты же видел: «Привет, брат, привет, спешу, дела». А Софка его попросила, и он починил. Слова она особенные знает, хотя можно сказать, что из её разговора ничего нельзя толком понять. Она не выговаривает две основные буквы алфавита: «л» и «р». Она вместо «ложка» говорит «вожка».
— Ну, раз так, — сказал я, — пошли к твоей Софке.
Мне теперь всё равно было, куда идти, так у меня было тяжело на душе. Может быть, на самом деле эта хитрая Софка что-нибудь придумает.
— Она живёт на втором этаже.
Мы подошли к Софкиным окнам, и Серёжка несколько раз коротко свистнул, но в окне никто не появился. Он ещё раз свистнул.
— Видал? — Он кивнул на Софкины окна. — Нарочно не подходит. Характер у неё ой-ой! Бабушка говорит, на такой женишься, будешь ходить в струнку.
Я стоял рядом и размахивал вазой. Передо мной появлялся то жёлтый, то чёрный петух, точно они гонялись друг за другом.
— Смотри разобьёшь! — сказал Серёжка.
— Я не разобью.
— Пошли! — крикнул Серёжка.
Это была хитрость. Стоило нам сделать три шага, как Софка тут же высунула голову и крикнула:
— Эй, Сегёжка, чего свистишь под окнами! Я читаю книжку, а ты свистишь.
— Ну и читай свою книжку.
— А чего же ты свистев?
— Дело есть, — сказал Серёжка.
— Ну? — сказала Софка.
— Я не собираюсь орать на весь двор, — ответил Серёжка.
— А ты губами, — сказала Софка. — Я пойму.
— А может, спустишься? — попросил Серёжка.
— Нет, ты губами, — сказала Софка. — А то не пойду.
Серёжка начал говорить одними губами. Софка, не отрываясь, смотрела ему в рот. Когда Серёжка кончил, Софка тут же исчезла из окна.
— Сейчас прибежит, — сказал Серёжка. — Она ради другого в огонь и в воду. Это у неё есть.
— А что ты ей сказал? — спросил я. — Ничего нельзя было понять.
— В двух словах изложил твою историю. — Серёжка помялся. — Про него.
— А… — Нужно было что-нибудь ещё спросить, и я сказал: — И ты тоже умеешь читать по губам?
Серёжка скривился, подумал, вероятно, соврать мне или нет, и ответил:
— Нет. Я только умею говорить беззвучно, одними губами, а читать не умею. — Он помолчал. Видно, его подавляло полное превосходство Софки, потому что он сказал: — У меня губы толстые, по ним не хитро прочитать. А ты попробуй прочитай по Софкиным губам. Она сама по своим губам ничего не может прочитать.
— Как это сама по своим губам не может прочитать? — удивился я. — Человек сначала думает, а потом говорит. Что же, она сама не знает, о чём думает?
— А вот так, — сказал Серёжка. — У неё всё может быть. Она мне рассказывала: встанет перед зеркалом, губами шепчет, а сама в зеркало смотрит и ни черта не понимает, что говорит.
— Опять вгёшь!
Мы оглянулись: перед нами стояла Софка. В руках она держала пачку печенья.
— Ты же сама рассказывала! — возмутился Серёжка.
— Хотева тебя успокоить. Кому печенья?
Серёжка обиделся на Софку и не стал брать печенья, и я тоже не стал неудобно было.
— А Севка всем придумывает прозвища, — сказал Серёжка.
— И мне пгидумав? — спросила Софка.
— Ящерица, — сказал я.
Минуту они молчали. Потом Серёжка сказал:
— Сила прозвище!
— Ничего, — согласилась Софка.
— Давай печенье, — сказал Серёжка.
Он взял сразу три печенья и стал их жевать.
— А ты? — спросила Софка.
— Я есть не хочу, — соврал я.
— Печенье — это не еда, — сказала Софка. — На, дегжи всю пачку, а я понесу твою вазу.
— Смотри не разбей, — предупредил её Серёжка. — Это он одному человеку привёз.
— Ты за кого меня пгинимаешь? — спросила Софка. — За квадгатную дугу?
Я никогда не слышал, чтобы говорили «квадратная» дура. Всегда говорят «круглая» дура. А тут «квадратная».
— Ну ладно, — сказал Серёжка. — Ты что-нибудь придумала?
— Сейчас, — сказала Софка.
Софка шла впереди, в руках у неё была ваза. Я посмотрел на вазу со стороны. Смешная она и весёлая. Я даже к ней привык, и она мне нравилась.
Софка что-то шептала себе под нос.
— Чего это она? — тихо спросил я.
— Думает, — ответил Серёжка. — Она, когда думает, всегда под нос читает стишок. Она в актрисы целит, а там без букв «л» и «р» нельзя. Где-то достала стишок и тренируется. Ей сказали: как научишься читать этот стишок, так возьмут в актрисы. А она упорная. «Шит колпак не по-колпаковски, вылит колокол не по-колоколовски. Надо колпак переколпаковать, перевыколпаковать, надо колокол переколоковать, перевыколоковать». Это её стишок.
— Язык сломаешь, — сказал я.
— Сломаешь. Но она упорная.
Вдруг Софка оглянулась и сказала:
— Пгидумава. Сейчас зайдём к нему и скажем: собигаем бумагу. Ну, и поговогим о чём надо.
— Силища! — обрадовался Серёжка.
А я промолчал. Ходил, как во сне. Точно всё то, что происходило, было не со мной, а с кем-то другим. Точно не я сбежал с поезда, не я обманул Наташу, подвёл Шерстнёва, точно не я искал встречи с отцом, а кто-то другой.
Мы вошли в подъезд, сели в лифт.
— Чуг, я нажимаю кнопку, — сказала Софка.
Она нажала кнопку десятого этажа, хотя нам надо было на пятый. Серёжка невозмутимо стоял в углу.
— Почему ты нажала на десятый? — спросил я. — Ведь он живёт на пятом.
— Гвупо ехать до пятого в десятиэтажном доме, — ответила Софка. Доедем до десятого, потом спустимся до пятого.
Мы ехали в лифте. Я в своей жизни первый раз. Он мягко скользил вверх, щёлкая на этажах. Потом остановился. Софка нажала кнопку пятого этажа, и мы поехали вниз.
Вышли на лестничную площадку, и я даже не успел опомниться, как Софка без всякой подготовки позвонила в сто восемьдесят пятую квартиру.
Он открыл нам на второй звонок. Одна щека у него была в мыле, он брился. Сразу было видно, что он торопился.
— А, знакомая братия. Ну, в чём дело?
— Мы за макуватугой, — сказала Софка.
— За чем? — переспросил он.
— За стагой бумагой, — поправилась Софка.
— Нет у меня бумаги, — сказал он.
Но Софка — это не Серёжка, от неё не так легко было отделаться.
— А у ваших соседей тоже нет стагых газет? — спросила она.
— Их нет дома. Давай, давай шагайте дальше! — Он захлопнул дверь перед нашим носом.
— В пвохом настгоении, — сказала Софка. — Ну ничего.
Серёжка совсем приуныл, и я тоже здорово приуныл. А Софка снова нажала кнопку. Он открыл дверь, и раньше, чем он успел возмутиться, она прямо выпалила в него:
— Госудагству нужна бумага, а вы не хотите помочь!
— Ну ладно, входите. — Он посмотрел на часы. — Проходите в комнату. Я добреюсь.
Мы вошли в комнату. У него была самая обыкновенная комната: стояли кровать, стол и один стул. А вещи висели на двери, они были прикрыты простынёй. На стене около окна висело зеркало, а под зеркалом портреты двух женщин. Я подошёл поближе, чтобы их рассмотреть.
— Агтистки кино, — сказала Софка. — Из жугнава выгезаны.
Наконец он вернулся. Он был чисто выбрит и аккуратно причёсан. Подошёл к зеркалу, чтобы полюбоваться собой. Видно, он себе понравился, потому что замурлыкал под нос песню: «А у нас во дворе есть девчонка одна…» Я эту песню отлично знаю, у нас её в совхозе все поют.
Он посмотрел впервые прямо мне в лицо и спросил:
— С пополнением?
— Приезжий, — вдруг сказал Серёжка.
У меня всё как запрыгало перед глазами: Софка, Серёжка, он и эти две женщины, которых он вырезал из журнала и повесил на стене. Я отвернулся, нарочно отвернулся. Думал, успокоюсь, повернусь к нему лицом, а он… Когда я поставил вазу и оглянулся, он уже забыл обо мне. Спросил, кто да что, а ответа толком не дождался: приезжий так приезжий. В общем, он был из тех, которые спрашивают: «Как у вас дела?», хотя им совсем это неинтересно.
— «А у нас во дворе есть девчонка одна…» — снова запел он и повеселевшим голосом спросил: — Значит, государству нужна бумага? — Что он так развеселился, непонятно было. — Что ж, сейчас будет бумага.
Вышел из комнаты и вернулся с пачкой старых газет. Снова вышел и снова вернулся: бросил на пол ещё пачку.
— Государству нужна бумага, — сказал он. — Пожалуйста.
— Неплохой урожай, — заметил Серёжка.
— А у вас вегёвки есть? — спросила Софка. — Мы бы сейчас всё связави и унесви.
— Верёвки? Это мы сейчас организуем. — Он опять вышел.
— Давай начинай, — сказала Софка.
Я промолчал.
— Ты видишь, он волнуется, — сказал Серёжка.
— Лучше я ему записку напишу.
Я оторвал от газеты длинную полоску бумаги и быстро написал: «Это тебе подарок от мамы. Твой сын Севка».
Я очень торопился, боялся, что он зайдёт. Сложил записку в комочек и положил в карман.
— А где ты её оставишь? — спросил Серёжка.
И в это время он вернулся в комнату. В руках у него была верёвка.
— Дядя Миша, а вам нгавится эта ваза? — вдруг спросила Софка.
— Ваза? Для ребятишек неплохо.
— Это я одному человеку в подарок привёз, — сказал я. Голос у меня был какой-то странный.
Он разорвал верёвку на три куска и протянул нам.
Софка и Серёжка тут же стали связывать газеты. А я как дурак стоял в центре комнаты: в одной руке у меня была пачка с печеньем, в другой верёвка.
— Ты что на меня уставился? — спросил он.
— Я? Просто так.
— Экий ты, брат, неловкий! Дай сюда твоё печенье. — Он взял у меня пачку печенья и слегка при этом коснулся моей руки. — И в пачке у тебя нет ни одного печенья, а ты за неё держишься.
А я даже не заметил, как съел всё печенье.
— Он сегодня ничего не ел с утра, — сказал Серёжка. — Он ведь проездом в Москве. Сегодня уезжает.
— А чего же он тогда с вами болтается?
— Ради компании, — сказал я.
— Ну, давайте, ребята, давайте побыстрее! — сказал он. — Мне надо уходить.
А мне наплевать на это, плевать мне на то, что тебе надо уходить! Я стою с тобой рядом, я ради тебя сбежал с поезда, а ты меня выгоняешь. А ещё отец! Ну и уходи. А я сейчас соберусь и уеду и больше никогда-никогда не приду. А в вазу брошу записку. А потом, может быть, ты когда-нибудь заглянешь на дно вазы и прочитаешь записку: вот тогда тебе будет стыдно.
Я изо всех сил старался, мне хотелось, чтобы мой пакет был самый увесистый. Я натянул верёвку покрепче, и она лопнула. Мне снова стало жарко, я почувствовал, что он мне смотрит прямо в затылок. Прямо прожигает его насквозь, а я ползал по полу, собирая эти несчастные старые газеты, потому что государству нужна бумага, а мне очень нужен отец.
— Ну-ка, дай я тебе помогу. — Голос у него стал какой-то другой. Я бы сказал, что голос у него стал поласковей. — У тебя что-то не ладится.
— У меня? — спросил я. — У меня-то всё ладится.
Я поднял свёрток и понёс к выходу, даже не оглянулся на него. Нечего мне было на него оглядываться. Потом незаметно бросил записку в вазу.
У двери я на секунду остановился, ждал, что он меня окликнет, что ли. Но он меня не окликнул, и я ушёл, а моя ваза с запиской на дне осталась у него в комнате.
На лестнице меня догнали Софка и Серёжка.
— Ты чего так быстро ушёл? — сказал Серёжка. — Можно было ещё немного посидеть.
Я промолчал. Нечего мне было говорить.
— Ты не пегеживай, — вдруг стала успокаивать Софка. — Не поговогив и не надо. Вазу ты ведь оставив?
— Вазу? А вазу я вёз другому человеку. А теперь вот провозился с ним и больше никуда не успею. Мне бы на поезд не опоздать. С Курского вокзала поезд отходит.
— А ты нам оставь адрес того человека, — сказал Серёжка. — Мы ему отнесём твою вазу.
— Ладно! — отмахнулся я.
У меня сильно щипало в горле, и трудно было разговаривать. Я боялся заплакать. Они тогда могут подумать, эти всезнайки-москвичи, что у нас в совхозе все такие плаксы. А они ещё не видели наших.
Мы вышли во двор.
— Пожалуй, я пошёл, — сказал я.
— Уже? — спросил Серёжка. — Ну, прощай!
Мы пожали друг другу руки, потом я пожал руку Софке. Ладошка у неё была длинная и худая. Постояли. Не люблю я этих расставаний до ужаса. Ведь прощались на всю жизнь. Может быть, никогда больше и не увидимся. Жалко было расставаться.
— Эй, ребята, ребята! (Мы задрали головы. В окне пятого этажа торчал он.) Слушай, парень, ты забыл вазу!..
— Что? — переспросил я.
Я отлично слышал, что он крикнул, но сделал вид, что ничего не понял. Он пропал из окна, потом снова высунулся. В руках у него была моя ваза. Он начал размахивать вазой. Из неё выскочила записка и упала к нашим ногам. Серёжка поднял её и протянул мне, а я тут же запихнул её в карман.
— Иду! — крикнул я.
Ну что ж, возьму и скажу ему сейчас всё. Мне вдруг стало легко и свободно. И непонятно было, как я мог так долго страдать и хитрить, вместо того чтобы сразу всё рассказать. Давно бы уже сидели и распивали чаи, а потом бы он отвёз меня на вокзал и я его познакомил с Наташей и Гелием.
Позвонил. Думаю, сейчас он откроет дверь, а я ему: так, мол, и так, принимай гостей. И тут он мне открыл… Я даже его сразу не узнал, так он преобразился, совсем какой-то другой. В новеньком костюме, в белой рубашке при галстуке, точно тракторист на свадьбе. Да что там тракторист, настоящий артист из заграничного кино!
— Нехорошо чужие вещи забывать, — сказал он. — Тебе доверили, а ты забыл.
Он ещё поучал меня. Ну ладно, ладно, сейчас я тебе скажу, кто я, тогда ты не так заговоришь. Тогда я смогу тебе сделать несколько замечаний о твоей наблюдательности. Например, о том, что у тебя и у меня одинаковые брови и носы, а ты этого не замечаешь. Тебе даже в голову не приходит, что я твой сын.
А может быть, ты на самом деле забыл, что у тебя есть жена и сын? Может быть, ты не обрадуешься, когда узнаешь, кто я? Ты ведь собрался в гости, что ли, а я тебе помешал? Придётся возиться со мной и разыгрывать радость.
Почему-то я никогда раньше об этом не думал. А вдруг действительно ему не до меня?
— Как тебя зовут? — спросил он.
— Мишка, — соврал я.
Нет, прежде чем ему всё выкладывать, надо разобраться в нём.
— Тёзка, значит, — сказал он.
Пожалуйста, пусть будет так. Я успокоился и врал очень ловко. Совсем не волновался.
— А откуда ты приехал?
— С Алтая.
— С Алтая? — У него в голосе появилась какая-то заинтересованность. Значит, мы с тобой не только тезки, но и земляки. Где же ты там живёшь?
— Под Барнаулом, в совхозе, — снова соврал я.
— Я тоже жил в совхозе, только далековато от Барнаула, — сказал он. Но всё равно, мы с тобой вроде как земляки. Восемь лет не был в тех краях…
Я всё ждал, что он вспомнит меня и мать. А он не вспоминал, точно мы у него совсем выскочили из головы.
— Может быть, слыхал про совхоз «Новый»? — спросил он.
— Про «Новый»? Слыхал. Недавно в газете писали о вашем директоре совхоза.
— Про Шерстнёва? Значит, работает. — Он засмеялся. — «Руки буду целовать, когда увижу…» «Международный скандал…» Это любимые изречения Шерстнёва. Забавный мужик! Мой лучший друг. Предлагал остаться его заместителем. А я отказался, в Москву потянуло. Надо было в институт податься.
«Шерстнёв его лучший друг? — подумал я. — Здорово придумал. Может, он ещё скажет, что тот собирался ему руки целовать за то, что отморозил из-за него пальцы на ноге?»
— Ну, я пошёл, — сказал я. — И вам тоже, вероятно, пора…
— Подожди, подожди, не каждый день земляка встречаешь, — сказал он и почти силой усадил меня на стул. — А я не тороплюсь, я всё равно жду телефонного звонка… Я самый «старый» целинник. По первой целине трактор водил, вместе с Шерстнёвым первую палатку ставил. Ух и поработали мы тогда, а зимой помёрзли. Палатки насквозь продувались ветрами. Многие тогда спасовали, а я нет. А ведь я жил не один: сынишка у меня тогда был совсем маленький…
Он так и сказал: «Сынишка у меня тогда был совсем маленький…» Он так и сказал, а я-то думал, что он напрочь забыл обо мне.
— А где же ваш сын теперь? — спросил я.
— С матерью уехал погостить к родственникам, — сказал он. — Да, на целине меня каждый знает. — Лицо у него оживилось, щёки покраснели, весь он подобрался и стал торопливо и радостно шагать, размахивать руками, как какой-нибудь капитан дальнего плавания на капитанском мостике. — Ты спроси у нас в совхозе: кто помнит Щеглова? И каждый тебе о нём расскажет. Да что там в совхозе! Во всём районе меня знали и уважали. Вот был такой случай. Зимой несколько парней, трактористов, спасовали. Надоело им, и они решили уйти. А как уйдёшь? Только на тракторе, степь вся ведь под снегом. Они выбрали время, когда не было Шерстнёва, и стали собираться. Я узнал об этом, сынишку на руки — и за ними. Догнал, говорю: не вернётесь, мальчишку заморозим, и вам тогда плохо придётся. Вернул их… Уж кто-кто, а я заслужил, чтобы меня помнили!
Я-то прекрасно знал эту историю, он мог её не рассказывать. Я от Шерстнёва её знал. Только за трактористами в погоню со мной на руках бросился совсем не он, а мать.
Стало скучно-скучно, и было непонятно, зачем я здесь рассиживаюсь, когда на вокзале меня ждут не дождутся Наташа и Гелий. И этот человек, который прохаживался по комнате в новых скрипучих туфлях и так лихо врал, мне был не нужен.
Он подошёл к двери и открыл её.
— Показалось, что кошка мяучит под дверью, — сказал он.
А это мяукал я, он врал, а я мяукал и даже сам не заметил. Нет, мне пора было отсюда уходить.
— У меня поезд через час, — сказал я. — Уезжаю в Артек.
— Обидно, — сказал он. — Я бы тебя проводил, не каждый день земляка встречаешь, отвёз бы на мотоцикле на вокзал, да вот жду звонка.
— Ничего, — ответил я. — На метро доеду.
Не хватало только, чтобы он меня на своей старой посудине отвозил на вокзал! А там его увидят Наташа и Гелий, и начнётся история…
— На обратном пути загляни. Я задумал купить «Москвича». Могучая штука. В мотор введу одну хитрую реконструкцию, это между нами, будет тянуть на двести километров. Покатаю тебя с ветерком.
Я взял вазу и встал. Мы вышли на лестничную площадку.
— Подожди, — сказал он и вызвал лифт. — А ты заезжай на обратном пути, и вместе махнём на Алтай. Вот все удивятся, когда я приеду!..
Я посмотрел ему в лицо, оно стало какое-то другое. В общем, это был не тот человек, который только что расхаживал по комнате. Он вдруг сник, как-то робко сказал: «Вот удивятся все, когда я приеду…» Я подумал о матери, и он, по-моему, тоже подумал о ней. Странно это было: стоят два человека, отец и сын, и думают об одном и том же, а между ними такая пропасть, которую никак нельзя преодолеть.
Пришёл лифт. Он открыл мне дверцу. Он стоял и смотрел на меня сквозь решётку.
— Нажми третью кнопку снизу, — сказал он.
Я нажал, и лифт тронулся. Сначала пропало его лицо, потом я увидел галстук, потом чёрные узконосые ботинки. И он исчез. А я стоял в лифте, и в руках у меня была ваза. Лифт щёлкнул на четвёртом этаже, на третьем, на втором и остановился на первом.
Софка и Серёжка стояли на том же месте.
— Ну как? — спросила Софка.
— Нормально, — ответил я. — Вазу я вам оставлю, а на обратном пути заберу.
— Вот это ты правильно решил, — сказал Серёжка. — Ты нам напиши, а мы тебя встретим и проводим.
— Мне пора, — сказал я.
— А мы с тобой дойдём до автобуса, — сказала Софка. — Давай мне вазу.
У автобуса мы распрощались. Я вскочил в автобус, взял билет по всем правилам и сел у открытого окна. А под окном стояли Софка и Серёжка. В руках у Софки была моя ваза.
Автобус тронулся, и дом на проспекте Вернадского остался позади, и квартира сто восемьдесят пять тоже осталась позади, и моя ваза осталась позади.
От всей этой истории сохранилась только записка, которую я написал ему. Она лежала маленьким твёрдым комочком у меня в кармане.
И больше ничего не осталось.
Глава 14
Мы снова в поезде. Ребята давно уже спят, а я стою у окна.
И в окно-то ничего не видно: темнота. Только иногда мелькает одинокая лампочка, и снова темнота.
Наташа ходит по коридору и заглядывает в купе — сторожит ребят, боится, чтобы кто-нибудь не упал с верхней полки.
А я смотрю в темноту и вспоминаю сегодняшний день. И всех людей, которых я встретил на своём пути: и водителя троллейбуса, и учительницу немецкого языка, и старика на скамейке, и балерину, и женщину из справочного, и Фёдорова, и студентов, которые приглашали меня в кафе «Космос», и, конечно, однорукого, и Софку, и Серёжку. Всех, всех вспомнил и перебрал в памяти, и для каждого из них у меня нашлось какое-то слово.
А для него нет. Думал: он мой отец, а я ничего не могу ему сказать. Решил вспомнить все те истории, которые я раньше придумывал о нём, но мне не захотелось их вспоминать.
Ненужные, пустые какие-то истории. Из них каши не сваришь.
Теперь я понял, почему мать так тяжело вздыхала, когда я врал. Она боялась, что я стану таким же легкомысленным и ненадёжным, как он. Когда он рассказывал про то, как мы жили на целине в первую зиму, я даже испугался. Он говорил моими словами: «Я самый «старый» целинник», «Уж кто-то, а я-то заслужил, чтобы меня помнили», хотя мы с ним никогда раньше об этом не разговаривали.
Вот какая история получилась. Скажете, невесёлая? Конечно, особенного веселья в ней нет, это точно. Но всё равно я почему-то чувствую себя лучше, чем раньше, когда я его не знал.
А потом, он ведь сказал, что собирается к нам вернуться. Ну, не прямо так сказал, а всё же было понятно, что он об этом думает.
И тут у меня снова появилась маленькая надежда, ну, как далёкий огонёк в степи, до которого идёшь, идёшь, а он всё удаляется, удаляется… А потом вдруг перестаёт удаляться, и ты до него доходишь.
И он, мой отец, для меня как слабый огонёк. Когда-нибудь я дойду до него.





Комментарии