Слово о «малой родине»
Василий Шукшин
Как-то в связи с фильмом «Печки-лавочки» я получил с родины, с Алтая, анонимное письмо. Письмецо короткое и убийственное: «Не бери пример с себя, не позорь свою землю и нас» Потом в газете «Алтайская правда» была напечатана рецензия на этот же фильм (я его снимал на Алтае), где, кроме прочих упреков фильму, был упрек мне — как причинная связь с неудачей фильма: автор оторвался от жизни, не знает даже преобразований, какие произошли в его родном селе… И еще отзыв с родины: в газете «Бийский рабочий» фильм тоже разругали, в общем, за то же. И еще потом были выступления моих земляков (в центральной печати), где фильм тоже поминался недобрым словом… Сказать, что я все это принял спокойно, значит, зачем-то скрыть правду. Правда же тут в том, что все это, и письма и рецензии, неожиданно и грустно. В фильм я вложил много труда (это, впрочем, не главное, халтура тоже не без труда создается), главное, я вложил в него мою любовь к родине, к Алтаю, какая живет в сердце, — вот главное, и я думал, что это-то не останется незамеченным. Не стану кокетничать и говорить так: «Я задумался… Я спросил себя: может быть, они правы — я оторвался от родины?. . » Нет, не стану. Но и доказывать, что я люблю родину и не оторвался от нее, — тоже не стану, это никому не нужно. Но о родине сказать готов, это, впрочем, будет и о любви к ней, но только пусть не будет никаким доказательством. Я давно чувствовал потребность в этом слове. И вот почему.
Те, кому пришлось уехать (по самым разным причинам) с родины (понятно, что я имею в виду так называемую «малую родину»), — а таких много, — невольно несут в душе некую обездоленность, чувство вины и грусть. С годами грусть слабеет, но совсем не проходит. Может, отсюда проистекает наше неловкое заискивание перед земляками, когда мы приезжаем к ним из больших «центров» в командировку или в отпуск. Не знаю, как другие, а я чего-то смущаюсь и заискиваю. Я вижу какое-то легкое раздражение и недовольство моих земляков чем-то, может, тем, что я — уехал, а теперь, видите ли, — приехал.
Когда мне приходится читать очерки или рассказы других писателей о том, как они побывали на родине, я с удивлением не нахожу у них вот этого вот мотива: что им пришлось слегка суетиться и заискивать. Или у них этого нет? Или они опускают это потом, вспоминая поездку?. . Не пойму. Я не могу опустить это, потому что всякий раз спотыкаюсь о какую-то неловкость, даже мне бывает стыдно, что вот я — взял и уехал, когда-то, куда-то… И вот все вокруг вроде бы и не мое родное, и я потерял право называть это своим. Я хотел бы в этом разобраться. Мое ли это — моя родина, где я родился и вырос? Мое. Говорю это с чувством глубокой правоты, ибо всю жизнь мою несу родину в душе, люблю ее, жив ею, она придает мне силы, когда случается трудно и горько… Я не выговариваю себе это чувство, не извиняюсь за него перед земляками — оно мое, оно — я. Не стану же я объяснять кому бы то ни было, что я — есть на этом свете пока, это, простите за неуклюжесть, факт.
Больше всего в родной своей избе я любил полати. Не печку даже (хотя печку тоже очень любил), а полати. Теперь, когда и видеть-то не видишь нигде полатей (даже в самых глухих и далеких деревнях), оглядываясь мысленно по стране (которую, по-моему, неплохо знаю), я вижу Алтай — как если бы это мои родные полати из детства, особый, в высшей степени дорогой мир. Может, это потому (возвышение-то чудится), что село мое — на возвышении, в предгорье, а может, потому это, что с полатями связана неповторимая пора жизни… Трудно понять, но как где скажут «Алтай», так вздрогнешь, сердце лизнет до боли мгновенное горячее чувство, а в памяти — неизменно — полати. Когда буду помирать, если буду в сознании, в последний момент успею подумать о матери, о детях и о родине, которая живет во мне. Дороже у меня ничего нет.
Редко кому завидую, а завидую моим далеким предкам — их упорству, силе огромной… Я бы сегодня не знал, куда деваться с такой силищей. Представляю, с каким трудом проделали они этот путь — с Севера Руси, с Волги, с Дона на Алтай. Я только представляю, а они его прошли. И если бы не наша теперь осторожность насчет красивостей, я бы позволил себе сказать, что склоняюсь перед их памятью, благодарю их самым дорогим словом, какое только удалось сберечь у сердца: они обрели — себе и нам, и после нас — прекрасную родину. Красота ее, ясность ее поднебесная — редкая на земле. Нет, это, пожалуй, легко сказалось: красивого на земле много, вся земля красивая… Дело не в красоте, дело, наверное, в том, что дает родина — каждому из нас — в дорогу, если, положим, предстоит путь, обратный тому, какой в давние времена проделали наши предки, — с Алтая, вообще что родина дает человеку на целую жизнь. Я сказал «ясность поднебесная», но и поднебесная, и земная, распахнутая, — ясность пашни и ясность людей, которых люблю и помню. Когда я хочу точно представить, что же особенно прочно запомнил я из той жизни, которую прожил на родине в те свои годы, в какие память наша, особенно цепкая, обладает способностью долго удерживать то, что ее поразило, то я должен выразиться громоздко и несколько неопределенно, хотя для меня это точность и конкретность полная: я запомнил образ жизни русского крестьянства, нравственный уклад этой жизни, больше того, у меня с годами окрепло убеждение, что он, этот уклад, прекрасен, начиная с языка, с жилья.
Я думаю, что еще не время восторженно приветствовать двухэтажное длинное здание, которое стало приходить в сибирскую деревню. Надо подождать, когда это здание станет родным, дорогим, когда оно привыкнет к человеку, как привык деревенский дом. Я хочу сказать, что нужно еще время, пока длинное кирпичное здание в деревне, претерпев множество изменений — от первоначального замысла в городском кабинете, — обвыкнется с деревенским человеком, станет таким же сподручным, понятным, необходимым, как деревенский дом в прошлом. Я понимаю, на какой я напрашиваюсь упрек, и все же расскажу, каким я запомнил дом деда моего, крестьянина, это тоже живет со мной и тоже чрезвычайно дорого.
У меня было время и была возможность видеть красивые здания, нарядные гостиные, воспитанных, очень культурных людей, которые непринужденно, легко входят в эти гостиные, сидят, болтают, курят, пьют кофе… Я всегда смотрел и думал: «Ну вот это, что ли, и есть та самая жизнь — так надо жить?» Но что-то противилось во мне этой красоте и этой непринужденности: пожалуй, я чувствовал, что это не непринужденность, а демонстрация непринужденности, свободы — это уже тоже, по-своему, несвобода.
В доме деда была непринужденность, была свобода полная. Я вдумываюсь, проверяю, конечно, свои мысли, сознаю их беззащитность перед «лицом» фигуры иронической… Но и я хочу быть правдивым перед собой до конца, поэтому повторяю: нигде больше не видел такой ясной, простой, законченной целесообразности, как в жилище деда — крестьянина, таких естественных, правдивых, добрых, в сущности, отношений между людьми там. Я помню, что там говорили правильным, свободным, правдивым языком, сильным, точным, там жила шутка, песня по праздникам, там много, очень много работали… Собственно, вокруг работы и вращалась вся жизнь. Она начиналась рано утром и затихала поздно вечером, но она как-то не угнетала людей, не озлобляла — с ней засыпали, к ней просыпались. Никто не хвастался сделанным, не оскорбляли за промах, но — учили… Никак не могу внушить себе, что это все — глупо, некультурно, а думаю, что отсюда, от такого устройства и самочувствия в мире, — очень близко к самым высоким понятиям о чести, достоинстве и прочим мерилам нравственного роста человека: неужели в том только и беда, что слов этих «честь», «достоинство» там не знали? Но там знали все, чем жив и крепок человек и чем он — нищий: ложь есть ложь, корысть есть корысть, праздность и суесловие… Нет явления в жизни, нет такого качества в человеке, которое бы там не знали, или, положим, знали его так, а пришло время, и стало это качество человеческое на поверку, в результате научных открытий, вовсе не плохим, а хорошим, ценным. Ни в чем там не заблуждались, больше того, мало-мальски заметные недостатки в человеке, еще в маленьком, губились на корню. Если в человечке обнаруживалась склонность к лени, то она никак не выгораживалась, не объяснялась никакими редкими способностями ребенка — она была просто лень, потому высмеивалась, истреблялась. Зазнайство, хвастливость, завистливость — все было на виду в людях, никак нельзя было спрятаться ни за слова, ни за фокусы, Я не стремлюсь здесь кого-то обмануть или себя, например, обмануть — нарисовать зачем-то картину жизни идеальной, нет, она, конечно, была далеко не идеальная, но коренное русло жизни всегда оставалось — правда, справедливость. И даже очень и очень развитое чувство правды и справедливости, здесь нет сомнений. Только с этим чувством люди живут значительно. Этот кровный закон — соблюдение правды — вселяет в человеке уверенность и ценность его пребывания здесь, я так думаю, потому что все остальное прилагается к этому, труд в том числе, ибо правда и в том, что — надо есть.
Эту сумму унаследованных представлений о жизни, о способе жить я и хотел, кстати, обнаружить в Иване и Нюре, героях фильма «Печки-лавочки».
Когда я подъезжаю на поезде к Бийску (от Новосибирска до Бийска поезд идет ночь), когда начинаю слышать в темноте знакомое, родное, сельское подпевание в словах, я уже не могу заснуть, даже если еду в купе, волнуюсь, начинаю ворошить прожитую жизнь… Поезд останавливается у каждого столба, собирает в ночи моих шумных, напористых земляков, вагон то и дело оглашается голосами. Конечно, тут не решаются проблемы НТР, но тут опять обнаруживается глубокое, давнее чувство справедливости, перед которым я немею. Как-то ночью в купе вошла тетя-пассажирка, увидела, что здесь сравнительно свободно (в бойкие месяцы едут даже в коридорах купейных вагонов, сидят на чемоданах, благо ехать близко), распахнула пошире двери и позвала еще свою товарку: «Нюра, давай ко мне, я тут нашла местечко!» На замечание, что здесь — купе, места, так сказать, дополнительно оплаченные, тетя искренне удивилась: «Да вы гляньте, чо в коридоре-то делается!. . А у вас вон как просторно». Отметая в уме все «да» и «нет» в пользу решения вопроса таким способом, я прихожу к мысли, что это — справедливо. Конечно, это несколько неудобно, но… но уж пусть лучше мы придем к мысли, что надо строить больше удобных вагонов, чем вести дело к иному: одни будут в коридоре, а другие — в загородочке, в купе. Дело в том, что и в купе-то, когда так людно, тесно, ехать неловко, совестно. А совесть у человека должна быть, пусть это и нелепо с точки зрения «правила передвижения пассажиров» — правила можно написать другие, была бы жива совесть. Человек, начиненный всяческими «правилами», но лишенный совести, — пустой человек, если не хуже.
Родина… Я живу с чувством, что когда-нибудь я вернусь на родину навсегда. Может быть, мне это нужно, думаю я, чтобы постоянно ощущать в себе житейский «запас прочности»: всегда есть куда вернуться, если станет невмоготу. Одно дело жить и бороться, когда есть куда вернуться, другое дело, когда отступать некуда.
Я думаю, что русского человека во многом выручает сознание этого вот — есть еще куда отступать, есть где отдышаться, собраться с духом. И какая-то огромная мощь чудится мне там, на родине, какая-то животворная сила, которой надо коснуться, чтобы обрести утраченный напор в крови. Видно, та жизнеспособность, та стойкость духа, какую принесли туда наши предки, живет там с людьми и поныне, и не зря верится, что родной воздух, родная речь, песня, знакомая с детства, ласковое слово матери врачуют душу.
Я долго стыдился, что я из деревни и что деревня моя черт знает где — далеко. Любил ее молчком, не говорил много. Служил действительную, как на грех, во флоте, где в то время, не знаю, как теперь, витал душок некоторого пижонства: ребятки в основном все из городов, из больших городов, я и помалкивал со своей деревней. Но потом — и дальше, в жизни — заметил: чем открытее человек, чем меньше он чего-нибудь стыдится или боится, тем меньше желания вызывает у людей дотронуться в нем до того места, которое он бы хотел, чтоб не трогали. Смотрит какой-нибудь ясными-ясными глазами и просто говорит: «вяцкий». И с него взятки гладки. Я удивился — до чего это хорошо, не стал больше прятаться со своей деревней. Конечно, родина простит мне эту молодую дурь, но впредь я зарекся скрывать что-нибудь, что люблю и о чем думаю. То есть нельзя и надоедать со своей любовью, но как прижмут — говорю прямо.
Родина… И почему же живет в сердце мысль, что когда-то я останусь там навсегда? Когда? Ведь непохоже по жизни-то… Отчего же? Может, потому, что она и живет постоянно в сердце, и образ ее светлый погаснет со мной вместе. Видно, так. Благослови тебя, моя родина, труд и разум человеческий! Будь счастлива! Будешь ты счастлива, и я буду счастлив.




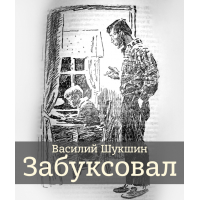
Комментарии