Без приюта
Виктор Астафьев
Доля во времени живет,
Бездолье в безвремянье.
Не помню, в каком году, но где-то далеко после войны я плыл на новом пароходе вниз по Енисею. На пристани Назимово толпа пассажиров, стосковавшихся по берегу, заранее накопилась, стиснулась у квадратной дыры и выжидательно молчала, будто у входа в Божий храм перед молебствием. Команде не удавалось выкинуть трап, матросы рассердились, тыкали торцом трапа в ноги людей и, ушибив одного-другого пассажира, пробили наконец отверстие в толпе.
Дурачась, охая, хватаясь друг за дружку, пассажиры хлынули по трапу, мелко переставляя ноги, чтоб не оттоптали. Слепым водоворотом людей выкидывало на берег повернутыми лицом обратно к пароходу.
На берегу шла торговля, небогатая, без зазывов и ора. Северяне, в отличие от южан, не красуются и не наглеют, торгуя чем-либо, они как бы даже стесняются такого занятия, тогда как южане получают от торговли удовольствие, делают из нее театр, где и цирк.
Туеса со стеклянно мерцающей смородиной, зевасто открытые мешки с каленым, как бы олифой покрытым, кедровым орехом. Под открытым веком пестеря кровенела княженица; голубика и черница темной пеной всплывали из ведер; в щели плетенок сочилась остатняя, проквашенная морошка. Овощи: лук и чеснок с сочным пером и мелкими, вытянутыми корешками, желтенькая репа, яркие морковки с пышной ботвой лежали на каменных плитах. Под соленую и свежую рыбу брошены плахи, где и весла, чтоб не липла к продукту супесь, на тряпицах белели выступившей солью горки тугуна прошлогоднего вяленья.
В стороне ото всех, сложив по-бабьи руки на животе, молча сидел старик разбойничьего вида. Перед ним на крапивном мешке разложены были пастушьи дудки, ивовые пикульки, берестяные зобенки под соль, резаные ложки, расписные туеса, птичьи чучела. Пассажиры дудели в дудки, вертели в руках лесные диковинки, говорили про чучела: “Прямо как живые!”, но ничего не покупали у старика — не наступила еще мода на такого вида народные изделия.
Торговцы стояли коридором и пропускали по нему пассажиров, которым непременно надо подняться на берег, посмотреть на дома и на добродушно почесывающихся собак, рядами залегших по прибрежному урезу, будто на пограничном порубежье, готовых оборонять селение свое, худобу и хозяев.
Среди торговок, с горкой насыпающих ягоды и орехи, конфузливо отшучивающихся от-мужичья, лепилась девочка лет девяти, в полосатеньком платье, спереди как бы обрызганном синими чернилами, — она вынесла на торжище ведро гонобобели. Угловатая, с несообразно крупной костью и выпирающими скулами, девочка выглядела старше своих лет. Потом уж, годам к шестнадцати-семнадцати, когда во многих коленах тайгой и таежной работой крепленную кость прикроет упругое тело, нальется оно соком — ох, какая сильная, может быть, удалая сибирячка получится из этой девочки. А пока торчала на берегу растопыркой большеротая, толстопятая девчушка и, ошарашенно открыв рот, глядела на нездешний, распрекрасный люд глазами, в которых накрошено и белого, и синего, и серого, и который которого переборет, пока не угадать, но непременно получатся глаза северного, застенчиво тихого свету.
Я покупал орехи у бородатого старообрядца, обутого в сыромятные шептуны, картуз еще на нем был знатный, кожаный, высокий, времен, поди-ка, царя Алексея, вылощенный под железо, насунутый до надбровных, непримиримо сдвинутых бугров. Насыпая орехи берестянкой, он воротил от меня рыло — я “вонял” табаком, но от самого кержака так перло черемшой, что пассажира послабей и с ног могло сшибить, — ушат с этой самой соленой черемшой стоял чуть в стороне. “Колбы не надо ль?” — мотнул старообрядец бородою на ушат.
Я отказался. Приняв мелочь за орехи, торговец уставился в заенисейские дали, презирая вместе со мной всю гомонящую мирщину. Я отыскал взглядом девчушку. Не очень-то почитаю водянистую голубику, но у младой сибирячки никто ягоды не покупал, и мне хотелось сделать “почин”, а там сработает “закон рынка”, разуму не поддающийся.
Спускаясь по отлогому берегу, я увидел на камешнике покойницки-синие следы и шмыгающие среди разномастной обуви, большие в кости и все-таки еще детские руки. Они выцарапывали ягоды из-под ног, гребли в кучу, но грязно-синяя лужа все шире расплывалась по берегу, достигла мытых мостков дебаркадера, кляксами испятнала пароходный трап. Матрос бросил перед входом сырую веревочную швабру. “Вытирайте ноги! Вытирайте ноги!” — повторял он, выхватывая за ворот попроще одетых пассажиров, сталкивал иль прямо-таки ставил обувью их на швабру. Девочка уже не собирала ягоды. Кому они нужны, с песком-то? Она терла ладошки о платье на груди, и отрешенность скитницы-черницы, понимание ей лишь ведомой юдоли исходило от нее. Вчера рано поутру разбудила ее бабушка, и они пошли в лес, по мокрой траве, и девочка ежилась со сна от утренней, пронзающей росы, и ноги ее, схлестанные травой, покрылись пупырышками, но пока пришли на болото, взошло солнце, обогрело, запели птицы, бекас на болоте зажужжал, глухарка с выводком пришла на болото кормиться ягодой. Набрали бабушка с внучкой полное ведро голубики, хоть и по оборкам ходили, где же им, старой да малой, идти на дальнее болото, пусть ягоды там и совком гребут. Но при старании да умении и на ближнем, исхоженном болоте ягод наберешь — не ленись только. Девочка свою тетрадку, шибко испомеченную красным карандашом, кроила на кулечки, высунув язык, бабушка откатывала ягоды по наклоненному столу, чтоб без сора “товар” нести на продажу, одновременно научала внучку свертывать кульки воронкой, и совмесгно решено было — на вырученные деньги купить внучке синие тапочки с черными шнурками, бабушке пестрого ситчику на фартук…
“Тебе чЕ, особу команду подавать?” — так, что затрещала на мне рубаха, сгреб меня за ворот матрос, и, пока я вытирал ноги о швабру, он с наслаждением удавкой затягивал ворот на моей шее. С сожалением выпустив меня, матрос заныл вкрадчиво-сонно: “Вытирайте ноги, граждане! Вытирайте ноги…”
А злой, свинцом налитой взгляд его щупал народ, искал жертву.
Я б забыл мокрогубого матроса и пристань Назимово забыл бы, если б не эта вот, зачем-то и почему-то накопленная и бережно хранимая злость молодого еще парня, может, и не злость, а только уверенность во власти, что хуже всякой тяжкой злобы, — власти временной, однако дающей возможность пусть хоть краткий миг потиранить ближнего своего, ротозевую ли девочку, дурня ли, вроде меня, не к месту и не ко времени размечтавшегося, — ничтожной силе и жертвы ничтожные.
“Сама во всем виноватая!” — простуженным голосом крикнула бойкая бабенка, в грязном шелковом платье, девочке, по лицу которой не потекли, прямо-таки рухнули слезы величиной с голубику. Крупные, светлые слезы, какие бывают только у детей, сыпались на камни, на песок и тут же бесследно высыхали.
Легкие еще слезы, жизнь не отяготила их еще горькой солью. Но взгляд в себя послушницы-черницы все-таки почудился. От матери, от бабушки иль прабабушки достал он эту девочку, занял свое место, осел в ее глазах на самом дне бабьей покорностью, которая паче мудрости.
Давно уж девушкой стала ягодница. Да что там девушкой? Женщиной, матерью. Рябь в ее глазах перемешалась, сделались они тихого, северного цвету, донная синева, много мудрой печали таящая в глуби, отсияла в молодости, и серой пыльцой подернулись глаза, как спелая ягода голубика, которой вышла она торговать когда-то на пристань Назимово. А растет та ягода на тихом болоте, где лешие водятся, где лесной соседушко обретается, пиликают веснами кулики, токует старый глухарь, уркают дикие голуби. В суете жизни, в бедах и радостях ягодница скорей всего забыла о том давнем происшествии на пристани Назимово, и саму пристань, быть может, забыла, а я вот отчего-то помню все так зримо и подробно, будто видел тихо и отринуто плачущую девочку лишь вчера.
* * *
Мы подзадержались осенью на рыбалке. Высотин с папой добирали план, забивали рыбой бочки, спрятанные под берегом в кустах. Высотин солил и коптил рыбу на прокорм большой семье, папа, чуял я, мечтал покутить, хотя сулился справить мне “кустюм и сапоги”.
Вернувшись уже с “белыми мухами” в Игарку — они здесь начинают летать иным годом в начале сентября, папа где-то отыскал мачеху, и они, как говорилось в старину: “Вновь пали друг другу в объятия”.
Сейчас я уж и не вспомню, какие извилистые пути привели нас в заброшенное здание драмтеатра, снаружи похожего на ящик из-под стирального мыла, не в партер привели, не в ложу — в подвал, где так и сяк нагорожено было множество клетушек. В клетушках слеплены, сбиты, со строек унесены печи, печки и печурки, трубами выведенные в окна, в стены и куда-то даже вниз, как потом выяснилось, в развалившуюся котельную.
Театр, в котором и прежде водились клопы, часто гас свет, выходило из строя паровое отопление, впавший в инвалидное состояние, был проворно от всего отцеплен и отключен, но, изъятый из культурного оборота жизни, он не сдавал свои позиции, и потому спектакли здесь шли круглосуточно, так как народ в нем обитал разнообразный, большей частью пьющий. Театр захватил, можно сказать, впитал в себя моего родителя, и такое началось “искусство”, что ни в сказке сказать, ни пером описать!
Пока в нашей клетушке и в коридорчике у дверей стояли бочки с рыбой, шумно и весело шла жизнь: играли гармошки, “бацал” папа босиком, невзирая на сквозящую в щели половиц погребную стужу вечной мерзлоты. Братан Колька, изгрызанный клопами до корост, радостно подпрыгивал в люльке, гости выучили его свистеть и материться, и он, едва научившись говорить, такое загибал, что публика впадала в неистовое восхищение, одаривала его конфетками, лобызала, суля мальцу большое будущее.
Зима набирала силу. В театре начались пожары оттого, что печки тут палили украденными дровами без учета их технических возможностей. Рыба и деньги у нас кончились. Передравшись с мачехой, папа куда-то исчез. Пришлось мачехе поступать ночным кочегаром в театр, но уже не в тот, где мы жили и действовали, а в другой, в новый, имени Веры Пашенной.
Каким-то ловким маневром я был перекинут из новой седьмой школы в тридцатую, отсталую. Переход из начальных групп в пятый класс, где вместо одного учителя становилось их много, в прежние годы совершался трудно, ребята не такие были “развитые”, как нынешние, и сперва терялись от множества уроков, подолгу не могли запомнить имени-отчества преподавателей, длинного расписания.
Все это к тому, что дела мои в пятом классе пошли еще хуже, чем в четвертом, отношения с классной руководитель- ницей — женщиной маленькой, зловредной — не заладились, и я совсем бы бросил школу, но ходил в нее от скуки, да еще чтобы раздобыть книжек, которые приохотился читать.
Отвлекаясь и забегая вперед, скажу, что кроме учительницы отпугивал меня от школы предмет под названием алгебра, к которой в шестом классе прибавилась совершенно мне недоступная геометрия, да еще важно сообщено было, что наукам нет пределу и к геометрии со временем может подсоединиться тригонометрия.
На нож хаживал, кирпичом мне голову раскалывали, каменюками, дрынами и всякими другими предметами били, пинали меня, в кулаки брали, на кумпол сажали. Все я более или менее благополучно прошел, пусть и с неизбежными физическими и умственными потерями, однако такого страху, такой жути, как при словах “геометрия” и “тригонометрия”, не испытывал. Шпана есть шпана, на коварство, наглость и нахрапистость ответные качества появляются, соревнование в обмане, подвохах и наглости идет, с годами способность к сопротивлению, к отстаиванию своего достоинства, тело и душа совершенствуются. Словом, в драках и битвах толк был, закалялся я хорошо. Отпор какой-никакой научился давать, иначе ж прикончат. Но как сопротивляться геометрии, да еще и тригонометрии — чем отпор давать?
Пустота разверзлась, впереди, сзади, вокруг одна пустота при слове “геометрия”. А как с пустотой бороться? Была бы гора, так полез бы на нее, на гору, если не одолел бы, может, обошел бы.
Вот сколько ни жил я на свете, сколько ни переслушал умных слов, утверждающих, что мирозданию нет конца, все равно постичь этого не могу. Не могу, и все! Другие могут или притворяются ясновидцами и умниками, у меня не получается, потому как со дня моего рождения все имело конец, край, срок. Вот так же и с геометрией. Я тогда в ряд поставленное арифметическое действие и то одолеть мог с трудом и едва научился считать до ста. Какая тут могла быть алгебра и геометрия? Мало что знаки непонятные, так на тебе, действия разделили линейкой, и цифры расставили в два ряда, да еще Цехин ‑учитель — не без гордости предупредил, что действие может растянуться до бесконечности.
Бабушка моя родимая, зачем ты меня в школу снарядила? Зачем фартук на сумку перешила? Посмотрела бы ты, что со мной творят!.. Стою у классной доски, потею, крошу мел пальцами и ворочу такое, что народ в классе впокат ложится. Учитель математики Цехин, дымясь от напряжения, толкует, что действие, написанное мелом на доске, специально для меня, тупицы, подобрано, надо только сосредоточиться, подумать, как тут же все и решится. Но еще в первом классе арифметика ввергла меня в такую пропасть, где нету места соображению. Все темно, глухо, немо, ничего не живет там, не шевелится и не звучит. “Ну а дважды два сколько будет?” — доносится до меня взбешенный голос Цехина. “Два”, — выворачиваю я. “А дважды три сколько?” — “Шесть”. “Но почему же дважды два — два, а дважды три — шесть?..”
К этой поре меня начинало тошнить, с меня катилось потоком мокро, начинало пощипывать немытую кожу, рубаха и штаны прилипали к телу. Никуда уже я не был годен. Цехин отсылал меня на место, с остервенением, ломая перо, ставил в журнале “Оч. плохо”. Я и этому был рад. Освободили! Выпустили! Кончилась страшная мука.
“Попасть бы в школу, — томила меня мечта на уроках, — где нет ни алгебры, ни геометрии, тем более тригонометрии, и соображать и напрягаться совсем не надо”.
Только на уроках русского языка и литературы ощущал я себя человеком. Чувство неполноценности покидало меня. Я ретиво рвался в “бой”, тянул руку, желая высветить классовые противоречия в повести Тургенева “Муму” и демократические мотивы в произведении Пушкина “Дубровский”.
Оставшись два раза подряд на второй и даже на третий год, я решил покончить с надсадными, никому не нужными науками. До тригонометрии я так и не дошел, слава Богу, и после шестого класса отношения мои со школой не возобновлялись.
Но Бог с ними, с этими точными науками. В театр! В театр! Там веселее и понятней все, и все действия в один ряд.
Иногда в театре поднималась большая паника. Не раздумывая, я хватал в беремя Кольку и мчался с ним на улицу — так поступать мне наказывала мачеха. “Добро, — вразумляла она, — всегда можно нажить, а ребенок — он живой человек!” Однажды ночью театр горел особенно долго, и тушили его всем миром-собором. Мы с Колькой заспались, угорели и померли бы в подвальной клетушке, да вспомнил про нас артист, изгнанный из труппы по причине запойности, — он не единожды гуливал у нас с папой. Пожарные вытащили меня и Кольку наружу. Нас рвало. У Кольки не держалась голова, он ронял ее мне на плечо. Были разговоры, будто искал нас фотограф игарской газеты, чтобы заснять на руках у пожарников, проявивших мужество при спасении детей, но не нашел — спасенных детей мачеха укрыла в кочегарке нового театра. Старый закрылся окончательно. Публику из него вытряхнули, и, чтобы она не вздумала возвратиться, пожарные раскатили баграми уцелевшую часть гостеприимного и веселого заведения.
Узел с периной, подушками, старыми оленьими и собачьими шкурками, половиками какое-то время валялся за котлом в кочегарке. Мы с Колькой спали за котлом, полузадушенные угаром, потные от жары и пара, вымазанные глиной и сажей. Колька совсем увял в душине кочегарки, черный, худющий, перестал материться и свистеть, все тер кулачишками красные глаза и сам себе напевал: “О‑о-о‑о, о‑о-о‑о”.
Явился папа, трезвый, потертый и смирный. Мачеха взяла лом и пошла на него. Ее перехватил дежурный кочегар — переселенец из наших мест. Мачеха и кочегар срамили папу, он сидел на поленьях, смотрел в огонь тусклыми, то и дело в бессилии закрывающимися глазами и не отвечал им, не каялся, не слышал, должно быть, ничего, ничему не мог внимать, обессиленный пьянством.
Узел с добром, я и Колька были переправлены в пустое помещение летней парикмахерской, где недолго работал папа. Срубили для парикмахерской новый бревенчатый дом, но папу работать туда не перевели — “полька-бокс”, сооружаемая им на головах игарчан, не подходила под госты мод; брить, не повреждая людей, он так и не наловчился — “руки суетились”.
Мы отодрали доски, прибитые буквой “х” к окнам и двери парикмахерской, и зажили семейной ячейкой. Какое-то время все шло у нас ладно — папа поступил на курсы засольщиков рыбы, мачеха шуровала кочергой в долгозадом котле театральной кочегарки, поддавая жару родному искусству, я был дома за няньку и за истопника. Но ветхое сооружение сарайного вида, воздвигнутое под парикмахерскую на скорую руку еще первопоселенцами, сдавало под напором заполярных стихий. Однорамные окна нашего обиталища, хотя и были занавешены половиками, тепла не держали. Жизнь наша переместилась в угол. к железной печке, которая неустанно гудела и содрогалась от напряжения.
* * *
Первым сдал папа. Еще в молодости прихватив простуду, он маялся многими недугами и самой страшной болезнью — псориазом. Ехать в сырое Заполярье да еще на рыбный промысел ему не следовало.
Пришла с работы мачеха, затрясла головой, подшибленно- дураковатая, раскосмаченная, выла она, размазывая слезы по плохо отмытому от сажи лицу, и вокруг глаз ее размывало слезами черные ободки, какие нынешние девчата наводят для томности и азиатской загадочности. Колька лез ко мне под пальтишко, зажимая ладошками глаза. Он не орал, не выказывал страха, только дрожал так. что проволокой выступающие ребра его вроде бы позвякивали. Он у нас хороший малый, терпеливый, да обезножел, лишь начавши ходить. Бродил с осени, ушибался, но свистел, бормотал чего-то. Старый театр, кочегарка и парикмахерская доконали мальчонку. Из мачехиного воя и причетов я уяснил ‑отец в больнице. В тепле проведет всю зиму, сыт, умыт и беззаботен. Не в первый раз обострялась его болезнь после запоев, он надолго убирался в больницу, предавая семью, и предаст еще не единожды. Я сказал мачехе, чтоб она спасала Кольку — искала работу, жилье и уходила отсюда, иначе малому конец — кашель у него начался и ноги вот…
— А ты?
Мачеха, подбирая волосы под платок, высоко задрала руки, и меж распахнутых пол душегрейки обнаружился заметно побугревший ее живот: “Чего это она там спрятала?” — мачеха перехватила мой взгляд, поспешно запахнула полы, и я догадался, отчего пошли у нее цветные пятна по лицу, мадежами в деревне они зовутся.
— Уйду к нашим, — ответил я и покраснел.
Мачеха ровно ждала такого моего решения. “Правильно, — тараторила она, собирая манатки. Колька же плотнее и плотнее прижимался ко мне. — Кому, как не дядьям, не дедушке да бабушке позаботиться о сироте? Отец хворый, а я ‑какая мать? Со своим-то дитем дай Бог управиться, не ухайдакать его при такой жизни… Конечно, тесно у родни-то, комнатенка всего, ну да в тесноте — не в обиде… — И совсем уже заботливо наказывала: — Главное дело ‑потрафляй бабушке. Не огрызайся. Сяма не то, что я, сяма не любит этого. Ну даст Бог, все наладится, отец не подохнет, соберет всех в кучу…”
И по тому, как снизила она голос на “куче”, не сказывала, куда уходит, суетлива больно была, голос ее был шибко ласковый, я уразумел: и эта предает меня. Чувствует, знает — не пойду я “к нашим”, но балаболит, извертывается. А я‑то, я‑то ждал взрыва: “Какие еще тебе наши?! Я что, не наша?!” — и решительно заберет меня мачеха с собою. Всю жизнь тогда я буду покорным, уважать ее попробую, когда вырасту, защищать и кормить стану…
Избавившись от обузы, мачеха переминалась “для приличия” у обмерзшего порога парикмахерской. Я сидел за печкой на полу, обняв колени, и видел Колькины глаза, слезами сверкающие из толстого, неуклюже навьюченного на него тряпья. Вот-вот рухнет ко мне Колька с протянутыми руками, тогда я не выдержу, зареву тоже.
— Ладно, идите…
— Картошек поешь. Карасин в фонаре остался… Не обгори ночью-то… Долго тут не будь…
— Иди, иди…
Дощатая, по щелям просеченная белым дверь бережно, почти беззвучно прикрылась, обдав облаком стужи пустое жилище, на стенах которого остались незакрашенные квадраты от зеркал, настенных ламп и гвозди, забитые для какой-то надобности; провода мышиными хвостами торчали из стен; белела под потолком люстра, сделанная наподобие банного таза. Кроме люстры, досталось мне кое-что из нашего личного имущества: в углу лежала перина, подушка; на окнах половики висели, и, пока не забрала их мачеха, я мог “жить — не тужить”.
* * *
Самостоятельную жизнь я начал сразу, безо всякой подготовки. Мачеха из кочегарки ушла, дров мне там не дали. Я подглядел возле одного переселенческого барака нарту, явно лишнюю, укатился на ней к жилищу, отныне мне только принадлежащему, и обнаружил, что перины на месте нет, зато половики, подушка и кое-что из рухляди, главное — собачья и оленья шкуры ‑милостиво оставлены мачехой. “Хоть в тоске, да все не на голой доске! Дура дурой, а где надо, так умная, — не захотела вот со мной встречаться и не встретилась, имущество поделила по совести”.
Надо было взоидить нарту, что значит — облить водой, подморозить полозья, после подровнять топориком лед, чтобы нарта была ходовитей. Все это я проделал с большой охотой и, впрягшись через оба плеча в нарту, скоро волок уже с речного отвала воз сухой обрези, именуемой в Игарке макаронником. Нарубил я его целый ворох, надеясь ночью унести сырой лиственный кряж от театральной кочегарки, потому что макаронник горел порохом и его надо “сдерживать” топливом впросырь.
Я варил в ведре и пек на печке пластики картошки, не интересуясь, допеклись они или доварились, ел их, скорлушки бросал мышам, которые бойко возились по другую сторону печки, с ними было мне не так одиноко. Я добывал в читальнях библиотек книжки, уводил их, а они уводили меня в иной мир, помогали глушить тревогу и раной ноющую обиду на весь белый свет. Я понимал, что долго мне на картошке не продержаться, ослабну и не смогу на себе таскать возами дрова.
Я уставился взглядом на люстру, вывешенную посередь залы. В чаше люстры темнела мерзлая мухота, будто подвяленная смородина, по дну люстры, словно во льду, сверкала трещина, край люстры выбит, потому и не взяли ее с собой горкомхозовцы, а вещь хорошая. Если из десяти плевков хоть одним попаду в чашу люстры — решил я, — мне стоит сходить к нашим и понюхать, чего там и как. Плевать было хоть и невысоко, но из-за печки далеко, однако я не хотел хлюздить — все вокруг меня хлюздят. Так я не стану хлюздить и, раз загадал попасть в люстру из-за печки, шагу не сделаю, даже не поднимусь, как сидел, так и буду сидеть, в соревновании должна быть честность. Я попал в люстру шестым плевком, да так попал, что мухота сажей залетала по чаше люстры и пыль облаком заклубилась. “Силен, бродяга! Зер гут!” — похвалил я самого себя и отправился к нашим.
Меня приветили, усадили есть, про жизнь спрашивали. Я чего-то плел, старался не жадничать и не капать на клеенку, ел, что давала бабушка из Сисима. Дед привычно ругал отца: “И в ково уродился, сволочь такая?! Ну я вот его увижу! Ну я вот ему…”
Бабушка из Сисима поспешно взялась штопать рубаху прямо на мне, даже язык велела прикусить, чтоб память иголкой не ушить, затем украдкой от деда сунула мне рублишко — вот какая заботливая бабушка! Они, дед и бабушка, догадывались о моей беде, но прятались, прежде всего от дядьев — те не понимали, что со мной, где я живу, шуточки пошучивали, о гульбе думали. Отужинав после смены, Ваня — работал он рубщиком на лесобирже — вальнулся с книжкой на кровать. Вася щелкнул меня по лбу, свистнул в “квартире”, дразня бабушку из Сисима, и подался по девкам. Бабушкин сын Костька — тоже мне дядя, хотя и моложе меня, оказывал упорное сопротивление матери, заставлявшей его делать уроки. Он метил на катушку порезвиться и покурить там с ребятней, вот и тянул шею, заглядывая в обтаявшее сверху барачное окно.
Все заняты собою. У всех свои заботы. И у меня тоже. Главная из них: чего завтра пожрать?
Дома ждал меня гость, мой одноклассник и друг, Тишка Ломов, личность тоже выдающаяся, в дружбе до гроба верная и до того преданная, что со мною на второй, если потребуется, и на третий год останется в одном и том же классе.
Тишка дал мне пирожок с капустой и записку классной руководительницы моим родителям. Она была обеспокоена долгим отсутствием вверенного ей ученика, хотела знать — отлынивает ли учащийся, болен ли, и вообще она всегда старается лично знакомиться с уважаемыми родителями и со всеми уже почти знакома, кроме моих.
Плюнув на неразборчивую роспись учительницы, я бросил бумагу в огонь, чем привел Тишку в бурное восхищение. Вдвоем мы быстро наготовили дров, нахально уперли сутунок опять же от театральной кочегарки, и Тишка засиделся у меня допоздна, сообщив напоследок, что видел мою мачеху возле домов, строящихся на улице Таймырской.
Слабо теплившаяся надежда погнала меня на улицу Таймырскую, и там среди четырех из брусьев складываемых двухэтажных домов, в жарко натопленной сторожке, наполненной запахами стружек и выкипевшей из досок живицы, я отыскал мачеху и Кольку.
Малый метался на топчане, сколоченном из новых, свежепахнущих досок.
— Заболел наш Коле-енька, заболе-эл! — запричитала мачеха, схватившись за голову. Голос у нее был совсем уж лесной, дикий, вся она какая-то обвислая, сырая, губы мокры, раскосмачена, будто шаман. “Да она же выпившая, может, и пьяная!” — резануло меня догадкой, и я со страхом заметил на столе, из опять же белых, пахнущих досок сооруженном, уже нечистом, израненном ножиками, недопитую бутылку. На газете ржавели растерзанные иваси с выпущенными молоками, кусок хлеба, похожий на булыжину. Хлеб почему-то ломали, не пользовались ножом, воткнутым в щель стола. Пили тут рабочие, строители пили, совсем недавно, в обед пили.
— Ну, как ты? Не ушел к нашим-то? — на слове “нашим” мачеха сделала злой упор и затрясла спутанными космами: — Не нужны мы никому! Ни нашим, ни вашим… Ни-ко-му! Знать, бороной по нашей судьбе кто-то проехал… Допей вон вино, лучше станет, тепле‑е…
Мачеха, хоть и заполошная, хоть и с пьяницей жила, но к вину непривычная, ее развозило в жаре. Ночь, наверное, не спала — сторож все-таки. Может, много ночей не спала — ребенок хворый на руках, другой наружу просится; ни кола ни двора; муж из больницы табаку заказывает; где-то парнишка брошен, пусть неродной, но все-таки живой человек! Что, если мачеха вздумает допить остатки спирта? Ей ведь все равно — отчаялась. СгоритУмрет в судорогах. Что с Колькой тогда будет?.. Я схватил бутылку, задержал дыхание, остановил всякое движение в теле и в широко растворенный рот вылил спирт — так пьют настоящие умельцы, слышал я, так пьют ходовые мужики, покорители морей, воздушных, арктических пространств — и словно подавился горячей картошкой — ни взад, ни вперед ничего не подавалось и не пробивалось, прожигало грудь комком пламени, губы понапрасну схватывали воздух. Мачеха изо всей силы колотила меня кулаком по спине:
— Ну!.. Н‑ну-у‑у! Н‑ну-у-у‑у! Ой, тошно мне! Закатился парнишка-то!.. Л‑лю-у-уде-э-э‑э!..
Наконец разжалось, схватило воздуху обожженное горло; остановившееся сердце пошло своим ходом, и я смог перевести занявшийся дух. Убедившись, что я ожил, отошел, мачеха упала головой на край топчана, подгребая к себе Кольку:
— Зарублю! Если Колька помрет, отсеку башку твоему отцу!..
Я толкнул задом дверь, выпятился из сторожки. Следом несся сорванный голос человека, давно и безнадежно заблудившегося. Я зажал драными рукавицами уши, побежал куда глаза глядят. На какой-то улице, возле каких-то подпрыгивающих бараков катавшиеся с крыши сарая или с чего-то высокого и тоже подпрыгивающего ребятишки кричали: “Пьяный! Пьяный! Оголец пьяный!..” Я схватил палку, погнался за ребятней, запнулся, упал, ободрал в кровь колени. Какие-то дядьки и тетки поймали меня, ругались, хотели бить, но меня начало рвать, и они брезгливо отступились.
Неизвестной мне дорогой — пьяных же черт водит! — я проник на конный двор, располагавшийся в соседстве с парикмахерской, попал в стойла к рабочим коням, если б к жеребцу — зашиб бы он меня. Обнимая смиренную конягу за шею, истертую хомутом, я чего-то ей объяснял, целовал в окуржавелую морду. У коняги подрагивали широкие ноздри, она деликатно отворачивалась от меня, как девушка в автобусе от назойливого пропойцы. В печальном глазу коняги стоял молчаливый мне укор. И по сию пору, когда я гляжу на рабочую конягу, мне вспоминается покойный дедушка Илья Евграфович, и тогда тоже, видать, вспомнился. “Эх, дедушка, дедушка! Царство тебе небесное! — запричитал я. — Ты не бросил бы меня…”
Выплакавшись, я, должно быть, поспал в стойле коняги, потому что очнулся в соображении, нагреб из кормушки овса в карман и потрепал извинительно конягу по гриве;
— Голодуха — не тетка! Тебе еще дадут.
Холодина в парикмахерской была такая же, что и на улице.
Мышей не слышно и не видно — норками ушли на конный двор, там сытнее и теплее. Я разживил печку, подгреб в кучу грязные, облезлые шкуры, закутался в половики, жарил овес на вьюшке и выгрызал из шелухи зерна. Наловчился я в этом деле. “Беда вымучит и выучит”, — говаривала бабушка Катерина Петровна. Жива ли она? Надавливая зубами на зерно, я посылал ядрышки в рот и хрумстел, думая о бабушке и о разных разностях. “Овеяно зернышко попало волку в горлышко”, вспомнилась бабушкина присказка, только ему, волчьему-то горлышку, все нипочем, а мне язык накололо. Я пробил в зеледенелом ведре дырку, попил через край воды, и меня снова разморило у горячо полыхающей печки, в пьяную жалость и слезу повело. “В Ледовитом океане, — затянул я только что появившуюся песню, — против северных морей, воевал Иван Папанин двести семьдесят ночей. Стерегли четыре друга красный флаг родной земли до поры, покуда с юга ледоколы не пришли…”
Пел и плакал — жалко было Ивана Папанина.
* * *
В ту ночь я едва не замерз. В печке погасло. Со шкур я скатился, и только подушка, угодившая мне под бок, спасла меня от тяжелой простуды, может, и от смерти. Малую простуду — кашель, бивший меня, вечный уже насморк я болезнями не считал.
Боль в голове, одиночество ли, особенно тягостное с похмелья, надежда ли отогреться и чего-то пожрать стронули меня с места, потащили в тринадцатую школу. Располагалась наша отстающая школа в бывшем помещении горсовета. Наверху, на втором этаже школы, все еще оставались разные службы, для которых достраивалось отдельное помещение. Службам этим, особенно сотрудникам гороно, учащиеся мешали выполнять обязанности, бегая по коридору и резвясь на лестницах.
Готовый дать в морду любому, кто станет приставать с расспросами или обзываться, весь внутренне подобравшийся, ощущая колкую щетину на спине, я шагнул в класс и понял, что друг мой, Тишка Ломов, провел “серьезную работу” среди учащихся — меня никто не “видел”. Тишка пересунул в пустующее передо мной отделение парты ломоть хлеба, жиденько намазанный томатной пастой. Я приподнял клапан парты, наклонился и быстро изжевал, да что там изжевал, заглотил кусок хлеба и облизал кисленькую пасту с губ. Тишка коршуном глядел вокруг, остерегая таинство моей трапезы.
Задребезжал звонок. В класс с указкой, картами и журналом в беремени вошла Ронжа — такое прозвище носила учительница за рыжую вертлявую голову, зоркий глаз и керкающий голос. На самом деле Софья Вениаминовна, географичка, наш классный руководитель. Ростику Ронжа от горшка два вершка и потому готова уничтожить всех, кто выше ее и умней. Поскольку выше ее и умней были все люди вокруг, она всех, над кем ее власть, а власть только над учениками, терзала.
Пронзив голубым, душу леденящим взором пятый класс и сразу все в нем увидев, Ронжа уцелилась клювом в меня:
— Явился не запылился! В перемену побеседуем…
Беседе не суждено было состояться.
К середине урока меня крепко разморило в тепле, и я стал кренить голову на парту. Сзади меня началось смятение. “Девчонки увидели на мне вшей, ‑догадался я, втягивая голову в плечи. — Выползли, заразы! Не сидится под рубахой, в тепле…”
— Встать! Вста-ать! Вста-а-а-ать!
Кто-то рвал меня, тащил за руку. Я поднял голову и в плавающей паутине сна различил что-то рыжее, с дергающимся хохолком, с острым клювом. Дружески улыбнулся я рыжей птахе, повсеместно обитающей в российских лесах, красивой птахе, но вороватой, ушлой и шибко надоедной. Птаха издала поросячий визг, и я проснулся. Из-за парты, в которой я застрял, вытаскивало меня малосильное существо женского пола, трясущееся от бешенства.
Я стоял у доски по команде “смирно”. Ронжа, поцокивая каблуками, мне чудилось — коготками, скакала вокруг меня, будто возле корыта с прикормом, обзывала лоботрясом, идиотом и тому подобными словами, стоящими на ближних подступах к матюкам. Я плохо ее слышал и никак не мог удержать голову. Дремал. То, что я не огрызался, прикемаривал на глазах у всего класса, распаляло учительницу, уязвляло пуще всякой наглости, и в слепом обозлении перешла Ронжа ту ступень, которую переступив, даже бесстрашная мачеха бросала все дела и убегала куда подальше, надежно хоронясь от пасынка.
— Грязный, обшарпанный, раздрызганный! — Ронжа выдернула из моих штанов рубаху с прожженным подолом, оттого и заправленную под ошкур брюк. Валенки — расшлепаны, мною же проволокой чиненные, “просили каши”; прихваченные через край суровыми нитками, заплаты на штанах поотрывались; стриг меня папа под “польку-бокс” еще на рыбалке, в баню я тоже затепло ходил, нагольного белья на мне не было. Заталкивая рубаху обратно под штаны, я нечаянно показал исцарапанное ногтями тело. Кто-то в классе хихикнул и тут же получил громкую оплеуху от Тишки Ломова. Ронжа мигом выдворила Тишку из класса и собралась обличать меня дальше, но сидевшая сзади меня дочка завплавбазы или снабсбыта подняла руку — левая сторона ее кошачьей мордочки сделалась еще сытнее, вроде она конфетку за щекой мумлила — Тишка отоварил! Человек — Тишка!
— Ну что у тебя, Переудина? — недовольная тем, что ее прерывают, спросила учительница.
— Софья Вениаминовна, у него вши…
Ронжа на мгновенье оцепенела, глаза у нее завело под лоб, сделав ко мне птичий скок, она схватила меня за волосья, принялась их больно раздирать и так же стремительно, по-птичьи легко отскакнув к доске, загородилась рукой, словно бы от нечистой силы.
— Ужас! Ужас! — отряхивая ладонью белую кофточку на рахитной грудешке, со свистом шептала она, все пятясь от меня, все загораживаясь, все отряхиваясь.
Я уцелил взглядом голик, прислоненный в углу, березовый, крепкий голик, им дежурные подметали пол. Сдерживая себя изо всех сил, я хотел, чтоб голик исчез к чертям, улетел куда-нибудь, провалился, чтоб Ронжа перестала брезгливо отряхиваться, класс гоготать. Но против своей воли я шагнул в угол, взял голик за ребристую, птичью шею и услышал разом сковавшую класс боязную тишину. Тяжелое, злобное торжество над всей этой трусливо умолкшей мелкотой охватило меня, над учителкой, которая продолжала керкать, выкрикивать что-то, но голос ее уже начал опадать с недоступных высот.
— Ч‑что? Что такое?.. — забуксовала, завертелась на одном месте учителка.
Я хлестнул голиком по ракушечно-узкому рту, до того вдруг широко распахнувшемуся, что в нем видна сделалась склизлая мякоть обеззвучившегося языка, после хлестал уже не ведая куда. Я не слышал криков, визга, не заметил, как в панике сыпанули за двери парнишки и девчонки, покидая родной класс и учительницу; черные стрелы замелькали перед глазами — разлетались прутья голика; на мгновенье возникло передо мной окровавленное лицо учительницы, но кровь на напугала, не отрезвила меня, наоборот, она прибавила озверения и неистовства. Ничего в жизни даром не дается и не проходит. Ронжа не видела, как заживо палят крыс, как топчут на базаре карманников сапогами, как в бараке иль жилище, подобном старому театру, пинают в живот беременных жен мужья, как протыкают брюхо ножом друг дружке картежники, как пропивает последнюю копейку отец, и ребенок, его ребенок, сгорает на казенном топчане от болезни…
Не видела. Не знает. Узнай, стерва! Проникнись! Тогда иди учить. Тогда срами, если сможешь. За голод. За одиночество, за страх, за Кольку, за мачеху, за Тишку Ломова — за все полосовал я не Ронжу, нет, а всех, бездушных, несправедливых людей на свете. Голик рассыпался в руке — ни прутика, я сгреб учителку за волосья, свалил на пол и затоптал бы, забил до смерти жалкую, неумную тварь, но судьба избавила меня от тяжелого преступления, какой-то народ навалился на меня, придавил к холодным доскам пола.
— Витька! Витька! Бешеный! В колонии сгноят!.. — далеко где-то кричал и плакал Тишка Ломов.
— Мальчик! Мальчик! Что ты, мальчик? — просил, умолял кто-то. ‑Успокойся! Успокойся, мальчик…
Не сразу, но дошло: взывают ко мне. Я — мальчик?Забыл совсем об этом, забыл — мальчики и девочки бывают в детстве. Где же оно, мое детство? За горами, за долами, за далекими лесами, в родной сторонушке, у родимой бабушки. Накоротке отшумело мое детство, Троицыным зеленым листом, отцвело голубым первоцветом…
— Пустите меня. Не держите…
Меня повели в учительскую. В коридоре, прижавшись к стенам, стояли, онемело глазея на меня, учащиеся. Со второго этажа, свешиваясь через деревянный брус лестницы, глядели служащие. В учительской, бледная, возмущенная, что-то говорила директорша школы, голос ее набирал силу, переходил в крик. Куда-то звонила завуч, то и дело роняя очки на пол. Откуда-то всякого народу дополна набилось. Появился наконец и милиционер, которого разом взяли в круг учителя, задергались, возмущенно тыча пальцами в меня, в Ронжу, поверженно лежавшую на диване, слабо стенающую, боязливо сморкающуюся кровью в батистовый платочек. Долетали, но мало меня трогали страшные слова; суд, тюрьма, исправи- тельно-трудовая колония, дознание, факты, “мы все свидетели”. Скучно среди этих людей, будто в худом заполярном лесу поздней осенью. И холодно. Очень. Трясло, прямо-таки зыбало меня так, что весь во мне ливер перемешанно болтался. Я схватывал, схватывал рубаху на горле, с которой оторвалась последняя пуговица. Да какое от рубахи тепло? “Свидетели! — с презрением отметил я. — ЧЕ же вы не заступились-то за Ронжу? Свидете-еэ-телиНеужто лихорадка опять? Зимой? Эта похлеще листопадицы! Пропал я!..”
Хотелось лечь, свернуться, укрыться чем-нибудь теплым. “Домой”, за печку бы!..
Выслушав гомонящее учительство, милиционер надел шапку и буркнул: учительша-де тоже птица хороша. Сами-де тут разбирайтесь, да прежде покормите малого и одежонку из каких-нибудь фондов выделите…
Я приостановил в себе озноб, выглянул из людской чащи, забившей учительскую, из-за кочек лиц, из-за выворотней туловищ — милиционер был пожилой, мужиковатый. Он не приложил руку к шапке со звездой, он поклонился, сказав: “Извините!” — и осторожно прикрыл за собою дверь.
Наступило молчание, растерянное иль зловещее — не понять.
— И то правда, — прежде накормить, — спустя большое время вздохнула седая женщина. Она курила возле окна, кутаясь в теплый платок, и, кажется, одна только не орала, не бегала по учительской.
— Но, Раиса Васильевна!
— Что Раиса Васильевна?! Что? Набросились гамозом на го- лодного мальчишку… Милиционера позвали… руки крутить… Да? Чего молчите? Идем со мной, парень! — метко бросив папиросу в форточку, проговорила Раиса Васильевна и властно, как маленького, взяла меня за руку.
Мы поднялись по деревянной, замытой лестнице наверх, туда, где еще располагались разные службы, и в конце коридора вошли в комнату, на двери которой тускло светились буквы: “ГОРОНО”.
За тесно составленными столами трудились разные люди, которые сделали вид, будто не заметили нас с Раисой Васильевной. В соседней комнате, куда была распахнута дверь, громогласная женщина крыла кого-то по телефону, так крыла, что графин или чернильница на столе звякали — каждое слово она припечатывала ударом кулака по столу.
“Грозная контора!” — поежился я и решил, что здесь-то меня и “оформят в исправиловку”. Раиса Васильевна усадила меня за длинный стол, заваленный бумагами, над которым написано было “Инспектор гороно”, сама ушла. Впервые в жизни попав за казенный стол, да еще под такую давящую надпись, я крепко оробел. Женщины, пожилые и молодые, писали бумаги, ставили на них печати, звонили куда-то, и я начал успокаиваться. Явилась Раиса Васильевна, принесла стакан со сметаной, прикрытый ломтем белого хлеба, поставила его передо мной на стекло, сказала: “Ешь!” — и отправилась в комнату, где уже утихомиренней продолжала разговаривать по телефону женщина. “Но! Но! А они-то что? Они-то? У них-то своя голова на плечах есть? Почему я должна за всех отдуваться?.. Но! Но!..” — Должно быть, Раиса Васильевна ушла, чтоб не стеснять меня, да плевать мне на всех — не было больше моих сил терпеть, жрать так хотелось, что голова кружилась. Деловая обстановка в конторе, брань женщины, голос ее в соседней комнате, как бы понарошке грозный, не пугали меня, наоборот, приутишили смуту в моей душе, и тепло здесь было — за спинкой стула Раисы Васильевны шипела батарея, крашенная голубенькой краской. Я еще и с едой не управился, как явилась из соседней комнаты женщина, коротко стриженная, фигурой напоминающая круглый сутунок, к которому безо всякой шеи приставлена голова.
— Чего дерешься-то? — по голосу я узнал ту самую, что разорялась только что по телефону, и не мог сообразить, чего ей сказать, да она и не ждала ответа. Примостившись на край стола мягко раздавшимся задом, она закуривала и, когда я снова принялся за еду, еще спросила: — Не знаешь, что ли, мужчине женщину бить не полагается?..
“А ты старый театр знаешь? — хотелось спросить у этой женщины-коротышки. — Папу моего знаешь? Как они с мачехой сгребутся да в топоры! А я их разнимать… Ты-то знаешь, да тоже прикидываешься дурочкой. Ну и я дураком прикинусь!”
— Не знаю, — дожевывая хлеб, пробубнил я в ответ и, покончив с пищей, внятней добавил: — Я еще мальчик.
— Чего-о‑о? — коротышка женщина и Раиса Васильевна вместе с нею так и покатились: — Ну и гусь ты лапчатый!
Сотрудницы гороно начали прислушиваться к разговору. Я поднялся, одернул рубаху, поблагодарил Раису Васильевну за угощение и, вытянувшись по стойке “смирно”, с вызовом брякнул:
— Готов следовать куда прикажете!
— Чего-чего? — снова поразилась заведующая. — Ты и в самом деле гусь! — и обвела присутствующих взглядом. Раиса Васильевна покивала ей головой, дескать, то ли еще будет.
— В кэпэзэ, в тюрьму, на каторгу, — с солдатской готовностью рубил я.
— Да ладно тебе! — буркнула Раиса Васильевна. — На каторгу… Сиди уж, — и поспешила следом за коротышкой в другую комнату, и, когда закрывала створки, я заметил буквы: “Зав. гороно”. Прежде чем запахнуть дверь, заведующая обернулась и зачем-то погрозила мне пальцем, тоже коротеньким, хотела выдать чего-то грозное, руководящее, но Раиса Васильевна потеснила ее собою, утолкала за двери.
Тепло разливалось по моему нутру от еды. Боясь снова опозориться, уснуть, я стал искать развлечений и под стеклом, среди бумажек, театральных билетов, облигаций Осоавиахима, каких-то бланков и справок, обнаружил карточку молодого, красиво одетого парня. В галстуке парень, в темном костюме, подстриженный, причесанный, он напряженно сдерживал улыбку, но она все же просквозила в глазах, тронула большие губы, какие чаще всего бывают у мягкосердечных людей. Такие парни слушаются мам и пап, старательно учатся, их выбирают в пионервожатые, в редколлегии стенгазет, посылают на слеты, таких мы с Тишкой лупили…
Где-то я видел такую же карточку? Где? Брезжило, брезжило и прояснилось, да вон же, внизу, у крыльца, деревянная пирамидка! На пирамидке, крашенной в защитный цвет, разлапистым крестом укреплен поврежденный пропеллер самолета и три карточки врезаны в дерево: двое в летчицкой форме и один вот этот парень, в гражданском, при галстуке. Изучали они чего-то в тундре и обледенели — самолет гробанулся. На могилу, не по правилам, не на кладбище, в центре города, у горсовета сделанную, пионеры и всякие заслуженные люди приносят цветы.
— Задремал? — Я вскинулся. Раиса Васильевна кивком показала, чтоб я освободил место, села, расписалась в продолговатой бумажке со штемпелем и печатью, перехватив мой взгляд, на мгновение сникла, затем коротко, с устоявшейся болью молвила: — Сын. — И протянула мне бумажку: — Вот тебе направление… В детдом направление. И не вздумай не пойти!..
Раиса Васильевна проводила меня до запасного выхода — не хотела, чтоб я прошелся по коридору родной школы, и уже на площадке лестницы спросила:
— Ты любишь читать?
— Ага.
— Так вот тебе мой совет: никогда не бросай книжки. Читай. Больше читай. И не дерись. Нехорошо это. Ладно, ступай. Тебе еще много назиданий слышать. — Раиса Васильевна посмотрела в сторону со вздохом: — Горазды мы на них. Благо ничего не стоят. Мужики и бабы, бывало, сперва хлеб голодному, потом молитву. Мы ж наоборот… — Раиса Васильевна осеклась; отвалил мне Бог рожу — все, что переживаю, на ней видно. — Варежки где? Потерял?
— Нет у меня варежек. Рукавицы-верхонки есть. Я в них дрова рублю.
— В детдоме выдадут. Ну беги, беги! Холодно тут. — Раиса Васильевна куталась в теплую шалюху или шарф, под которым еще пестрел свитер. “И чего человек мерзнет? На лестнице потеплей, чем в “моем доме”, и одежда — не моей чета!” — думал я, томясь: не хотелось мне в детдом, но нельзя обманывать Раису Васильевну. Если таких людей начнешь обманывать, хана тогда всякой вере и совести.
Спустившись по лестнице, я поднял голову, увидел еще раз Раису Васильевну, не всю, только седую ее голову, склоненную над перилами, увидел и огромные, куда-то в пустоту глядящие глаза. Серой совой, ослепленной снежным светом, почудилась мне женщина из гороно, которую я видел в первый и последний раз — весной во время ледохода он скончалась от больного сердца. Ее портрет был напечатан в газете “Большевик Заполярья”. Я хотел содрать газету с забора лесобиржи и вырезать портрет Раисы Васильевны, да где же мне было его хранить-то? — ни блокнота у меня, ни бумажника в ту пору не было.
* * *
Сподобило меня прочитать какую-то дряхлую книжку о старом приюте да баек досыта наслушаться от обитателей старого театра о специсправиловках, о страшных детдомах. Понимал я, конечно, что кормить ивасями и не давать воды, пороть проволочной плетью, бросать в карцер, где крысы живьем съедают нашего брата, — в детском доме едва ли станут, но все ж страх камнем лежал на дне моей души, и без того уже крепко надорванной. С людьми схожусь я трудно, а в детдоме ведь не просто люди — шпана там, и волю, так мне поглянувшуюся, терять не хотелось. Пусть голодную, бесприютную, одинокую, но волю: живи как хочешь, делай что угодно. И главное, верилось: наступят, не могут не наступить времена счастливые.
Словом, решил я не торопиться и глубоко обдумать положение. “Никуда от меня не денется детдом-то”.
Неторопливо прошел я мимо тринадцатой школы, пооколачивался в хлебном ларьке. Ничего там не обломилось. Я особо не горевал: как-никак маленько подкрепился в гороно. Вырулив в свой переулок, я посеменил вдоль заплота конного двора и замер: такая постигла меня неожиданность. Бабушка моя, Катерина Петровна, принялась бы при такой неожиданности кресты на грудь бросать: “Матушка, Царица Небесная! Милости и благодати Твои, яко солнце Божье, всевечны…” Над жилищем моим, над хибарой сортирного типа, крашенной в небесный цвет, утонувшей до застрехи в снежных забоях, струился дымок. Значит, жизнь идет, мачеха вернулась, может, и отец? Да пусть бы и отец ‑все какая-никакая живая душа, в казенный дом не идти, не прилаживаться к детдомовской шпане, не менять пробитое русло жизни.
В убежище моем, за полыхающей печкой нахохленно сидел Тишка Ломов.
— Убег? — спросил он.
Я сел рядом с ним и показал бумажку. Он ее прочел, шевеля губами, задумчиво вернул:
— Померла бы матуха, вместе бы пошли. Вместе не так боязно.
Я встал на карачки, пошуровал железиной в печи, подбросил дров. В избушке притемнилось, по ту сторону печки синичкой пискнула мышь, послышался ей ответ из-под вывороченных половиц, и зашебаршила картофельная скорлушка. Работают мыши, кормятся безбоязно, они настолько привыкли ко мне, что иной раз по лицу норовят пробежать. “Чудно дядино гумно — семь лет урожаю нет, а мыши водятся!”
— Я у тебя поживу, — не то попросился, не то разрешил себе Тишка.
— Живи! — Я взял топор, развалил сырую чурку пополам. — Только жрать нечего.
— Воровать будем.
— Ты воровал?
— Нет.
— То и треплешься. Воровать страшно.
Гудела печка — “хороший людя” — как сказали бы о ней приенисейские остяки. Что бы я и все мы делали без печки? Без огня? Неужто в детдом идти все же придется? Ах ты! Ах ты! До чего не хочется, до чего боязно…
Тишка, ровно бы оправдываясь, рассказал, почему он не может явиться домой. Это он перенял у школы милиционера и поведал ему все, как было, оттого и пришел милиционер в учительскую такой сердитый. Дома у Тишки мать и старший брат Пашка — они из переселенцев. За старшего в семье Пашка ‑художник в городском кинотеатре, а беснуется дома хуже урки. Примется Тишку бить — нет у него под рукой другого предмета, кроме полена или железной клюки. Сколько раз из памяти вышибал Тишку. Мать запугал до смерти, она и без того запугана переселением, утерей троих детей, подрублена цингою, беззубая, кости у нее по-старушечьи выступили и хрустят, в тридцать-то семь лет! Работает мать Тишки сортировщицей пиломатериалов на лесобирже. С работы явится, на топчан заползет и лежит пластом. “Прибрал бы скорее Господь. Ослобонить бы себя и вас”, — говорит. “И освободи! Чего волынишь?!” ‑кричит родной сын Пашка.
Тишка другой раз пожалеет мать, печь истопит, сварит похлебку или кашу, горячим себя и ее побалует. Пашка дома не ест. Как личность интеллигентная, кушает он в ресторане, под баян. Бабу завел Пашка, модную, курящую. Сидит красотка па топчане, бренчит на гитаре и песенки поет про отчаянных капитанов, про маленькую Мэри, пьяная нажрется, так про Колыму и про блатную жизнь поет-рыдает, в Пашку бросает туфлями. Тишке с матерью совсем не стало места в барачной комнатенке. Терпеливо ждут они, когда та, ни квартирантка, ни жена — прости-господи и воровка, коих летом на морпричалах дополна, надоест художнику и он ее удалит из помещения.
— Пойдем-ка, Тимофей, дровами запасаться, — с кряхтеньем начал я вылазить из-за печки.
— А в детдом?
Я глянул на него; “Предавал я кого? Предавал?!” — так выразительно глянул, что он заторопился искать рукавицы.
— Уж и на понт не возьми человека! Совсем шуток не понимает!
Мы приперли воз макаронника, быстро его изрубили, затем весело и непринужденно накатали сырых чурок от кочегарки драмтеатра и сверх того ящиков от магазина свистнули. В фанерном ящике обнаружилась подмокшая, слипшаяся в углу сахарная пудра от конфеток. Мы разболтали ее в консервных банках, попили душистого, как мыло, кипятку.
Пока пили сладкую водичку да болтали о том о сем, меня посетила мысль еще раз наведаться в магазин номер три, уткнувшийся рылом в снег за дорогой, и промыслить чего-нибудь из еды. Магазин был построен глаголью, то есть у него была загогулина, к которой примыкала казенка, тамбур такой, вроде сеней. Из казенки теплая дверь вела в само помещение, притворялась она неплотно, в щель тащило стужей. В магазине, особенно в загогулине, холодно было даже летом, о зиме чего и говорить. Продукция в “тройке” размещалась согласно климату: жиры, рыба, мясо, икра — у двери, дальше — что послаще — конфеты, пряники и винные изделия; еще дальше: картошка, свекла, капуста, лук, чеснок и всякие прочие овощи, сырые, сушеные, консервированные.
В прелью воняющем овощном отделе топилась печка-голландка. Прижимаясь к ней, продавщицы вышоркали не только известку, но и кирпичи повыворачивали ядреными задами. По левую сторону дверей штабельком стояли ящики, в щелях которых светились банки. Ящики и пошатнувшаяся голландка отгораживали полутемную магазинную загогулину от продавщиц, обхвативших круглое тело печи, будто собственного дорогого мужа. Я дождался, пока ни одного покупателя не осталось возле крайних весов и продавщица стриганула к голландке, смел все крошки, обрезки мерзлого мяса и рыбы из-под весов и, была не была, скребанул из эмалированного таза горсть скоромного масла. От грязных ногтей в желтом масле остались темные царапины, но уж делать было нечего — бухнул в сырую дверь плечом, вывалился на улицу и выпустил из груди спертый дух. Сердце мое звякало о ребра, руки дрожали, в штанах сделалось сыро.
— Ты чЕ? — испугался Тишка.
— Вот! — выгружая из грязного кармана слипшиеся комочки мяса, крошки рыбы и косточки, захлебывался рваным смехом. — Варить будем! Щи — хоть портянки полощи!
Я пощупал свой лоб — клейко, “мед” выступил. “Пусть кто-нибудь скажет мне, что воровать легко!..”
В мешке оставались еще мерзлые картошки, стучали камешками. Суп ‑картонная вылупка, получился мутный. Однако жиров было много, и мы хорошо нахлебались горячего варева. Как водится у степенных, хозяйственных людей, после сытного ужина мы сумерничали, вели неторопливые беседы. Тишка приучал меня курить подобранные на улице бычки. “Пить вино, уродовать людей, воровать — уже могу. Осталось курить научиться — и порядок!”
Утром Тишка ушел на разведку домой и в убежище мое не вернулся.
Но я недолго тужил о Тишке. У меня появился новый друг — Кандыба.
* * *
В хлебном отделе гастронома я наметил к уводу краюшку хлеба, лежащую возле весов, и все примеривался да прицеливался к ней, но упускал моменты. То мне казалось, что продавец уже приметил меня и ждет не дождется, когда я потяну горбушку, чтоб огреть меня гирей по башке, то в очереди к прилавку “не те люди” были, при которых можно незаметно что-либо стянуть. Измучился я весь, сопрел, а есть хотелось до стона в кишках. Горбушка, в полкило примерно весом, так и кружилась в глазах, ощущался даже кисловатый вкус ее во рту, как хрустит корочка на зубах, чуялось. Сытое тепло разойдется по всему телу, в сон потянет, уютно и спокойно на душе сделается — и все это от горбушки, такой близкой и такой недоступной!
Терпенье мое иссякло, и я решил действовать “на шарапа” — схватить горбушку и убежать из магазина. С этаким дерзким планом я продвинулся к весам, в который уж раз кружанув возле прилавка. Впереди меня втиснулся в очередь парнишка в толстой, латаной гуне с кошачьим воротником, в шапке, единственное ухо которой так ловко было заделано, что выходило как бы два уха у шапки, и мерзнуть никакой половине башки парень не дозволял. “Черт в подкладке, сатана в заплатке”, — говорится о такой лопотине иль о человеке, одетом в нее, и не зря говорится, как я скоро распознал.
— Загорожу! — дыхнул мне в лицо табачной гарью парнишка, и так ловко все сотворил, что горбушка мигом отделилась от продавца и глазастого люда.
Я сунул горбушку за пазуху и вышел из магазина, не зная, как теперь быть: дождаться ли малого в одноухой шапке, спрятаться ли за ближние дровяники и умять хлеб, но сам уже рвал зубами горбушку, спрятавшись за поленницу трухлого макаронника.
Просунулась сюда же одноухая шапка, следом мордаха, по-песьи работающая ноздрями, пришкандыбал, сильно припадая на изогнутую в колене ногу, сам парнишка с быстрыми, смешливыми глазами.
— Мандру пополам! — распорядился он.
— Чего?
— Хлеб. Не умеешь по-блатному?
— Не умею,— признался я, с сожалением половиня горбушку.
— Научу. Надо бы буханку брать, сурло немытое. Всегда надо брать больше, чтобы не так обидно, когда поймают… — выдал он мне первый свой совет из огромной, бескорыстно преподанной затем науки беспризорника.
— Тебе чЕ, ногу-то граждане выворачивали?
— Не‑э, это с юного детства у меня. С полатей упал. Оказалось, мы уже встречались с Кандыбой — такая кличка была у парнишки — в кое-каких укромных местах, да не разговорились “по душам”, дураки такие. А ведь так необходимы друг другу!
Кандыба почесал под шапкой:
— Не проняло: один кусок на два пустых брюха, все равно что один патрон на двух героических бойцов. Пойдем вместе, найдем двести!…
Мы двинули в столовую. Кандыба зорко отыскивал воткнувшиеся в снег или “не насмерть” затоптанные по дороге бычки, обрывал мерзлые концы и которые бычки курил, которые прятал в лохмотья и за отворот шапки — про запас.
В столовке Кандыбу знали и взашей поперли, а меня нет. Я подсаживался к столам и доедал из тарелок суп, котлеты, рыбьи головы, обломки хлеба прятал в карманы. Была до войны у интеллигентно себя понимающих людей распрекрасная привычка — оставлять на тарелке еду “для приличия”. По остаткам кушаний я заключал, кто за столом кормился: вахлак тупой и жадный или тонкой кости и истинного понимания этикета человек.
Одна муха не проест и брюха — вот уж правда так правда! Двое нас стало, и какая жизнь наполненная пошла. Получился у нас с Кандыбой союз такой, какого не было у меня вплоть до того, пока я не вырос и собственной семьей не обзавелся.
Перед писаными распорядками, всякими организациями Кандыба пасовал, терялся, чувствовал себя угнетенно и потому драпанул из двух уже детдомов, до Севера вот добрался и “нечаянно” зазимовал в Игарке. Кандыба обожал волю. Воля эта пуще неволи — узнаю я после. Только “на воле”, оставшись “в миру” сам с собой, он не знал унижений, чувствовал себя полноценным и полноправным человеком; умел постоять за себя, не страшась никакой борьбы и невзгод.
Вольной и беззаботной птицей рожденный — мать он зачем-то упорно отыскивал повсюду, из-за этого и в Игарку попал, Кандыба и сам хотел вольно прожить лета, отпущенные ему судьбою. Лет этих выпадет немного ‑семнадцать. Умрет он в больнице исправительно-трудовой колонии от костного туберкулеза, так и не смирясь с судьбой инвалида.
Кандыба пришел в восторг от моей хазы — так сразу окрестил он бывшую парикмахерскую, заявил, что берет на себя прокорм, а я чтоб дымом и огнем владел, читал бы ему книжки и рассказывал всякую всячину. Посулился Кандыба за короткий срок сотворить из меня карманника, чтоб, если один завалится, не доходить с голоду. Дело с обучением сразу потерпело крах — после первой же попытки “пощупать кошелек” я попался. Меня били на крыльце магазина. И ладно, большинство игарских граждан обуты оказались в оленьи бакари и валенки, а то бы мне все ребра переломали.
Вид мой вогнал Кандыбу в удручение.
— Во, напарили, блиндар! — покачал он головой. — До новых веников не забудешь! — и приказал мне зажмуриться и вытянуть руки. — Нервы! — сделал Кандыба заключение. — Расшатаны! В карманники негоден. — Смазав лицо мое солидолом — банка с солидолом осталась в хламе, парикмахеры мазали им машинки или сапоги, мы же приспособили вместо мази, еще пепел из печи пользовали да серу с поленьев — это уж я от таежников перенял, Кандыба обследовал меня — нос, челюсти не сломаны ли? При этом он доступно, будто фельдшер пациенту, объяснял, как вести себя, если попадешься. Надо поперед всего “вывеску хранить”, падать вниз лицом и загораживаться руками, телом не напрягаться, распустить следует тело, чтобы кисельное оно сделалось, тогда, если даже пинают сапогами, бузуют палками — кости не переломают.
— Работа наша давняя и трудная очень, — заключил Кандыба. — Я так кумекаю: человек токо-токо научился мозгой шевелить, тут же сообразил — чем спину гнуть из-за еды, легче ее украсть, отобрать у младшего, лучше — у соседа. Но по брюху, по брюху надо брать. Обратно, разница: кто почему ворует? Один от голодухи, другой из интересу. Который из интересу, от жадности — того смертно бить. Но лупят всеш-ки нашего брата голодранца… безопасней…
Рот открывши, слушал я нового своего друга: “Да уж малый ли это? Оголец ли? Годок ли мне? Видно, ничего в мире просто так не делается, и уж не зря, ох не зря судьба нас соединила”.
Пошла жизнь складно и ладно, Кандыба промышлял в магазинах, столовых и разных кладовых, я заделался как бы замом его по хозяйственной части и по культурно- просветительской тоже, обеспечивал братство наше топливом, светом, водою, заботился о полезном досуге, читал вслух книжки, рассказывал о лесах, озерах и прошлом лете. Особенно удался мне рассказ о том, как ловили мы с дедом карасей на озере и налимов на протоке, да еще о том, как новые штаны загубил на заимке. “Болони надорвал” Кандыба, слушая историю о штанах, — я уж постарался, наворотил, разукрасил ту историю.
Керосин для фонаря я добывал все у того же драмтеатра имени Веры Пашенной. Стоял позади него движок со всегда полным баком, на тот случай, если с городским электричеством что-нибудь случится, а случалось с ним “что-нибудь” часто, движок моментом запускали, не давая загаснуть свету разума в далеком Заполярье, и без того зимою темном.
Из лесокомбинатовского клуба увел я красную скатерть, графин и еще балалайку. Графин, налитый до горлышка водою, разорвало, струны на балалайке лопнули от холода, когда я надолго покинул свое жилище.
Кандыба вынюхал где-то склад с мясом, нас не очень-то занимало, для кого “добро плохо положено”, нам требовалась пища — и весь разговор. Мясо бледно-розовое, с голубоватыми прожилочками, твердыми сухожильями, обмыленными мускулами, должно быть, оленина, но это нас не занимало — мы делили пищу на два сорта: годную для жратвы и негодную. Это мясо было годное. Мы заваливали оковалок с костью в ведро с водою, сыпали горсть или две соли, натрясенной из столовских солонок, мясо прело в воде, распространяя ароматы по пустому и гулкому нутру нашего обиталища. Отхватив кус ножичком, мы валяли горячее мясо во рту, если был хлеб, потребляли с хлебом отвар, если хлеба не было, обходились и так. Глянулось нам крушить зубами упревшие кости. Мы их хрумкали, высасывали мозг и сок, выбрасывая в угол лишь трубочки, не дающиеся зубу. Работу, начатую нами, продолжали шустрые мыши, деловито скыркали острыми резцами, брякали, перекатывая кости по полу.
Я всеми силами старался не оставаться перед Кандыбой в долгу, которого от чувств, во мне пробудившихся, стал кликать Ндыбаканом. Это, если повторять кряду, все равно получается Кандыба, однако чуткий бродяга уловил душевность, вложенную в переиначенную кличку. Кроме того, многие игарчане знали и на себе испытали присутствие в городе хромого парнишки. Извернутое прозвище, на наш взгляд, затемняло подлинное прозвище сноровистого добытчика харчей.
Я приловчился обходить на лыжах, самим же сотворенных из гибких горбылин, перелески близ города и прибрежные кустарники на острове, осматривая поставленные на куропаток силки. Иной раз мы баловались птичинкой и даже скопили кой-чего на черный день, зарыли в снег между “слепой” стеной парикмахерской и заплотом конного двора несколько куропаток и кусок оленьего мяса.
Черный день ждать долго не пришлось. Известно, сытый человек начинает много воображать, задаваться сам перед собой, если больше не перед кем. В еду ему разносолы подавай, балуй зрелищами. По этой-то причине я совершил оплошность, которая повязала узелками, после и спутала всю нашу жизнь. Я, видите ли, порешил совсем уж распотешить себя и Кандыбу завлекательным чтением и остался вечером в городской библиотеке за стеллажами. Библиотека располагалась вверху все того же драматического театра, который имел несчастье стоять невдалеке от брошенной парикмахерской и потому нес постоянный урон.
Все замерло — в театре начался спектакль. Внизу подо мной, ровно в берег преисподней, время от времени ударялись громобойные волны — это игарские зрители разражались хохотом или рассыпали крошево аплодисментов. В библиотеке было так тихо, так тепло, так уютно, что я приморился и подремал чуткой дремою воришки. Вонь рыбьего клея, пресноту клейстера, которыми скрепляли листы растрепанных книг, забивало остро скользящей струЕй спиртовых красок. Меж деревянных стеллажей парил дух бумаги, шрифтов, отдающих керосином, и тот ни на что не похожий запах, даже не запах, а тлен стареющих книг безропотно, с тихой скорбью роняющих белую перхоть…
Если сквозь небесные тверди пробивался отблеск позарей и по библиотеке шарился живой, волшебно светящийся сполох, книги на полках чуть подрагивали рубчатой лентой, искрили златом-серебром и вроде бы шевелились. Я провел рукой по одному, по другому ряду книг. Отчужденно-прохладные, плотно стояли они на своих местах. Поврежденные корешки цеплялись за брюшки пальцев сеточкой клееной марли, рядами железных скобок, тронутых ржавчиной. Необъяснимой усталостью и мудрой печалью веяло от этих сморщенных, иссохших от времени книг. Никогда бы не узнал и не почувствовал я всего этого, если б не остался с книгами наедине в боязных потемках.
Что-то похожее со мною бывало, когда я, маленький, вечеровал на заимке с дедом Ильей. Он виделся мне в таежной деревянной избе согбенно сидящим на скамейке. Большая его фигура очерчена четко в проеме пепельно-серого окна. Недвижимый, молчаливый, так много повидавший и переработавший на своем веку, о чем он думал и печалился, мой добрый, тихий дед? О маме моей и других своих детях, раньше него разлученных с жизнью? О земле и о хлебе? О жизни прошлой и грядущей? Быть может, и о том, и о другом, и о третьем. Да как теперь узнаешь-то?
Я расслабился от тихих, грустных мыслей и хотел “выйти” в форточку, но где-то Ндыбакан добывал пропитание, бродил по студеным улицам, тискался сквозь людей, всегда враждебных к ворью и шпане. Он ждет не дождется, когда я почитаю ему про “другую жизнь”. Книжки — не харчи, они для всех людей оставлены. Многие из тех, кто их оставил, так же, как мы, голодовали, скитались по свету. Да если на то пошло, тот, кто не страдал, не мыкался, ничего занятного и не оставил о себе, а раз так, значит, наш брат-кондрат сочинял эти книги. Я распалялся, чтоб подавить в себе неловкость, но не очень-то получалось у меня. “Подумаешь! — фыркал я во тьме. — Они неживые, книжки-то! Нагородил ерунды всякой, барахольная душа! Вечно перелажу через заплот, которого нетуСейчас вот начну фуговать эти книжки, только свист пойдет!”
В библиотеке театра я бывал не раз, сиживал за столом, листал журналы, пользовался дармовым теплом и все тут знал. Я прошел в отдел с названием “Художественная литература”, поднялся на подоконник, распахнул широкую форточку. В сырой квадрат ударило белой стужей, зашорохтело меж рам. Я вернулся к стеллажам, замялся опять, переступил с ноги на ногу, но переборол себя и на этот раз раскинул руки, охапкой понес книги. В форточку книги летели, то распластавшись крылато, лопоча страницами, то, как обрезь досок, шлепались в снег, то рыбинами в сугробы заныривали, но больше падали обреченно и бесшумно. Мне поглянулся мой нахрапистый налет, и власть моя, хоть и подленькая, тайная, глянулась, пусть над бессловесными, беззащитными книгами, но все же власть! Внизу люди полорото на сцену глазеют, вверху над ними я, как Бог, чего хочу, то и ворочу. Я разохотился, готов был всю библиотеку перетаскать, но все же скомандовал себе: “Стоп, капитан!” — и вылез в форточку. Держась под крышей за брусья застрехи, достиг пожарной лестницы, спустился наземь, точнее, ухнул до пояса в снежный намет.
Книжки я собрал в кучу, забросал их снегом и, сунув под одежонку сколько-то штук, побежал домой, еще издали поймав взглядом пухло расползающийся в серой ночи дым из нашей благодатной обители. “Ндыбакан домаКрасота!”
Друг мой сердечный, друг единственный таился за печкой, подальше от света. “Попался!”
Попутали моего друга у счастливо им открытых складов с мясом. Мясо то предназначалось для сторожевых собак. Собаку и напустили на Кандыбу. Она свалила парнишку, хорошо, что в сугроб, а то б загрызла. Охранник дал потешиться сытому кобелю над голодным парнишкой и потом пнул его и лицо. От собаки на своих двоих и переломанных не больно-то упрыгаешь! Тюремный охранник приказал следовать куда надо. В дороге Кандыба от него смылся. Только твердолобый оглоед, привыкший к беспрекословному повиновению, мог решить, что ему все от мала до велика подвластны и пойдут, куда он прикажет, тем паче парнишка, да еще калека к тому же. Милиционеры, те лучше знают людей, по нравам и характерам их различают. От милиционеров убежать трудно, как миленький засеменишь куда надо…
Я осмотрел Кандыбу при свете фонаря. Он через силу улыбнулся мне разбитыми губами. Где правый глаз должен быть, бугрилась грязная картофелина. В махонькой ямке живым ростком шевелился и обнадеживающе просверкивал зрачок. Я полил Кандыбе умыться, сам руки с мылом вымыл, развел глазницы болезного друга пальцами — оба глядели на месте, не вытекли, хотя и захлестнуло их красной кровью. Присыпав теплым пеплом ссаженную зубами спину друга, я сказал Кандыбе, все, мол, заживет до свадьбы. Он ободрился, хотел идти со мной за книгами, так ловко добытыми мною, но я взял мешок из-под картошек, ему, как человеку пострадавшему, определил работу в тепле, выдал иголку, тюрючок с нитками и велел упочиниваться.
* * *
Спали мы с Ндыбаканом, братски обнявшись, на старых шкурах, за печкой, под половиками, на одной подушке с такой грязной наволочкой, что цветочки, когда-то красовавшиеся на ней, различались только на углах, куда наши головы не доставали.
Проснувшись поутру, я в упор глянул на Кандыбу и понял: дела наши швах. С мордой, расквашенной в капусту, гибель воришке.
— Худо? — перехватил мой взгляд Кандыба.
— Сопротивлялся, что ли?
— Насопротивляешься! Он с собакой.
— Запомнил его?
— Где запомнишь? Собака спину рвет… Живодер пинкарей вешает…
— Жалко!
— ЧЕ?
— Жалко — не запомнил. Мы бы ему устроили фокус- мокус!..
— ЧЕ ты ему сделаешь?..
— Выследили бы, где живет, подперли стягом и подожгли бы! Пусть жарится, как крыса в клетке!..
Ндыбакан длинно и горестно глядел на меня из глазниц, налитых багровой тяжестью.
— Н‑да, литература! Она до хорошего не доведет!.. Поднимайся-ка, поджигатель, печку затопляй. Я на бюллетене.
Кандыба вольготно валялся за печкой, я наготовил дров, сварил похлебку из куропаток, овса нажарил, раздобыл его снова в кормушках коней, посулился накормить друга такой ухой, от которой он вмиг выздоровеет. У деда все еще небось стоят подпуски в прорубях, надо их проверить — нет ли там и на нашу долю налимишка?
Похлебка из дичины подживила Кандыбу, и мы пришли к заключению: не так уж все худо, как нам с вечера казалось. “Утро вечера мудренее” — толковая, правильная пословица, которая тут же подтвердилась жизнью — явился Тишка Ломов. Бог его послал — решили мы и ошиблись…
— Загораете? Отдыхаете? Спозабыт, спозаброшен с молодых, юных лет, да?! А об вас вот, об рылах битых, думают, заботятся!..
С нарастающим интересом смотрели мы на кривляющегося Тишку, по тону его угадывая, какие большие удовольствия нас ждут. Лицо Тишкино излучало озорство и лукавость, сам он был умыт, пострижен, одежонка на нем починена; выяснилось: Пашкина лярва подалась по другим адресам, художник бросился за ней и куда-то запропал, оставив Тишку с матерью на свободе.
— Итак, пошто же вы не спрашиваете, кто об вас заботится?
— Легавые, — буркнул Кандыба.
— Легавые — само собой. И скорбный их труд не пропадет даром. Они все одно вас заметут. А вот кто еще? Кто?
Мы переглянулись с Кандыбой — больше вроде бы некому о нас заботиться.
— Промеж тем, — медленно и картинно залезая за пазуху и извлекая какую-то бумагу, кособочился Тишка, — об вас страна думает, почти што вся! Ну, может, опричь дальних губерний.
Я ожидал увидеть похабную картинку, рисовать которые Тишка был большой спец. Но то оказался “документ важнеющего значения”, как назвал его Тишка, — еще одно послание из школы моим родителям, напечатанное на машинке и выданное Тишке под расписку, поскольку лишь он сподобился знать адрес нашего кочевого семейства.
“Уважаемые родители! — Тишка поднял палец. Как бы не различая дальше послание, вынул из кармана проволочные очки без стекол, воздел их на нос и продолжал, важничая: — Дирекция школы номер тринадцать надеется, что вам известно, как, напрягая все силы, Страна Советов борется с тяжким наследием проклятого прошлого — безграмотностью. Однако вы не проявляете надлежащей активности в воспитании и обучении вашего сына, чем нарушаете закон всеобуча.
С тех пор, как ваш сын перешел в тринадцатую школу и был, как второгодник, принят условно, вы ни разу не поинтересовались его успехами на важнейшем фронте нашей борьбы — просвещения, а также и дисциплиной, которая…”
— Дальше тут описывается, как изуит этот исхвостал учителку. Слух катится — бродит по Игарке страшный второгодник и колет финкой молодых учителок, исключительно молодых. По выбору! Запорол он их не то шешнадцать, не то двадцать штук! Ведутся подсчеты. Й‑я продолжаю: “Педсовет требует, чтоб вы немедленно явились к директору школы и досконально объяснили, думаете ли выполнять закон о всеобуче? В противном случае педсовет тринадцатой школы примет решительные меры к вашему сыну, являющемуся членом коллектива, борющегося за высокую успеваемость и передовую сознательность. Надеемся, что вы также употребите все доступные меры воздействия на вашего сына.
Данная записка выдается под расписку товарищу, — Тишка снова поднял вверх палец, — Ломову, должна быть возвращена с подписью одного из родителей, с указанием числа и часа ее получения, а также дня и времени, в которое вы посетите школу (желательно с посещением не затягивать).
Директор школы: Загорюха К. Н.
Завуч: Мартынова А. В.”
Повисло молчание. Никто рта не открывал, не нарушал тишины, тугой, благолепной. Такие удовольствия перепадают нашему брату не каждый день, ими надо дорожить.
Я глядел на исходящего радостным сиянием Тишку, который приволок нам такой подарок. Мне почему-то снова вспомнилась бабушка Катерина Петровна. Только теперь я понял, насколько она вместе с подружками своими, Божьими старушками, счастливей нас — безбожников! Сколь часто одариваемы они блаженством бывают. Живут-живут в грехах и мирском содоме, в земле ковыряются, полы скоблят, подштанники стирают, в головах ищутся — и раз им послание Божье, а то сам лик Господен явится, пусть даже и во сне, да и возвестит грядущее на небеси, по сравнению с которым жизнь на грязной, назьмом пахнущей земле есть прозябание. В довершение ко всему деревенский батюшко покропит святой водой, перекрестит, елеем лоб мазнет и подтверждение словесное насчет царствия небесного даст, да еще ангельские голоса с хоров ликующе грянут: “Аллилуйя, аллилуйя!” — тут тебе и трепет души, и умильные слезы, и надежды на вознаграждение за земные муки…
Но я же не просто второгодник, я еще и атеист-безбожник. Трепет, умиление и всякая подобная чепуха неведомы мне. Вместо этих чувств из моего черного нутра поднималось злорадное торжество и ярость, ненасытная ярость. Вшивую башку ровно бы гвоздем проткнуло и выцарапало из-под черепа, как сталь, твердую и решительную мысль: “Сожгу школу!”
Тишка давно меня знает, он почувствовал мое настроение, ярость, во мне занимающуюся, угадал и повел представление дальше:
— Спасибо, родимый сын, спасибо! — бабьим голосом завел он. ‑Отблагодарил родителей за ласку-заботу. Мы ночей не спим, бьемся, колотимся… ЧЕ молчишь, паразит? — взвизгнул он и дал мне по затылку.
— Не буду больше, — пробубнил я.
— Он не будет, он не будет! — радуясь тому, что я принял игру, зачастил Тишка. — Скоко раз мы от тебя ето слышали?!
— Не бу больше!
— Я спины не разгибаю, отец бьется, бьется, чтоб прокормить дармоеда! Ему эвон трудящиеся как рожу изукрасили, а он чЕ?
— А он чЕ? — вклинился Кандыба, прижигая сплющенный чьей-то обувью окурок. — Он дров или воды когда привезет, овсеца, картошек тырнет, чурок от кочегарки натаскает, и все… Запороть его до смерти!
— Не бу больше!
— Чего не будешь-то?
— Учиться.
— Слыхал, отец, слыхал?! Как хошь, а меры воздействия примать надо! У меня уж нету сил-возможностей с им совладать. Кормишь его, обормота, поишь, обуваешь-одеваешь…
— Не бу больше!
— ЧЕ заладил-то? Не бубо, не бубо!.. Чисто филин, прости Господи!
— Запорю!
— И то, отец, и то! Нас ране вон пороли, дак и толк был! А ноне пораспустили их!..
Тишка обходил меня слева, от устья печки, Кандыба с тылу, от трубы.
— Где же его выпорешь?! У него рожа-то, гли! Сверкает глазьями. У‑у, волчина! В проулке встренешь, партаманет с деньгами без митингу выложишь, ‑в виде отвлекающего маневра толковал Кандыба. Внезапно оба друга набросились на меня.
— Вот тебе! Вот тебе! — чикая по моему заду прутом от веника, приговаривал Кандыба. — Не нарушай всевобучу! Не нарушай всевобучу!..
— Отец, отец! — схватился за голову Тишка. — Будет, будет! Уж больно ты лютой! Ум вышибешь последний або калекой сделаешь, чего хорошего? Сам калека…
— Запор-р-рю! В тюрьме отсижу, но научу!..
— Гори-и-и-им!
Мы сдвинули печку, пока возились. Подвешенная к потолку труба осталась на месте, печка, растревоженная нами, гнала в короткое горло патрубка густой дым, пламя, искры. Обжигая руки, кашляя, чихая, мы с веселым гоготом водворили печку на место, сели на пол, где можно было еще дышать, и, радуясь за спасенное от огня жилище, также и друг дружке, начали придумывать достойный ответ тринадцатой школе. Не могли мы упустить такую редкую возможность для отмщения. Уж дать так дать по родимой школе, чтоб качалась, чтобы у Загорюхи К. Н. и Мартыновой А. В. зубы ныли!
Кандыба настаивал ничего не писать! Нарисовать с деталями некий предмет и послать в конверте — выразительно и понятно! Вызывался даже позировать, несмотря на холод. Чего с него возьмешь, если он и одной зимы в школе не досидел? Темнота!
Тишка пошел дальше: оставить в силе предложение друга Кандыбы, но пририсовать к предмету будто на гвоздик надетую бумажку с надписью: “Лично всему женскому персоналу тринадцатой школы”.
— Под картину надо написать стих, — предложил я, — пусть знают — не зря нас учили.
Долго мы пыхтели, сочиняя стих. Кандыба толстущие, как бревна, выражения подбрасывал, и ни в какую поленницу стиха они не лезли. Я велел ему заткнуться, что Кандыба охотно исполнил, отправившись на промысел за бычками.
Тишка, прикусив язык, рисовал картинку. Я глядел в потолок, на люстру, шевелил губами — поэзия давалась трудно. В конце концов с большим трудом, но достойное послание в тринадцатую школу было сотворено. Под картину Тишка переписал своим кругленьким почерком мои каракули и громко зачитал:
— Стих-загадка.
А на этот ультиматум
Мы тебя покроем (кем? чем?),
В школу больше не пойдем,
На нее (кого? чего?) кладем!
Кандыба был сражен:
— Неужто ты сам придумал?! — спросил он, подписывая послание, и озабоченно добавил: — Да‑а, тебе, всеш-ка, учиться надо. Талант развивать. Это вот я… — Он постучал себя по лбу — кость его лба звучала звонко.
После Кандыбы, которому подпись придумывать не надо — Кандыба и все, тужились придумать чего поозорней мы с Тишкой. Тишка задумчиво грыз карандаш, продолжая высказывание Кандыбы:
— Будешь таланен, как наспишься по баням! — подписался: “Фома-вымя”, чем остался очень доволен. Мне глянулась фамилия одного типа из комедии “Недоросль”, и я поставил подпись: “Скотинин”, не подозревая, что прилипнет оно ко мне прозвищем на много лет.
Напряженное творчество не вымотало, наоборот, вызвало в нас прилив сил. Мы принялись дуреть, снова своротили печку, снова чихали и кашляли, налаживая ее, потом петь взялись, но ладу у нас не получилось. Тогда Кандыба начал исполнять почерпнутые им в его извилистой, странствиями переполненной жизни песни, прибаутки, частушки-посказушки.
— Бедный ребенок, — вздохнул Тишка, — детсадом и всевобучем не охваченный…
Весело прожили мы тот редкостный день и вечер.
Напоследок провели соревнование, сидя за печкой: кто сколько влепит плевков в чашу-люстру? Кандыба обошел нас с Тишкой — десять попаданий из десяти плевков!
— Учитесь, пока я живой! — заявил Кандыба. — Это вам не стишки сочинять!
С упрятанным в шапку посланием, довольный собою, трусил Тишка в ночь, долго еще в пустынной, узкой щели переулка, освещенного переменчивыми сполохами и редкими каплями фонарей, виделась крохотная его фигурка с огромной, плоской тенью, слышалось поскрипывание катанок, подшитых кожей.
Вот и смешно изломанная тень Тишки запала в тень сараюшек, крутоверхих сувоев; каменная, морозная тишина поглотила его.
Мы с Кандыбой передернулись, клацнули зубами: “У‑ух, блиндар!” ‑взвизгнул он и, хромой-хромой, а так стриганул с мороза в наше логово, что я и глазом моргнуть не успел.
Занялись литературой. Я зачитывал названия книг, благодушный, отдыхающий от работы по причине болезни Ндыбакан выбраковывал литературу, как сортировщик пиломатериалов на лесобирже.
— Герцен. “Былое и думы”, — достав из грязного мешка серенький в клеточку томик, выкрикнул я.
— Пусть конь думает, у него голова большая! — вельможно взмахнул рукой Ндыбакан. И новенькая книжка полетела в угол парикмахерской, где свалкой лежал по сю пору цирюльный инвентарь.
— Тургенев. “Муму”.
— Это как собаку утопили? Не треба! Про людей сочинять надо. Собак приручать да наускивать — плевое дело! Кость ей в зубы — и она готова людей заживо грызть…
“Н‑да, все же не худо бы того громилу припутать да в огне изжарить…”
— “Козлиная песнь”.
— Козлиная? Эта книжка интересная.
— “Хмельной верблюд”.
— Эта еще интересней!
— “Сотая жена”.
— Которая?
— Сотая!
— Такую книжку нельзя пропустить.
— “Маруся — золотые очки”.
— О‑о, про Марусю уж я послушаю! Это тебе не собачка Му-му! Ма-ру-у-уся! Х‑хых, блиндар!
— “Генералы умирают в постели”.
— Где-где?
— В постели.
— Вот устроились, волосатики!
— “Мать, благополучно окончившая свои бедствия, или Опыт терпения и мужества, торжествующего над коварством, ненавистью и злобою. Повесть, редкими приключениями наполненная”.
Услышав это название, Ндыбакан долго чесал под шапкой и сраженно махнул рукой, отступаясь от выбора книг.
Я долго боролся с собою, пытаясь определить, что же все-таки читать в первую очередь: “В когтях у шантажистов”, “Джентльмены предпочитают блондинок” или “Человека- невидимку”? “Невидимка” переборол всех. Я читал эту книжку почти всю ночь, затем день и вечер, пока не выгорел до дна керосин в фонаре.
Книга о человеке-невидимке потрясла Кандыбу.
— Вот это да‑а! — Кандыба скакал по парикмахерской, и тень его, высвеченная полыхающей печкой, мятежно металась по стенам. Кабы друг мой сердечный в забывчивости не рухнул в подпол да не принялся бы крушить все кряду и рвать на себе рубаху — в такое он неистовство впал, — Эт-то да-а‑а! — повторял он. — В магазине чЕ тырнул, в харю кому дал — и ничего не видно! Ниче-го!
Я запас побольше керосину, полную банку из-под томата нацедил из движка, банка в полведра, не меньше — и сошло. Сходил за налимами, нашел пешню, черпак, крюк в старой барже и на первом подпуске, до которого пришлось в поту додалбливаться — долгонько не был дед Павел на протоке, ‑поднял двух налимов, один, килограмма на три, валялся в сугробе и застыл, непокорно изогнув пустое, запавшее пузо, — зима, пищи мало, икру отметал. Другой налимишка еще холостяга, видать, успокоился и вовсе без боя, выкатив глазки на умственно-объемный лоб.
Стуча мерзлыми налимами друг о дружку, я ворвался в нашу обитель, махал рыбинами над головой друга, приплясывал, орал насчет ухи, которой он, рыло воровское, отродясь не хлебывал!..
На медяшки, вытрясенные из лохматой гуни друга, я купил в третьем магазине три картофелины. Пока продавщица отпускала картохи, собрал с полу и прилавка горстку мелких луковок. Перец и лавровый лист хранились у меня в спичечном коробке. Когда я растирал налимий сенек — печень с луком в банке из-под консервов, чтобы сдобрить и без того исходящую ароматами уху, Ндыбакан, напряженно наблюдавший за моими действиями, не выдержал.
— Умер ты?!
Хлеба кусок еще был у нас, перемерзлого, черствого, но с ухою он в самый раз. Налимов мы управили обоих — жоркие парни! Лежали, отяжелелые от еды, за печкой. Ндыбакан курил, я рассказывал ему о том, как мороженый налим оживает в холодной воде. Друг мой сердечный рыгнул сыто и подмигнул почти ожившим глазом:
— А в брюхе?
— В брюхе, — я похлопал себя по вздувшемуся пузу, — в брюхе никакая тварь не оживет и никуда оттудова не убежит. Граница на замке!..
Кино с названием “Граница на замке” вспомнилось. Отдыхать, так культурно отдыхать: пробрались мы в лесокомбинатовский клуб через пожарный люк, спустились в зал задолго до начала сеанса, спрятались под скамейками, когда кино началось, вылезли оттуда и смотрели фильм под названием “Пышка”.
* * *
Раным-ранехонько я проскользнул на конюшню, постоял, слушая ее тишину, наполненную запахом сена, теплого навоза, плотного конского пота. Отфыркивая сенную труху, кони хрумстели серном и овсом, переступали по скользким плахам пола, пришлепывали мякотью губ, перекинувши головы через заборки стойлов и как бы беседуя друг с дружкой, родственно глядя при этом глубокими глазами, почесываясь шеями, прижимаясь окуржавелой щекой к окуржавелой щеке. Нигде нет такого обстоятельного, тихого и умиротворенного покоя, как в жилищах скота, особенно у лошадей — я думаю, и уравновешенность, солидность крестьян, их уверенность в вечности земного бытия, неизменности уклада жизни происходили от кормящей их, работающей безотказно бок о бок с ними деревенской животины и в первую голову — надежды, выручки и друга, некорыстного с виду, неуросливого, доброго деревенского коня, который не потерял своего спокойного трудового облика и верности человеку и в городе, попавши в неумелые, порой в варначьи руки людей, не наученных любить и уважать не только скотину, но и самих себя.
Я потрепал гриву одной-другой лошади, погладил плоские, вышерканные хомутом, шеи, постирался в стойлах, выпугнул оттуда стайку воробьев — ночью они хоронились в конюшне от холода, — нагрузил овса в карман, выпоротый из старого полушубка и приспособленный мною под полезный продукт, от которого распухли и потрескались у нас с Кандыбой языки и губы, но что же делать, есть-то надо, и чем студеней, тем больше.
У ворот конюшни торчала из забоев, осыпанных сенным крошевом, небольшая клетушка-сторожка. На ней ворошились воробьшки, спархивали во двор, к теплым конским котыхам, крошили их. Я скользнул мимо сторожки за угол и лоб в лоб столкнулся с маленьким старичком в круглой, саморуком шитой шапке, с кругло стриженной бородкой, с круглой луковкой носа, и когда старичок заговорил, мне и голос его показался кругленьким:
— Здоров живем, доброй молодец! — звякнув железными удилами уздечки, сказал он, поглядывая на мое оттопыренное пальтишко.
“Сейчас врежет по башке уздой!” — подумал я и отступил в сторону. Тропинка от сторожки только что прогребена, я увяз в рыхлом намете.
— Да ты не бойся, не бойся меня.
— Я и не боюсь.
— Давненько, примечаю, пасешься на конюшне, давненько! Зачем овес-то таскаешь?
— Известно зачем. Есть.
— И‑ы-ы-ысь! Ты чЕ, конь или курица?
Я хотел отшить деда, но пришлось сдержаться — не до капризу, надо как-то выпутываться. Глазом я намечал, как и где ловчее утечь с конного двора. Но в этот час на конном дворе толпилось много народу. Коновозчики запрягали лошадей в сани с ящиками-коробками — для вывозки опилок с лесозаводов, в сани без ящиков — на этих доставляли отходы — обрезь кирпичному заводу и на мощение дорог. “Не проскочить, ой, кажется, не проскочить! Переймут!”
— А ну-кось! — прихватив за рукав пальтишка, дед несильно, однако настойчиво поволок меня в сторожку.
“Все! Засыпался!”
В сторожке, пахнущей подгорелой глиной, лошадиными потниками и мышами, дед сунул мне мятый котелок с недоеденной драченой, деревянную треснутую ложку, дал кусок хлеба, круглой луковицей будто печатью пристукнув по нему сверху.
Я не стал отпираться от еды. Угощал дед без болтовни, попреков и надежд на благодарную слезу. Он даже хмуро и как бы недовольно угощал, и я к нему проникся хотя и неполным, хотя и скрытым, но все же доверием, кроме того, надеялся во время еды обмозговать, как смотаться отсюда либо сигнал Кандыбе подать, чтобы отрывался он из нашего убежища. Однако дедок разумненький попался, не оставлял времени на соображения, донимал расспросами, что, да как, да откуда, да зачем. Я пробовал нести околесицу, с поселка, мол, нефтебазы, родители пригорели на керосинчике и сейчас находятся в домике, который зовется: “Я тебя вижу, ты меня нет”.
— Полно, полно плести лапти-то! Я сам их мастер плесть! — остановил меня старичок. — Вы по суседству с осени жили, в парикмахерской. После примолкли. Тебя бросили, что ли?
Я уткнулся взглядом в котелок, против воли часто заморгал.
— Навроде. — Мне бы на том и кончить, да повело меня на беседу в тепле и уюте сторожки, при старичонке, тоже по-домашнему уютном. Он слушал, слушал и вперился в меня глазками:
— Пошто в приют не идешь?
— Да так… боюсь…
— Эко, эко, боится! А тройку-магазинишко шшипать, тиятр пужать налетом и поджогом?..
— Поджог?! Ты чЕ? Поджог — это не мы…
— Э‑э, дак ты ишшо и не один! Шайка у вас?
— Двое нас, — заметался мой умишко, думаю, чего не надо, говорю не то, что следует.
— Двое — уж шайка. Ну. лады, — старичок задумчиво пошарился в бороде. — Лады. На вот горбылек, ташши другу-то. Докуль держаться затеяли?
— До весны.
— До пароходов, стало быть? Потом чЕ?
— Потом! Потом по этому месту долотом! Больно ты хитер, дедушко!
— Хитер не хитер, оннако разумею: скоко кобылке ни прыгать, а в стойле быть! Ешли покрученник твой али кореш, как там у вас, одет тако же, как ты, карачун вам. — Дедок картох из-под нар выкатил, в карманы мои засунул. ‑Сдавайтесь в полон. Не резон держать оборону. Ешли, упаси Господь, перезимуете, подадитесь на магистраль — хто вас там ждет? Хто вам чего припас? Снова воровать? Опеть шаромыжничать?
— Утомил ты меня, дедушко. Отпускай, ешли…
— Ишь эть, ишь какой! Утомил я его! Пропадай, коль людских слов не понимаешь. Поймаю в кормушке — уздой опояшу!
— Боевой дедушко-то! Солдатом, видать, сражался в японскую, может, еще в турецкую войну. — С шутками- прибаутками рассказывал я свое приключение Кандыбе, но он, веселый человек, не смеялся. Картошки надвое разрезал, на печь положил, горбушку разломил и тоже на горячую печь пристроил — Кандыба любил подгорелый хлеб, только что из печи вынутого хлеба, печенюшек, калачей не едал сроду, но первобытная душа его требовала жареного, на огне паленого.
— Кранты нам! — поднял Друг Кандыба на меня полинявшее от синяков лицо. — Заложит нас боевой солдат. Знаю я их, этих старичков и старушек! Спят и видят, кого бы пожалеть. Из жалости и заложит…
— Н‑не‑е, — сердитый он, занятой! — говорил я и чувствовал: слабеет во мне уверенность. — Он турков насквозь штыком порол, — придумывал.
По-телячьи обхватывая все еще не зажившими губами отмякшую на горячем, кисло запахшую горбушку, Кандыба пробубнил заткнутым ртом:
— Сам-то ты турок! Трепло! Покурить надыбал?
— Есть, малость есть. Привел бычка на веревочке, — тараторил я, тем хоть довольный, что ублажу друга сердечного, неловкость, глядишь, и минет. Я и читать поскорее принялся. Древнее сочинение: “Дафнис и Хлоя”. Ндыбакан, не дослушав, решительно забраковал книжку.
— Липа все это! — заявил он. — Чтоб парень с девкой по лесу столь время толклись и все без толку! Тут или парень лопух, или уж девка жох, не дается, имея цель Дафниса-дурака довести до того, чтоб он на ей женился.
Я спорить с Ндыбаканом не стал. Виноват кругом. В прошлые дни я спорил с ним, он меня слушал снисходительно, как неразумного дитятю, и, утомленный вконец, отмахивался.
— Доведут тебя эти книжки! Доведу-ут!..
Спал Кандыба в ту ночь неспокойно, во сне метался, взмыкивал: “Ы‑ы-ы!” В глухой час вдруг подхватился, вскочил, торнулся об угол печки, заругался, щупая лицо:
— Добавку добыл! Мало моей харе!..
Утро было иль день — в нашей хмарной обители не разберешь, когда послышался в сенках резкий скрип на обмерзших, водой облитых половицах. Я замер в самом себе, заставляя думать, что шум и скрип мне снятся. На двери ни крючков, ни засовов. Я поймался взглядом за белый и толсто очерченный притвор. Примерзлую дверь задергало, затрясло, рвануло.
За мной шевельнулся Кандыба, сунул руку в изголовье, но топор остался у притвора печки. Всегда мы спали, вооруженные до зубов: топор, ножик, кирпич в головах, но тут, как нарочно, никакого оружия для обороны нет под руками.
Схлынул клуб пара, ударившись о широкую раму, взметнулся к потолку, развеялся, и возле дверей обнаружились два человека, оба в полушубках, один в черном, другой в белом. Белый полушубок, поперек и накосо, через плечо пересекала полоса, на шапке, тоже белой, сверкнула искра. “Мент!”
— Вот туто-ка они и зимогорят, — услышал я сыпучий, круглый говорок: — Магазинишко шшипают, на тиятр панику наводят: то дровишки увезут, то карасину сольют, в нашем лесокомбинатском клубе скатерть президиумную свистнули, на портянки! Это чЕ тако? Бильбатеку обобрал кто? Конечно, оне, зимогоры! Бильбатекаршу ударило, аж из кону выпала, в больницу при смерти увезли… Так и есть! Книжки-то эвон они где! На полу да под столом! ‑Старичок живо бегал по нашему просторному жилищу, подбирал книжки, ухнул в подземелье, где были вывернуты половицы. — Спаси и помилуй, Господи! ‑взревел дедок. — Полом топят. Оне и конный двор спалят!..
Милиционер подал деду руку, выдернул его наверх. Опрятный старикан начал охлапываться. “Башку б тебе своротить, иуда!”
— Вынайтесь на свет, орлы! Вынайтесь, вынайтесь! — услышал я команду.
Нехотя мы полезли с Кандыбой из-за печки, почесывались, зевали. Кандыба приседания стал делать, потешно взлягивая хромой ногой. Для сугрева или издевается? Старичок меж тем поднял фонарь, болтал им и, услышав всплеск керосина, засветил его. Желтушный кружок расползался по нашему лежбищу, не достигнув потолка и дальней стены. Означались порубленные, истюканные половицы возле печи, щепье, натоптанная пыль и грязь, серая изморозь по щелям.
Милиционер пристально оглядел нас, мы его. Это был тот самый милиционер, что приходил в школу. Из-за слабого ли света или из-за полной уж моей запущенности он не узнал меня.
Дед балаболил, шарясь по избушке, складывая книги на стол, возмущался тем, что такие дорогие книжки мы, изверги и бесы, разбросали будто рухлядь какую малоценную.
— Да заткнись ты, шал-лавый! — не выдержал Кандыба.
— Xтo шалавый? Хто шалавый? — шатнулся к нам дедок.
— Ты шалавый! Ты гнида легавая!.. — по-уркагански, грозно прошипел сквозь зубы Кандыба, не отступая перед дедком, наоборот, даже молодецки напирая на него грудью.
— Э‑э! — встал меж них милиционер. — Без драки у меня! Ишь, бойцы какие! — рассмеялся он. Я тоже хохотнул — больно уж потешны бойцы, оба ростику одинакового, оба кулачишки сжали. У Кандыбы высверкивало в штаны, выдранные собакой, через кое-как зашитую тужурку или бабью кофту — не узнать — на спине тоже что-то белело. Милиционер собрал книжки в мешок, в тот самый, в котором я их принес, попросил деда сдать их в библиотеку, сам, закуривши папироску, показал нам рукой на дверь — потопали, дескать.
На улице непогодно, но не так уж заносно было, как в прошлые дни. Дедок прилаживал на нарту мешок с книгами. Проходя мимо него, Кандыба врезал дедку по спине как бы шутливо, но дедок от неожиданности сунулся в снег лицом. Выцарапался весь белый, отплевывался, обирал снег с бороды и усов.
— Будь здоров! — сказал ему Кандыба. — Пускай твоя бабка кажин день по свечке ставит, чтоб ты нам в узком переулке не попался!..
— Да вы чЕ, робятишки! — загородившись мешком, начал оправдываться дедок. — Я ж как лучше хотел. Жалеючи… В приюте столовать вас легулярно станут, оденут, обуют…
— Жалеючи! — поднимая кошачий воротник и так ловко втягивая себя в лопотину, что на морозе остался лишь подбитый глаз, фыркнул Кандыба.
Милиционер шагал сзади нас с Кандыбой, понуро бредущих в неизвестность. Переновой опоясало улицы и переулки. В дырявые мои валенки набилось снегу, ноги стыли, портянки, сделанные из скатерти, вылезли в протертые задники катанок, красными языками лизали сзади меня улицу. “Дедок-то глазастый какой, змеина! Узрел!..”
Я оглянулся. Вдавленная по самую крышу в кудревато завитые навои, утопала наша избушка в сугробе. По узкой щелке, протоптанной нами в улицу, дедок тащил нарты. Он поднял волосатое лицо, не шевелясь, какое-то время глядел нам вслед и снова задергал веревку, попер нарту с книжками по рыхлым снежным заметам.
На улицах малолюдно, отовсюду вытекали на дорогу, сливаясь с нею синими ручьями, узкие тропинки. Исток их во дворах домов, низко севших в снега, окна до середины зашиты “фартуками” с опилом. В верхних звенышках обмерзших стекол тускнел и днем не гаснущий свет. Скукотища-то какая! Пустота! Неприютность! Не глядели бы глаза на этот захороненный в снегу городишко. Чего мы в нем ждали? Какую весну? В нем никогда не будет весны! Успокоится он под сугробами, заснет, и свет в домах постепенно выгорит, остынут печи, выветрится жилой дух из квартир, даже собаки, реденько, без охоты взбрехивающие по дворам, умолкнут…
Но ближе к центру города, к милиции ближе, ходил народ, шуму прибавлялось, народ, как ему здесь положено в глухую зиму, толсто одетый, укутанный, не ходил, а бегал, торопясь попасть под крышу, в тепло. Есть и нараспашку которые — грудь пола, дыра гола — удалые парни, приблатненные игарские драчуны, среди них и детдомовцы — приметные человеки, цыркают слюной сквозь зубы, меряют всех сощуренным глазом, мальцам школьникам дорогу загораживают, задираются, с которых и выкуп берут за свободную ходьбу по городу серебрушками, куревом или каким другим провиантом.
Хозяйственные парни собак в нарты позапрягали, воду на них возят или просто катаются — для удовольствия. Детдомовцы да разная уличная шпана норовили упасть на нарты.
Словом, жизнь идет своим ходом, не глядя на зиму и ночь.
И работа идет. С протоки доносится лязг и скрежет лесотаски, гулко бьются друг о дружку мерзлые бревна; над лесозаводами труба, закрытая искрогасителем, дымком опилочным курится, внизу котельная парит: за дощатым заплотом биржи квакают рожками лесовозы; по улицам нет-нет да и проковыляет машина, западая в выбоины задом, ползет по суметам еле-еле, зато гудит во всю ивановскую; самолет с лыжами под брюхом над городишком пролопотал, юркнул за дома, натужно рявкнул и смолк в снегу. Почту доставил в Игарку самолетик, хотя и мести еще не перестало, да и видно худо, отчаянный народ — заполярные летчики.
Возле первого магазина шла потасовка: пластались парнишки, волтузя друг дружку, дяденьки и тетеньки кругом стояли, подначивая парнишек. Как мимо пройти, если драка?! Но при появлении милиционера мальчишки рассыпались. Публика стала расходиться. “Ох, уж эта шпанаКогда на нее только управу найдут!” — слышался недовольный отовсюду говор.
“Слы-ы-ышит ли, де-е-еви-ица, се-е-ердце твое-о‑о? Люу-тое го-орюшко, го-о-оре мое-о-оо”, — пело радио на коньке магазина. За магазином, совсем недалеко, в переулке имени Первой пятилетки, находится милиция.
— О‑о! Ндыбакан, Ндыбакан, рассердечный мой друг, — начал я подпевать. — Надо нам, надо отрываться скорей… — Кашель прервал мое пение. Согнувшись крюком, я бухал, стонал, харкался. Милиционер приостановился, поглядел, как рвет меня, терзает простуда, покачал головой: “Допрыгался!” — и пошел дальше. Я разом перестал кашлять и стриганул в ближайший двор. К радости своей, не напоролся там на собаку, и пока милиционер кричал с улицы: “Мальчик! Мальчик! Во глупый! Во дурной!” — да искал меня, почти на виду спрятавшегося за лопату-пехало, метлу, доски и угол поленницы, в бега ударился и Кандыба, но удачи ему не было. Милиционер выудил его откуда-то, задержал за руку, звал, кликал меня.
Хорошо было видно из убежища Кандыбу и милиционера, потешно мне сначала было, я смеялся про себя, да скоро до того застыл, что если б еще маленько посидеть, то не выдержал бы, вылез сдаваться, но Кандыба, хотя и утянул себя до самой маковки в кошачий воротник, замерз до самых до кишок, чакал зубами. Милиционер сердито плюнул себе под валенки и повел Кандыбу за руку. “Неужто испекся Ндыбакан? Вырвется. Он парень шустрый!..”
Бодрость моя и ловким побегом вызванное настроение иссякли по мере приближения к милому убежищу. “Меня же здесь загребут! Хаза-то теперь раскрыта!..”
Я прошлепал мимо парикмахерской, и такой она мне показалась родной, обжитой, близкой, что даже в груди до стона заныло. Постиравшись в “тройке” возле потрескавшейся от жары голландки, я чуть отогрелся, затолкал пальцем в катанки красные портянки и подрулил к центральной столовке, где твердая моя вера: не везет, не везет да и повезет же когда-то, — нашла наконец подтверждение.
Появилась у меня благодетельница — официантка со смуглым северным лицом, которое венчал сказочно красивый, в рубчик строченный козырек. Она так умело подвязана фартучком, что все ее и без того красивые формы сделались еще завлекательнее. Приветливым лицом, на котором сияла улыбка, не дежурная, своя улыбка, глазами, исходящими радушием, счастьем молодой жизни, предчувствием ли его, всем своим видом она словно бы призывала: “Садитесь за мои столы! Всех накормлю!”
Заметив, что я скребу в пустой тарелке и собираю крошки со стола, официантка подмигнула мне угольно-черным глазом с искрой в середке: “За мной!” И я пошел, не боясь ее, не думая, что она может мне сделать что-либо худое. Есть люди, как бы сотворенные для добра, часто безответного, и это отмечено природой на их лицах, во взгляде, в улыбке, даже в походке. Не случайно же настоящего доктора узнают и без белого халата, хорошего учителя — без очков и портфеля.
Официантка втолкнула меня в затянутую плотной синей материей кабину, пустующую в дневной час. Вечером в столовке заливается баян, подбавляется свету, в действие вступают кабины — и все это именуется уже вечерним рестораном “Сиянье севера”.
“Моя” официантка впорхнула в кабину, сунула на стол ложку, кусок хлеба и половину порции борща в тарелке — не доел кто-то или в кухне выпросила ‑угадывать было некогда. У меня голова закружилась от запаха еды.
— Ешь, ешь! — заметив мою нерешительность, ободрила меня официантка, которую кто-то кликал: “Аня! Аня! Где ты?”
“Аня! — умилялся я. — Какое хорошее имя! — И принялся споро метать ложкой борщ. — Вот уж истинно Аня! Не Анна! Не Нюрка…”
Аня снова вихрем влетела в кабину, поставила тарелку с обломками котлет, с макаронами, с кашей и картошкой, наваленными будто поросенку, и, не зная, чем отблагодарить замечательную такую девушку, я сказал:
— Я знаю, как вас зовуг.
— Как же? Ишь ты, угадал! — удивилась она и вытерла чистеньким фартучком пот с лица. — Матери-то нету? И отца нету? Вот горе-то! Да иду, иду! И причесаться не дадут! — — откликнулась девушка на чей-то голос. Она всем была необходима. — Ну, ты ешь, ешь… — Для виду поправляя прическу под белым козырьком, еще ярче оттеняющим и без того красивое лицо, Аня побежала выполнять свою работу.
“Старухи молотят языком, будто черный глаз урочливый, недобрый и люди черноглазые очень даже опасные. Вот и верь им после этого!” Почему-то вспомнилось: были ведь и у меня две сестренки да умерли, не повидав ладом свету, не намаявшись в этой жизни. Хоть одна из них была бы, непременно была бы такой же доброй и красивой, как Аня. Впервые в жизни коснулась моего сердца жалость к рано умершим, хотя и неведомым мне, близким людям, и еще возникло, укрепилось во мне решение: вырасту, буду стараться из всех сил быть добрым к людям, особенно к людям увечным и обездоленным, заведу себе хорошую одежду, завлеку девушку с карими глазами и, коли сладится, женюсь на ней.
— А спать тут не надо, миленький! Беги-беги! Поел и беги. Мне попадет от заведующей. — Аня легонько вытолкала меня, осоловелого от еды, из кабины. Перебарывая стыд и смущение, я пробормотал что-то извинительное, оттого что расслюня- вился, чуть человека не подвел. Аня кивнула мне, обнадеживая на будущее.
Ночевал я ту ночь на чердаке театра. На трубы парового отопления положены щит, рогожа, клочья бумаг и рвань пыльных декораций. “Кандыбино гойно!” — догадался я и заставил себя надеяться, что друг мой сердечный, покручениик, как поименовал его дедок, утрюхает из милиции или из детдома и меня найдет.
Но прошел второй, третий день — Кандыба не объявлялся. Театр зорко стерегли пожарники — уж два сгорело, довольно! Пробираться на чердак становилось все труднее, “хазу” мою кто-то постоянно навещал. Из белой ниточки я делал насторожку, протягивал ее внизу, поперек притвора, и всякий раз, наведавшись “домой”, находил нитку сорванной — дверь отворяли. “Вот так-то, миленький, легавенький, с наганом, кучерявенький! Какой-никакой все же охотник и рыбак — соображаю!”
Однако на душе становилось все тревожней. Лежа в чердачном, пыльном гойне, я приближенно, у самой головы слышал шуршание снега, завывание ветра в пустынной ночи и как-то не выдержал, распричитался. Правда, причитания пробовал превратить в шутовство, но не шибко получалось: “О‑о, Ндыбакан, Ндыбакан! Где ты есть-то? Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий ты один мне был поддержкой и опорой! Я ведь на чердаке, в твоем старом гнезде леплюся. Совсем один, паря! Одному худо. Спозабыт-спозаброшен с молодых, юных лет! Загнусь, поди-ко, скоро…”
И чтоб не разрыдаться вслух, продекламировал ту непонятную муру, как я тогда считал, которую силком заставляли учить в школе, прямо-таки вталкивали ее в башку: “О, великий, могучий, правдивый и свободный русский язык!.. Ты один мне поддержка и опора! — Я расхохотался и харкнул во тьму: — На кой он мне, хоть русский, хоть тунгусский, если не с кем поговорить? Сопли слизывать да слезы? Потекли вон…”
Та ночь была длинная, тягостная. Наревевшись до полной потери сил, я долго не мог уснуть, лежал, глядя в густую тьму чердака, и ничего, кроме пустоты, вокруг не чуял. Не пугали даже жуткие видения, так мучившие меня в прошлые ночи, не сжималось сердце от скрипов, шелеста чердака, шевеления снега.
Но на любой земле, в любом живом уголке наступает тот час, когда черти перестают горами ворочать и небо мутить, люди, что любили друг дружку, отлюбились, те, что мучили, устали мучить. И здесь, на этой Богом забытой земле, над театральным чердаком, изнутри похожим на скелет коня. немного поутихло. Где-то в полуденных краях солнце катилось к середине дня, на обед, здесь только-только наступало предрассветье, и хотя ангелы тут не водились из-за холодов, все же крыла их меня опахнули. Я уснул.
Тревожные, нелепые сновидения тут же закружились во мне и надо мной. Одно сновидение особенно мучительно было: я искал дверь и никак не мог ее найти. Плешивого человека и генерала во сне видел — снятся же они только к неприятностям, и под кем лед трещит, а под нами ломится. Сон вышел в руку.
В центральной столовке не оказалось “моей” Ани. Я долго вертелся возле умывальника, в раздевалке, ждал ее, но сердце, откованное неспокойной жизнью, наполненное предчувствиями и страхами, подсказывало: нет, не дождаться мне Анечки. На мой робкий вопрос раскормленная дармовым харчем тетка из раздевалки в натянутой на фуфайку столовской куртке, в валенках, разрезанных сзади, — не влезали икры в голенища, с мордой, которая не просила, прямо-таки требовала кирпича, ответила, подпершись пухлой рукой:
— Она теперь далеко-о-о‑о! Гулял вчерась у нас зимовщик с Хеты, горстями деньги кидал, уманил ее за собой. Так што лафа твоя кончилась. Прикормила, вертижопка, а меня греют. Заведушша строга…
“Выдра ты, и заведушша твоя выдра!..”
Я побрел из столовки. Ноги притащили меня к парикмахерской. Наклонился, засветил спичку — насторожка на месте, но это почти не обрадовало меня. Будь насторожка хоть и сорвана, я бы все равно залег в избушке. Нагло, почти не таясь, натаскал я дров от кочегарки драмтеатра, ящиков от магазина и завалился в свою берлогу, голодный, сломленный, ко всему уже безразличный.
Какое-то время я еще поднимался подкидывать дрова в печку, но и это мне скоро надоело, вернее сказать, не было сил и охоты чего-либо делать. Один лишь раз еще взняла меня бешеная ярость, кинула из-за печки — где-то что-то стучало, скреблось, царапалось. Подумалось — это люстра качается под низким потолком, ударяет меня по голове, царапает в ушах, сверлит их ржаво. Я схватил полено и рубанул по люстре так, что звонко брызнуло во все стороны. Прислушался — скрипело, сверлило уши, как и прежде. Осталось еще что-нибудь от люстры, я махнул во тьме поленом и свалился в яму, под вывороченный пол. Едва оттуда выбрался — вспышка ярости отняла последние мои силы.
* * *
“Счастье пучит, беда крючит”, — говаривала дорогая моя бабушка Катерина Петровна. Расхворался я, сдал духом, мне стало жалко самого себя и захотелось умереть. Когда этакая напасть наваливается на бесприютного человека и яростная его сопротивляемость слабеет, он и в самом деле может умереть или наделать много всякой дури себе во вред.
Я лежал за печкой, завернувшись в шкуры, придавив себя сверху половиками. Уши шапки завязаны, драные рукавицы на руках. Над головой, под потолком и во дворе все выло, все стучало. В печи дымился сырой чурбак, изредка чихая так, что печка вздрагивала и в прогорелой трубе видно было сыпанувшие вверх искры. Дрова у меня кончились. Поднимался я из берлоги лишь по нужде, мочился в угол, выворачивал остатные половицы, нехотя крушил их слетающей с топорища секирой, постепенно подбирался к печке. На последнюю очередь я наметил стол, чурбаки, заменявшие сиденья, там уж будь что будет. Мыши перестали являться в мое жилище: вскрывши пол, я засветил их норки, да и поживы не стало возле меня совсем никакой. От голода не то что сосало нутро, прямо-таки ломило живот, ребрами его сдавливало, и где-то там, в пустоте, скатывался под грудью и твердел комок. “Смерть гнездо из костей вьет с камешком в середке…”
Когда-то в родном селе катал я с ребятишками мячики из коровьей шерсти с камешком в середке…
Неужели было это “когда-то”? Деревня, русская добрая печка, связки луковиц по стенам, запах вареной картошки и закисающей капусты, с кути дух горячего хлеба, бабушка Катерина Петровна, дедушка Илья Евграфович, заимка на Усть-Мане, весна, ярко цветущая луковка в горшке, новые штаны, лохматый Шарик, кошка-семиковрижница, Санька-разбойник, дядя Левонтий, деревенские, бойкие в лесу и на реке парнишки…
Где все это? Где? Если и было, то у другого какого-то человека, вруши-хохотуши, на язык бойкого, в играх спорах заядлого…
Вот на таком-то краю погибели и застал меня Кандыба. Ввалился он, весь заснеженный, в мое убежище и ухнул в подземелье, брякнувшись костью о рыжую, пыльную балку, обнажившуюся из-под пола. Ругаясь, потирая хромую ногу, выбрался ползком наверх, в новых валенках, в новой шапке и рукавичках, в пальтишке, неказистом с виду, но все же теплом, недраном. Хрустя стеклом, гость прошкандыбал к печи, поднял голову, поискал глазами люстру.
— Озверел?
Я ничего ему не ответил, даже головы к нему не повернул, смотрел в потолок и так стискивал зубы, что выдавливалась соленая кровь из ослабевших от цинги десен. Много мокра скопилось во рту и внутри у меня, стоит шевельнуться — кашель, слезы с хрипом и соплями вырвутся наружу, болью рванут нутро, высекут искры из глаз.
Кандыба достал из кармана два ломтя с сыром, слепленных холодом, и кинул их мне за печь. Я с трудом откусил корочку шатающимися зубами и пока валял ее во рту распухшими деснами, пока грел хлебушек на печке, Кандыба свертел цигарку, натрусив табаку из бедных бычков — где их в метель-то сыщешь? Вот весной, когда земля вытает, бычок взойдет густо, как трава. Подбросив щепок в печку, Кандыба прикурил и отчего-то грустно спросил, глядя на разгорающуюся печку:
— Где ошивался?
— На театре. У меня нынче весь почти сезон театральный, бенефис вот подошел!.. — Выло за окном, сыпалось хрустко на стекла, что-то хлопалось под потолком, било по голове. — Стучит, стучит и стучит… Год стучит, век стучит!.. — Я схватился за голову, зажал уши. — В рот бы пароход, в зад баржу!..
— Банефи-ист! — покачал головой Кандыба. — Три дня не евши, в зубах ковыряет… — Он насадил покрепче топор, вышел на улицу. Донесся бряк топора. Перестало. Слух и сердце, болезненно сжавшись, ждали стука, но шуршал снег, метелило, выло, однако не стучало. И удушливое, беспомощное бешенство, почувствовал я, капля по капле утекало куда-то
Покрученник, друг мой верный, запоскрипывает ногой по мерзлым половицам, мы поговорим и, улегшись рядом, выспимся, добудем дров, еды, и все станет хорошо. Но Кандыба отчего-то не являлся. Я всполошился, хотел бежать на улицу — упаси Бог снова остаться одному. Но дверь распахнулась, и я радостно заорал: “Не упади!” Кандыба прямо с порога бросил два ящика к печке, сам сиганул следом, удовлетворенно выдохнув:
— У “тройки” смарал! Банефист! — Глазенки Кандыбы смеялись, сияли ‑поглянулось ему новое слово.
— Бенефис, охламон!
— Банефист лучше! — хряпая ящики топором, возразил Кандыба. — Про баню напоминает. — Он довел печку до гудения. — Когда в бане был последний раз?
— Не помню.
— Нас каждую декаду гоняют.
— То-то и сияешь! — Я утер нос до блеска измазанным рукавом пальтишка, сел, почти навалившись грудью на печку. — Думал, мент за мной охотится. Как ни приду — насторожки нету…
— Нужен ты менту! Им есть кого ловить. Понаряднее.
Мрачноват все же мой друг Кандыба, мрачноват, хотя и одет, и сыт, и в бане часто моется, с лица желтизна пропала. Небось гложет, гнетет бродягу тоска по вольной жизни, будь она неладна!
— Ну, как твой новый дом? Родня как?
— Родня от старого бродня! — не принимая моего тона, буркнул Кандыба и стал шариться по избушке. Из щели подоконника выковырял бычок — сам и прятал когда-то, сильный бычок — половина “беломорины”. Оживел корешок от такой находки, закурил, распахнулся. На нем рубаха свежая, хоть и неновая. — Дом как дом. Получше, правда, канского, из которого я летось мотанул. Побогаче. — Он затянулся по-взрослому умело, густо выдохнул дым, щуря глаз. — Воспиталки тоже всякие, есть дуры дурами, которые ниче, ходят в детдом все равно как на лесобиржу доски складывать. А которые и папой и мамой сразу быть норовят!.. Этих братва со свету сживает, — Кандыба до трубочки дососал бычок, защелкнул его в тугую дверь печки, посидел недвижно, ровно бы забыв про меня, и неожиданно улыбнулся, так же, как в прошлые наши отрадные времена, всем лицом: быстрыми глазками, кругляшком носа, широкими губами. ‑Одна щебетунья-мамочка бегает, кудряшками трясет: “Вороваць нехорошо! Драться и ругаться нехорошо! Учицесь, деци! В этом ваша достойная благодарность за цЕплую о вас заботу!..” Про великих людей трещит, какие они все были послушные, как все время помогали родителям, как старательно учились, примером были для всех… Макаренку какого-то часто поминает. Не знаешь, кто такой?
— Писатель и педагог.
— Вон под кого она мазу держит! А умишка, ха-ха!
— Не стучит, — вслушиваясь в гул и вой ветра за окном, облегченно вздохнул я, прерывая рассказ Кандыбы. — Еще б постучало, я бы топором разнес все тут…
— Бывает. Ты вот чЕ: кидай хазу. Не перегодовать в ней. Такая тут долгая зима, блиндар! Айда со мной. Бумажку не выбросил?
Я помотал головой — не выбросил.
— Д‑да‑а, брат, уж долгая так долгая! — я опустил голову, погрузился в раздумье. Кандыба терпеливо ждал. — В груди харчит, голову обносит, кашель бьет, аж искры из глаз секутся… Но… — Я хотел объяснить, что щетина вроде бы на спине у меня поднимается против казенного дома, против воспиталок- мамочек, хотя и слышал я о них только от него, от Кандыбы, но все равно знаю их. Очень уж много ласковых тетенек пыталось заменить мне мать: пряником, рублевкой, поношенной рубахой. Зная по опыту, что убогому возле богатых жить — либо плакать, либо тужить, я неуверенно добавил: ‑Попробую… С дедом рыбачил, может, еще порыбачу. Психованный он, да ничего, стерплю… терпел же…
“Привыкнет собачонка за возом бегать, так и за пустыми санями трусит”, — сказать бы Кандыбе, но друг мой — человечина чуткая, он не хотел у меня отымать последнюю надежду — притулиться к кому-то родному.
— Ну-ну, ладно! Знай наших, поминай своих! — хлопнул себя Кандыба по коленям. — Я уваливаю. Обед скоро, после обеда “мертвый час”, мамочки считают по головам. Ну я двинул. Если чЕ, ищи меня…
Этот парнишка давно перестал терзать себя пустыми надеждами на совместную жизнь и содружество с людьми, кроме беспризорной шпаны, которая была ему ближе всякой родни.
* * *
Я не сказал Кандыбе, что повстречал на улице мордастенького, ходкого сына бабушки из Сисима, Костьку — моего дядю. Невзирая на девятилетний возраст, суровые запреты матери и со всех сторон сыплющиеся на него колотушки, Костька курил, ловко выуживая папиросы из нераспечатанных пачек старших братьев, Вани и Васи, не брезговал и бычками — этой вечной пищей безденежных и бродячих курцов.
За сбором бычков я и прихватил Костьку. Он обрадовался мне, сообщил, что дядя Вася как-то изловчился добыть документ и улетел на самолете в Красноряск, учить уму-разуму разметчиков и сортировщиков древесины.
— Ты приходи, — сказал Костька. Вид и слова его были обнадеживающими, Костька хотел надеяться, что на этот-то раз “наши” не откажут мне.
Ваня был на работе. Костька в школе. Дед Павел слеповал у обмерзшего окна, в звеньях которого маленько вытаяло, — починял старую мережку, опасливо побрякивая кибасьями. “Сяма”, закутавшись в пуховую шаль, лежала в постели, смежив глаза.
Я стянул с головы шапку и поздоровался. Дед отвернулся к окну, ровно бы ничего его тут не касалось.
— Ково там опять чельти плинесли? — словно не расслышав моего голоса, спросила бабушка из Сисима. Каждое слово она произносила с тихим, мучительным постаныванием. — А‑а, — совсем уж умирающим голосом, в котором чуялась плохо скрытая досада, протянула она и приподнялась на руке. Отстранив шаль от лица, посидела, помолчала, спросила насчет отца и мачехи. Я ничего на этот раз не соврал.
— Чтоб он подох там в больнице, сволочь такая! — угодливо выругался дед Павел и приостановил работу, ожидая распоряжений насчет меня.
— Госьподи, Госьподи! И подохнуть не дадут! — бабушка из Сисима снова опустилась на подушку, забросила на грудь угол шали. — ЧЕ стоишь тамока? Разболакайся, проходи… У дверей разболокайся, натрясешь ишшо…
Бабушка из Сисима привередница насчет чистоты. В барачной комнатушке все белоснежно, все блестит — бабушка подкладывает в известку соли, чтоб блестела. От порога до окна сплошь настелены половики, поверх половиков старые тряпицы и витые из лоскутья кружки лежат; чистые кастрюльки висят на стене, к которой прибита старая газета; одна тряпка для посуды, одна для утирки рук, полотенец несколько, у бабушки из Сисима и у Костьки отдельные. Вылизанная клеенка темнеет ломаными углами. На узком барачном окошечке мучаются два бескровных цветка — ванька мокрый и еще не знаю какой. Не зря так любят и ценят Питиримовы свою домработницу, которая охотно именует себя прислугою. Дед вон какой смирный сделался — осаврасила “сяма” и его, небось, в картишки забыл как играть? И впрямь не у всякого жена Марья, а кому Бог даст!
— Долго маячить у порога будешь? — прикрикнула бабушка из Сисима из-под шали, но вспомнила, что ей вредно волноваться, уже расслабленно распорядилась: — Ты-то чЕ пнем сидишь? Покорми ево…
Бабушка Катерина Петровна кричала на меня с утра до ночи, случалось, и порола, колотушек мимоходных я от нее добыл — не перечесть, а вот не было во мне при ней униженности и робости этой проклятой не было. Переминаюсь у порога, шапку, будто в церкви, стянул, под валенками натекло, впору кланяться.
— Я не хочу, спасибо!
Дед Павел словно того только и ждал.
— Не хочу.. не хочу! Проходи! Садись! — загремел он посудой на плите. — Кочевряжится еще!..
— Госьподи, Госьподи! И правда подохнуть не дадуг. Каку чигунку-то открываешь, каку? — бабушка из Сисима слишком резво для человека, которому до смерти осталось всего разок дохнуть, вскочила с постели и шуганула деда от плиты. — Глаза-то есть у тебя?!
Дед буркнул: “Не глаза, а глаз!” — и с облегчением подался к окну ‑чинить мережу. Бабушка из Сисима, стеная, шевеля бантиком губ, все еще спелым соком налитых, натянула через голову фартук и принялась хозяйничать возле плиты. Она готовила вкусно, блюдя церковную опрятность во всем, и от других людей добивалась того же. Боже упаси накапать на стол — тут же схватит тряпку и вытрет клеенку перед тобой, да с таким видом, что больше не только капать, есть не захочется.
Между прочим, маленький чугунок был с Костькиным супом. Для своего единственного сыночка бабушка из Сисима готовила отдельно, отдавала ему что “повкуснее”, принося с питиримовской кухни недоедки, лакомства, посланные докторшей “маленькому Костеньке”. И как же он, “лизик” и “самоздравец”, “отблагодарит” свою мать за доброту? Страшно кончит жизнь бабушка из Сисима со своим сыночком. Если и найдется на всем свете родной ей человек, которого бабушка из Сисима будет встречать словами: “Шолнышко ты мое!” — так этот человек, напяливая шапку на окоростелую от ногтей голову, с горем скажет в ту далекую пору:
— Правда не хочу. Ел недавно.
— ЧЕ ель? ЧЕ ель? Ково оммануть-то хочешь? Садись да хлебай! Тебе ли купороситься?
И то правда: мне ли купороситься? Надо садиться, хлебать суп. Я должен помочь деду с бабушкой из Сисима проявить “доброту”. Это их успокоит, очистит совесть перед Богом — на поминках в деревнях напослед ставят кисель перед надоевшими, досадными людьми, называется тот кисель “выгоняльным”. Киселя у бабушки с дедом нету, вот мне и выставили суп-вылупку.
Знают они, хорошо знают — кто сирых питает, того Бог знает. Заповедь Христову: “Оденем нагих, обуем босых, накормим алчных, напоим жаждущих, проводим мертвых — и заслужим царствие небесное” — помнят, вот и стараются изо всех сил выполнить заповедь-то, только так, чтобы не накладно было. Одни несут на могилки тех, кого сводили со свету, крашеные яички, крупку сыплют, цветки кладут на твердую землю, тычут в озеленелые подсвечники копеечные свечки в душных церквах, суют в цепкие пальцы нищих пятаки; другие соорудили в сибирских дворах оконца на воротах, выставляют туесок с квасом, зобенку с солью, каравай хлеба — для “страждущих, нищих и бездомных”, умиляя этакой “благодатью” “знатоков кондового быта”. А по мне — они просто дешево откупаются от беглых каторжников, бедовых людей, чтоб те не вломились под крышу и не унесли больше, как откупаются вот теперь от меня супишком бабушка из Сисима с дедом Павлом.
Сидят, помалкивают благодетели мои, я хлебаю теплый прокисший суп. Дед Павел снует деревянной иглой и дымит трубкой, как пароход, что лица не видно. У меня никакого раскаянья нет, что я снял налимов с его подпусков. По другую сторону стола полулежит на кровати бабушка из Сисима, кутаясь все в ту же пуховую шаль.
— Ешь, ешь, не торопись, — бабушка из Сисима видит, что я не тороплюсь, не могу торопиться, забило мне горло дресвой слез, не лезет в него кусок. — И чЕ он кулит и кулит табачище свой клятый? — отгоняя дым рукою, прячась от меня, ворчит бабушка. В забывчивости засмоливший трубку дед Павел сунул палец в сипящий ее зев, и трубка, пикнув, умолкла, только из-под ногтя деда синенькой волосинкой сочится дымок. — Шел бы на улку и кулил бы, сколько влезет! — пилила деда Павла бабушка из Сисима. — Сельце чисто все занялося, на лекальствах дельжусь.
Все это бабушка из Сисима говорила деду, но слова-то назначены мне ‑понимать должен: за всеми надо ухаживать, обмывать, обшивать, накормить, у Питиримовых дел невпроворот, износилась она в работе, умаялась, а года летят…
Да‑а, летят года-годочки! Мне кажется, я уже сто лет среди людей ошиваюсь, обмялся, нюх у меня сделался — спасу нет! Всякое слово взаболь принимаю: на том конце города рукавицы украдут, я на этом краснею! Во мне вроде бы клубок из жил и нервов скатался, по всему нутру щетина наросла. И ощетиненным нутром я не приемлю копеечной доброты, но, мучаясь, недоумевая, изо всех сил пытаюсь и не могу понять, как эта вот самая бабушка из Сисима отправилась в неведомые, полунощные края с малыми, чужими, считай, детьми, и как она сама, выросшая в сиротстве, и за одно это благоговел я перед нею, как это она, подкормив себя и семью докторскими объедками, забыла, сумела забыть день и час, когда, изувеченно ломаясь в пояснице, кланялась люду, оставшемуся на Овсянском берегу, прижимая вцепившихся в юбку ребятишек, не в силах чего-либо молвить, тыкала в них пальцем, слепыми от слез глазами спрашивала людей, что она станет с ними делать в чужом краю, среди чужих людей?
— Спасибо! — выбираясь из-за стола, я с облегчением отметил: на клеенку не накапано. — Больше не хочу.
Дед Павел, отвернувшись, посасывал незажженную трубку, она у него не то простуженно, не то обиженно сипела. Бабушка из Сисима, отвернувшись, шарилась в кошельке, шуршала деньжонками, выбирая для “сиротки” рублишко. И чтобы хоть этой милости избежать, чтоб еще раз не выжимать из себя благодарности, я толкнул обитую стеженым тряпьем дверь:
— До свиданья!
“До свиданья! До свиданья!” — я прятал мокрые глаза в засаленный воротник холодного пальтишка. Говорят, сиротская слеза — самая тяжелая, и канет она не на землю, на человеческую голову. Чертовщина какая-то заключена в этом или злое совпадение — не дано мне знать, но четыре месяца спустя дед утонет в Енисее, и жизнь бабушки из Сисима очень изменится. Тогда я не мог, конечно, знать этого, просто брел в какую-то морозную пустоту, а в памяти моей и перед глазами вертелся полосатый зверек — бурундук. Он сидел на мамином кресте, делал вид, будто умывается, на самом же деле навораживал беду. Нет мне удачи и, видно, не будет; удача — говаривал картежник дед Павел — вроде очка, выпадает редко, чаще недобор или перебор, и вся житуха есть игра в три листа: рождение, жизнь и смерть. Разница в том, сколь сроку выпадет, пока сдает судьба карты…
* * *
Неторопливо, словно собираясь на долгий таежный промысел, я все уложил, припрятал в жилище топор, пилу, ведро, ложки, банки, фонарь, завернул в половики подушку, пыльные ремки, бывшие когда-то одежонкой, шкуры маральи и собачьи, все уже вышеркавшиеся, затолкал в мешок из-под картошек — вернется отец из больницы, пусть и не своим, как говорится, деткам отец, а все же человек, спать где-то и на чем-то надо. Бабушка Катерина Петровна говорила, что, если б мама была живая, не скитались бы мы по свету и отец прибран, догляжен, не распущен был бы.
Я подмел уцелевшие половицы, сгреб щепье, мусор и перья в печку, веник тоже в печку сунул — никуда уж он не годился, давно подобрал возле городской бани, весь исхвостанный. Сверх веника туго натолкал мелко рубленного макаронника, поискал еще какой-нибудь работы — ее не было. Тогда я присел на чурку, как это делается перед дальней дорогой, пощупал под рубахой бумажку, именуемую направлением, достал ее, попытался расправить ‑не получалось, бумажка успела сморщиться и полинять, однако печать и решительную подпись “зав. гороно” на ней разобрать еще можно было.
Тихо, студено, сумрачно в моей обители, занесенной по самую крышу снегом. Из-под вывороченных половиц подвалом несет. Дни все еще короткие, время сонное, хотя и повернуло на весну. Наступил март. Где-то в российских краях, которые я не видел, но уже тосковал по ним и родственно болел ими, ростепель, с крыш капает, дороги порыжели, утрами сосульки на солнце горят, в оврагах пучится серый снег, скоро тронутся в весну ручьи, зальет водою землю. Села, хутора, овчарни, пасеки, кордоны, даже российские города рассыпанно поплывут по струйной быри, опоясанной тенями облаков, и впереди всех головным стругом с крестом иль флагом на маковице белой лебедью будет плыть по воде выстоявшая против всех невзгод и напастей церковь с певучей и без колоколов колокольней.
И в Овсянке, в моем родном селе, на первых потайках играет в бабки ребятня, гомонят птички, старухи вербу освящают, на увале, может, лохматые подснежники зацвели, бабушка Катерина Петровна выставляет рамы. Скворцы, кулики, плишки на подступах к нашему селу, зяблики, синицы, снегири уже частят на вершинах елей. А здесь все так еще серо, так завалено снегом, придавлено низким небом, что не просачивается в окно ни единая живая искорка, никакой птичий голосок, даже трудно верится, что есть где-то весна, что доберется она до этих мест.
Я вышатал гвоздь из стены, болтом, валявшимся в хламе, прибил дверь в притворе к косяку — на всякий случай, подергал за ручку — не открывалось, и отправился кружным путем по городу, прощаясь с ним и с тем отрезком жизни, который я провел в нем.
Он жил своей жизнью, этот запавший в снега городишко. Он миновал еще один день на пути к весне и погружался в тягучие, оловянно-тяжелые сумерки, которые невидимо глазу перейдут в ночь, ночь будет длиться, длиться нудно до тех пор, пока не выльется на землю простоквашная жидкость рассвета.
Я спустился на протоку, с нее по плотно прикатанному лыжами снегу забрел в Медвежий лог, где на зимнем отстое занесенные до бортов бугрились пароходы, катера, баржи, и среди них “Москва” и “Молоков” — знаменитые портовые трудяги.
Весна только-только пускала распары, проходил спайный лед на Енисее, шевелил Губенскую протоку, еще снег лежал по улогам, и вода оставалась в берегах, еще несло муть, хлам, кусты и редкие льдины, а в устье Медвежьего лога, отбитые мысом и глыбами торосов, пускали дым в небо, сопели, парили машинами, бурлили винтом пароходы “Москва” и “Молоков”.
Пароходами их называть, может быть, слишком смело. В местной газете именовались они обтекаемо — судами. Но для игарских ребятишек, да и для всех почти игарчан, они самоглавнейшие были пароходы. Водяные эти сооружения заметно отличались от других судов трубой — она у них была больше и выше, чем у всех остальных кораблей, и еще гудком — он был ревучей всех гудков в Игарском порту.
Построенные по одной и той же колодке, “Москва” и “Молоков” имели все же кое-какие различия. “Москва” была чуть женственней, если можно так сказать о машине. Она тоже чумаза, латана по бортам и поддону, с неровно выправленными обносами, у одного якоря, торчавшего из носовой ноздри, отломлена лапа, но на ее трудовой, сажею запорошенной трубе виднелись три полоски — две красные и посередине белая. Такие же полоски выведены по борту, по шесту-водомерке и по рулевой рубке, да и на четырех спасательных кругах “Москвы”, форсисто развешанных по ту и по другую сторону рубки, различалось белое.
“Молоков” был что жук, черен, маслянист, на водомерке- шесте у него черные полоски и по борту черная, рубка выкрашена в коричневый цвет. На трубе “Молокова” тоже когда-то была полоска, но оказалась под таким непроницаемым слоем трудовой копоти, что труба сделалась словно голенище сапога, да и все на “Молокове” под один цвет рабочей спецовки, которую стирать уже бесполезно и бросать жалко.
Зная, с чего начинается жизнь в заполярном городе, понимая, что требуется народу, “Молоков”, примеряя к стихиям молодецкие силы, налетел закругленным рыльцем па льдину и, содрогаясь корпусом, трубой и всем своим чумазым существом, давил ее, давил. Труд его казался игрушечным, однако льдина мало-помалу начинала шевелиться, разламываться на глыбы, выпирать шалашом посередине и в конце концов, обреченно прошелестев рыхлыми краями, трескалась по всему полю, разом на нее хлестала вода из всех щелей, пузыри веселыми мячиками выбуривали, “Молоков” пуще того налетал на льдину, таранил ее корпусом, напирал, почти затопляясь кормой, буйно при этом дымя трубой и шипя всеми отверстиями. Наконец последний ледяной кругляш оказывался в протоке, и, увидев, как подхватило и понесло к морям и океанам льдину, вместе с нею и стойкую зиму, вырвавшийся из плена, обалделый от простора, солнечного неба, манящих далей, в которых он никогда не бывал, “Молоков” давал сиплой ржавчиной засорившийся гудок, пробку из горла выкашливал, и вот вырывался пар тугим клубом, бодрый, совсем живой гудок приветствовал людей, город, извещая о весне и начале трудовой жизни на реке.
Ребятишки на берегу ревели, прыгали, махали руками.
Из Медвежьего лога, рубя винтом ледяное крошево, на всех парах вылетала “Москва” и мчалась навстречу “Молокову”. С того и с другого парохода давали отбортовку белыми флагами, на мачтах кораблей поднимали красные флаги с серпом и молотом. Поравнявшись с “Молоковым”, как на параде, приветствовала его “Москва” гудком несколько игривым и продолжительным. “Молоков” коротко гудел: “Привет!” — и следовал мимо, по стрежневой быри, как бы вдаль, но тут же круто разворачивался и спешил следом за “Москвой” в устье протоки, к мысу Выделенному — там корабли совместно приветствовали Енисей, косяки птиц, летящих на север, весну, солнце и все на свете.
Мгновенно и как-то совершенно незаметно корабли исчезали с глаз, ровно бы погружались в пучину.
“Молоков” и “Москва” отрулили в совхозный магазин на остров. Явятся они в протоку поздней ночью, кто-то кого-то поведет на буксире, крадучись причалятся к обрывистому пустому яру и погрузятся в сон.
И хотя еще не поставлен дебаркадер, не поднят флаг навигации на мачте порта, еще нет в Губенской протоке никого и ничего, но раз вышли “Москва” и “Молоков” на полую воду, сходили по-братски в совхозный магазин, значит, в Игарку пришла навигация. Ничего, что иной раз игарчанин, содрогнувшись от гудка “Молокова”, подскочит средь ночи: “Да чтоб тебе, окаянному, глотку завалило!” — скажет, за лето так притерпятся люди к гудкам, что и не замечают их.
Будто мураши, суетились портовые трудяги в протоке: везли речную обстановку — бакены, мигалки, щиты и прочее; тартали откуда-то полуразбитые плоты; спасали беспризорно несомые лодки и баржи; мчались на голоса тонущих людей; перевозили рабочих и школьников с острова; волокли в поселок Старая Игарка баркас с продуктами; вытаскивали из логов и учаливали к месту дебаркадеры и брандвахты. Сверху, случалось, дождь холодный хлещет, кидь ‑снег лохматый густым пером валит, свету белого не видать, всякая жизнь вроде бы остановилась на земле, но они, пароходишки портовые, не прекращают труда, нельзя им его прекращать, только чаще перекликаются: “Жив?” — “Жива?”…
Главная их работа начиналась с приходом морских судов. “Калоши”, как презрительно именовали портовых трудяг дальние просоленные моряки, помогали учаливаться заморским гостям, выводили их, груженых, из протоки. Любо-дорого смотреть было, как, деловито гукнув, “Молоков” пристраивался к океанскому надменному кораблю с одного бока, “Москва”, фыркнув гудком, прилеплялась с другого. Пустив затяжные дымы, они поворачивали водяную махину куда следует. Вся уж корма у пароходиков в воде, будто деревенские конишки, уперлись они задними ногами в рыхлую пашню, поджилки у них дрожат, глаз на рубке кровяно налился, иностранный штурман что-то орет в рупор, показывая на трубку — ну, это понятно, хоть и по-иностранному, — вы, дескать, меня так уделаете, что и дома не узнают! “Молоков” и “Москва” всякого в жизни наслушались, ни на иностранную, ни на русскую брань они не отвечают, делают свое дело, стиснув зубы, и все. Но как отведут груженый транспорт в устье протоки, вытолкнут его в Енисей, гудком все же дерзко реванут чужаку: “Гуд бай! Чеши, проклятый буржуй!” Нашему же толстобрюхому лесовозу еще и флагом прощально махнут.
Правда, опытные капитаны, хоть наши, хоть исчужа, с “Молоковым” и “Москвой” отношений не портили. Ребята они миру, может, и незаметные, но порту позарез нужные. Спорить и ругаться с этой парой нельзя. Если шибко досадишь, возьмут да и за острова умотают, шуми тогда не шуми — ничего с ними не сделаешь, будешь мокнугь от причалов вдали. Начальник порта, вздыхая, разведет руками: у команды “Молокова” и “Москвы” порт в вечном долгу — за одни только сверхурочные они могут отдыхать не меньше года. В Карскую, так именуется навигация в Игарке, спали на “Молокове” и “Москве” час-два в сутки. Наутро, когда падет мерклый туман на округу, устало ткнутся в берег пароходишки, потому как места ни у каких причалов им вечно не доставалось, перестанут дымить, парить, лишь из свистка чего-то бело струится да тускло светятся сигнальные фонарики на мачтах — все остальное повержено сном.
Ладно, если шторма нет, если тихо на реке, а как задует “ceвер”, как поднимет волну, клади, как говорится, весла, молись Богу! Все живое спешит тогда скорее с Енисея в Губенскую протоку. “Москве” же и “Молокову” в непогодь самая работа. Катера, боты, пароходы, даже океанские корабли набивались в протоку, жались к причалам, они, встречь буре, в открытый бой — волна через нос, порой и через трубу перехлестывает. Помстится иногда: все, конец! Но вынырнут пароходишки, гуднут, проверяя жизнестойкость, и, объятые брызгами, дымом, шпарят дальше, бьются о волны грудью, глядишь, тянут откуда-то горемычное судно, раненое, гнутое, с перевернутой мачтой и безжизненной трубой. Ткнут его к аварийному причалу — и вновь наперекор бурям, выручать из беды суда и суденышки.
Однажды теплоход “Красноярский рабочий” заводил в Губенскую протоку караван. Заходить в нее сложно — она замкнута от игарского берега мысом Выделенным, от острова Полярного — крылато загнутой отногой. Караван был велик, барж в двадцать. Волной навалило хвостовые баржи на каменный мыс. Тревожно и угрюмо гудел “Красноярский рабочий”, призывая на помощь. Откликнулись в первую голову “Молоков” и “Москва”. Их било о борта барж, о каменья мыса, посрывало с них круги, трап унесло, повредило палубные надстройки. Но они кружились в кипящей воде, схлебывали волны, отжимая хвост каравана от камней, на которых громадами вздымалась вода, с треском ломая уже оторванную и опрокинувшуюся баржу. Никто не мог сосчитать на берегу, сколько времени шла борьба за спасение каравана. Опрокинуло, разбило еще одну баржу с ценным грузом, но весь остальной караван удалось завести в протоку, учалить.
Все это время игарский народ толпился на берегу, больше всего, конечно, ребятишек — ждали развязки, переживали за героические корабли. Часа в два светлой северной ночи “Молоков” бережно привел к аварийному причалу “Москву”. Она была полузатоплена, побита, ершилась ощепинами, кренилась на левый борт, труба ее не дымила.
Скорбно приняли парнишки чалку с “Молокова”, слетали в дежурный ларек за водкой. Пароходные люди выпили по стакану водки, молча покурили, переоделись в сухое и стали осматривать “Москву”. Парнишкам в знак признательности и особой минуты разрешено было побывать в машинном отделении уцелевшего в сражении корабля “Молоков”.
Отделение было тут же — две ступеньки вниз. Всего две железные ступеньки! Но как отдалилось все от нас, как переменилась жизнь, приняв доселе нам неведомый облик.
Шедшая до сей минуты жизнь со всей своей обыденной примитивностью совершенно утратила интерес. Полумрак, таинственность, захватывающие дух, властвовали внутри корабля, в котором и места-то было только для машин и топки. Где жили и спали люди, нам установить так и не удалось. Здесь пахло недром машины, горячим, потным, трудовым. Приостановились набрякшие силы, замерли какие-то изогнутые валы, трубки и патрубки, маслом смазанные медные колена, провода, рычаги, рычажки. Знаки и клейма были на валах и корпусе машины, в стеклянной банке, называвшейся маслоотстойником, пульсировала жидкость, из-под ног просачивался пар, и где-то совсем близко, ощутимая ногами и голым сердцем, хлюпала вода. В топке тускло горел уголь, сипело, ворчало и ворочалось что-то в котле. Лампочки едва светились, круглые окошки закопчены, застарелый густой запах отработанного масла и полумрак создавали впечатление могущества этого ни с чем не сравнимого машинного мира.
Мы говорили шепотом и не лезли с вопросами к большому, с трубу ростом, механику, ходившему по машине в полусогну- том виде и в городе, на улице тоже не разгибавшемуся. Был он крепко огорчен гибелью боевой подруги, пошвыривал какие-то железяки, ворчал на полумертвого от усталости помощника и, когда мы ему чем-то досадили, так рявкнул, что нас, точно бумажных, подхватило и вытряхнуло на сушу. Скоро, однако, механик вышел на корму и милостиво послал нас за папиросами. Когда мы вернулись, он в знак благодарности и примирения сорвал с мачты вяленую стерлядку, кинул ее нам, и мы тут же ее благоговейно изгрызли.
“Москва” в тот сезон больше не работала, ее увели в ПодтЕсово на ремонт. Весной, к ребячьей радости, к радости города и всех людей на свете, она появилась принаряженная, покрашенная, с новым якорем и флагом. “Молоков” радостно заорал, дуром метнулся навстречу боевой подруге, чуть было не торнулся в ее бок, но, приблизившись, оробел — очень уж нарядна и чиста “Москва”. Однако боевая подруга сама милостиво подрулила к выключившему ход, выжидательно бултыхающемуся на воде “Молокову”, тут, среди протоки, и побратались они, наши корабли.
Ребятня кричала “ура!”, снова бросала кепки вверх; бабы, случившиеся на берегу, слезу пустили при виде такой картины; мужики успокоенно разбрелись по домам — жизнь шла дальше, шла как надо!
В тот раз, когда я ездил по Енисею и встретил девочку- ягодницу на пристани Назимово, сойдя на берег в Игарке, — первым делом, конечно же, стал искать глазами на протоке любимые пароходы, но возле причалов работали новые, мало дымящие, чистые и сильные суда. Никого не пугая гудками, размеренно, неторопливо и скучно они делали скучную причальную работу. Никто на них не обращал внимания, названия их не знал, да и не было у них названий — какие-то номера да цифры.
“Молокова” я обнаружил причаленным возле острова к звену матки — так называются на Енисее плоты. Он доставлял сплотки к лесобирже, где бревна лесотасками выкатывали в штабеля. Был “Молоков” совсем стар, обшарпан и уныл, вяло бурлил винтом, чугь дышал и не гудел вовсе.
На “Москву” я нечаянно наткнулся в Медвежьем логу. Разломившись корпусом, вросла она брюхом в болото, заваленное хламом лесозаводских отходов, в кору, обрезь. опилки, обросла ржавой осокой. Винта и машины на “Москве” не было, рубка скособочилась, доски растрескались, окна перебиты, всюду мелом начеркана матерщина, но изгорелая труба пароходика все еще пахла дымом, возле него играли в прятки и в “капитанов” малые дети.
…Не с кем больше прощаться в этом городе. Ничего не поделаешь, надо подаваться в детдом, к верному другу Кандыбе. Но я все же исхитрился отсрочить явку: не знаю, для чего и зачем приволокся к тому месту, где стоял старый драмтеатр. Белым медведем лежал на том месте бугор, из которого черной лапой торчала выветренная, собаками помеченная головня, трепало клок старой припорошенной рекламы или обоев, серели ветром сметенные с дороги окурки и копоть, налетевшая из соседних труб, мышиная строчка, едва завязавшись, обрывалась дыркой в руинах пожарища, толсто укрытых снегом.
Путано, кружно, с задержками, будто заяц к кормному месту, приближался к “дому”. Все казенное, начиная с ворожейных карт, по которым мне часто выпадал жуткий “белый домик”, кончая больницей, милицией и детдомом, сильно пугало меня в ту пору. Неокрепшим, незаматерелым еще умишком я все-таки понимал: переступлю порог казенного дома, и начнутся большие перемены в моей жизни и судьбе.
К лучшему или к худшему те перемены, знать я тогда, конечно, не мог.
Долго отирался я возле пошатнувшегося барака, где располагался детдом. Недавно объединенный с интернатом, он постоянного помещения еще не обрел. Доносились гам, хохот и свист с протоки, где лихо каталась, нараскоряку прыгала с самодельных трамплинов городская братва, напористо галдели, безбоязно лаялись там и курили детдомовцы, в самом доме чудился неумолчный гул, перебиваемый топотом или вскриком.
Из-за угла барака выкатилась на обледенелых валенках запарившаяся девчонка, от маковки до пят вывалянная в снегу, споткнулась возле меня, вытаращила и без того выпуклые, с прозеленью глазищи:
— Табе кого?
— Кандыбу.
— Якого Кандыбу! У нас их четверо! У красном уголку один запертый сядит, можа, его? Ти песельника? Ти ворюгу? Ти который недавно пришел?
Я смешался, запереступал на месте: оказалось, не знаю я имени друга, вот так да!
— Того, который недавно пришел… — наконец нашелся я, кивая на распахнутую дверь, толсто вмерзшую в желтые натеки.
— А‑а, значит, Вальку! — У девчушки чудной выговор, он шел ей, кругломорденькой, крепенькой. Важничая, она подала мне варежку, знаком приказывая отрясти с нее снег.
Я отряхивал снег, стараясь не сшибить девчонку с ног, она стреляла в меня глазищами, улыбалась и, подмигнув, звонко чему-то рассмеявшись, юркнула в дощатые сени по раскатанному притвору.
“Пигалица! Еще совсем пигалица, шаромыжка, из четвертого, от силы из пятого класса, уже глазки строит! Ну и народ тут подобрался…” — Мысль эту я не успел закончить, дверь распахнулась, из нее выглянул, приветливо мне улыбнулся, хватаясь за косяки, взнял себя по раскату наверх Кандыба и, понимающе глянув на меня, как взрослый, подал и крепко пожал мою руку.
— Здорово! Как они там, “наши”, поживают? — не дожидаясь ответа, он мотнул головой через плечо, на дверь сенок, исписанную бойкими струйками, примерзшими к ней. — Наши здесь, паря, живут! — И треснул меня для бодрости по спине: — Идем, что ли? Банефист! Бумажку не потерял?
Я катнулся следом за Валькой, одетым в казенную клетчатую рубаху, и на дверях казенного дома, в котором через мгновение мне предстояло очутиться, вместо вывески увидел мелом нарисованную, ухмыляющуюся рожицу с большими ушами, под которой красовалась размашистая, непечатная подпись, дальше городьбой стояли восклицательные знаки и в стороне, отдельно — крупный, сердитый, змеей загнутый вопрос.


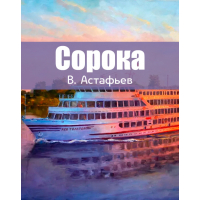


Комментарии