Фетисыч
Борис Екимов
Время — к полудню, а на дворе — ни свет, ни тьма. В окна глядит си-зая наволочь поздней ненастной осени. Целый день светят в домах по хутору электрические огни, разгоняя долгие утренние да вечерние сумерки.
Девятилетний мальчонка Яков, с серьезным прозвищем Фетисыч, обычно уроки готовил в дальней комнате, там, где и спал. Но нынче, скучая, пришел он на кухню. Стол был свободен. Возле него отчим Фетисыча, Федор, маялся с похмелья: то чай заваривал, то наводил в большую кружку иряну — отчаянно кислого «откидного» молока с водой. Тут же топала на крепких ножонках младшая сестра Фетисыча — кудрявая Светланка.
Мальчик пришел с тетрадью и задачником, устроился за столом возле отчима.
— Места не хватило? — спросил его Федор.
— Я вам не буду мешать, — пообещал Фетисыч. — Вроде меня и нет. А за тем столом мне низко. Я наклоняюсь, и осанка у меня портится.
— Чего-чего? — переспросил Федор.
— Осанка. Это учительница говорит. Можешь спросить, если не веришь.
Федор лишь хмыкнул. К причудам пасынка он привык.
Вначале сидели молча. Фетисыч строчил свою арифметику. Федор пил чай и, скучая, глядел в окно, где сеялся мелкий дождь на серые хуторские дома, на раскисшую землю. Сидели молча. Малая Светланка таскала из ящика за игрушкой игрушку: пластмассовую собаку, мячик, куклу, крокодила — и вручала отцу с коротким: «На!» Федор послушно брал и складывал это добро на столе. Горка росла.
Фетисыч скоро от уроков отвлекся.
— Хочу тебя обрадовать, — для начала сказал он отчиму. — Ты же вчера был пьяный, не знаешь. А я пятерки получил по русскому и по арифметике. По русскому — одну, а по арифметике — две.
Федор лишь вздохнул.
— Ты не думай, это непросто, — продолжал Фетисыч. — Одну пятерку по арифметике — за домашнее задание, а другую — по новой теме. Я ее понял, к доске вышел и решил.
— Заткнись, — остановил его Федор.
Фетисыч смолк. Снова повисла тишина. Светланка, мягко топая, таскала и таскала игрушки отцу. Горой они на столе лежали. Потом, заглянув в ящик, сказала: «Все» — и развела руками. И теперь пошло наоборот: подходила она к столу, говорила отцу: «Дай». Федор молча вручал ей игрушку, которую дочь несла к опустевшему ящику, и возвращалась к столу с требовательным: «Дай!»
Они были похожи, родные дочь и отец: кудрявые волосы — шапкой, черты лица мелковатые, но приятные. Отца старила ранняя седина, мятые подглазья, морщины — пил он в последнее время довольно крепко и быстро сдавал. А малая Светланка, как и положено, была еще ангелочком в темных кудрях, с нежной кожей лица, с легким румянцем — красивая девочка. Мальчишка же, Яков, что по характеру, что по стати был для Федора кровью чужой. Фетисычем его звали за разговорчивость, за стариковскую рассудительность, которая приходилась то кстати, а то и совсем наоборот. Как теперь, например, когда Федору с похмелья и без разговоров свет был не мил. Фетисыч понимал это, даже сочувствовал. Углядев, как отчим косит глазами на жестяную коробку с табаком-самосадом и морщится, он сказал:
— Хочу тебе предложить. Ты вот болеешь сейчас с похмелья. А ты наберись силы воли и брось сразу курить. Помучаешься, зато потом тебе будет хорошо.
— Это ты сам придумал? — спросил Федор.
— Конечно.
— Значит, дурак.
Пришла с работы, с коровника, мать Фетисыча — Анна, женщина молодая, но полная, с одышкой. Через порог шагнув, она присела на табурет, укорила:
— Сидите? Дремлете? А мамка ваша — вся в мыле. Опять на себе тягали солому и силос. Вся техника стоит.
— А бригадир чего же? — живея, спросил Федор.
— От него проку… Ходит — роги в землю, ни на кого не глядит.
— А Мишки Холомина «Беларусь»? Он — гожий.
— Мишкин трактор теперь один на весь хутор. За ним, как за стельной коровой, глядят. Говорят, на случай. Кто заболеет… Или за хлебом. Тетка Маня правду гутарит: надо быков заводить. Бык — скотина беспогрешная. Ни солярки ему не надо, ни запчастей. На соломке попрет.
Анна пришла в себя скоро: недолго посидела, прислонившись к стене, пожаловалась и, поднимаясь, спросила строго:
— А даже из печки не выгребли? Меня ждете? И угля нет?
Фетисыч, не дожидаясь, пока погонят его, резво подался в сарай, за углем. Вернулся он, как всегда, с новостями:
— Набирал уголь… Там глыба такая огромная. Я молоток взял и ка-ак ударил ее! Со всех сил! И вдруг — взрыв такой! Все осветилось! — Он вскинул руки. Глаза его сияли восторгом. — Там же темно. И вдруг огонь! Синий такой!
— Ты, может, спичкой чиркнул? Поджег? — тревожно спросила мать.
— Нет. Я глыбу ударил — и сразу такой взрыв!
Федор молчком сходил в сарай и сразу вернулся.
— Чего там? — спросила жена.
— Как всегда, брешет, — махнул рукой Федор, а пасынку сказал: — Ты на рожу на свою погляди в зеркало, взрывник.
Но Фетисыч еще не все рассказал. Он вынул из кармана телогрейки четыре куриных яйца и сказал матери:
— Ты меня не ругай, ты прости меня. Я одно яйцо разбил нечаянно.
— Это уж как положено. Хорошо, хоть не все кокнул.
— Зато я сделал доброе дело: тетку Шуру обрадовал. Я из гнезда забрал яйца, там их десять было. Пять темных и пять белых. Я сообразил: у нас все куры красные, они темные яйца несут, а у тетки Шуры — белые, значит, ее куры у нас снеслись. Правильно я сообразил? А тетка Шура как раз во дворе была. Я ее и обрадовал, отдал пять яиц и сказал, что всегда буду белые яйца ей отдавать. Правильно я сделал?
Федор ухмыльнулся.
— Тебя кто за язык тянул? — досадуя, спросила у Фетисыча мать. Тебе кто велел лезть в эти гнезда? Темные, белые… Грамотей. Либо тебе куры докладывают, какие они яйца несут? Знахарь… Она своих кур сроду не кормит. А мы вволю сыплем. Вот они и бегут на чужбинку. А ты ей — яйца. И она взяла, бесстыжая. А ты вечно суешь свой нос куда не просят.
Фетисыч все понял и молча убрался из кухни. Добро, что дом был немалый: три комнаты кроме кухни. Самая дальняя — его. В невеликой этой комнатке стол да кровать помещались, на стене — красочный плакат улыбчивого мускулистого мужика с квадратной челюстью и короткой прической, по фамилии Шварценеггер. Фетисыч когда глядел на него, то напрягался и зубы скалил. Но на Шварценеггера он был не очень похож. Во-первых, девять лет от роду. Во-вторых, стричься было негде. Отчим Федор мудрил порою над ним с машинкой да ножницами, оставляя челку на лбу и голый затылок. Получалось не очень внушительно: челка светлых волос, вздернутый нос, круглый подбородок — далеко до силача. Но Фетисыч тренировался. В школе на турнике подтягивался на пятерки целых шесть раз.
Через комнаты глуховато, но слышно было, как ругается мать:
— Это вы вчера рамы с медпункта пропили? Доумились?
— Разведка доложила?
— Доложила. Вот участковый прищемит — назад потянете. Курочат все подряд. Все на пропой, на пропой. А нам край надо бы возле кухни затишку постановить, как у кумы Таисы. В затишку — печку. Летом так расхорошо, не жарко. И курник стоит раскрытый. Шифера бы листов пять или досок, хоть горбыля. Люди во двор тянут, для дела, а ты…
— Пузырь поставь — и к тебе притянем.
— Да уж все растянули. Свинарник какой расхороший был, сколь шиферу, сколь досок. А в клубе, говорят, и полов уж нет.
— Полов… Вспомнила. Уж потолки снимают.
— Либо Рабуны? Они же кухню строить задумали. Рядом живут. Хозяева. А у нас курник раскрытый.
— Пузырь. И все будет! — оживился Федор.
— Да если в дело, я два поставлю.
— Это уже разговор.
— Бесстыжий… Для дома, для семьи, а ты готов…
— Это не разговор, — перебил ее Федор.
— Разговор, не разговор. Засели, как баглаи. Только и глядите, где бы чего украсть и пропить. Нет чтобы на ферму прийти да женам помочь, — корила Анна. — Бабы — в мыле, а мужики прохладничают.
— Вы задарма горбитесь — и мы пойдем рядом с вами. Коммунистический труд? Пошли они.
— Вот и пошли… А водку кажеденно глотать…
Укоры были те же, что и вчера, и позавчера, и всю долгую осень.
А у Фетисыча уроки были сделаны, можно и в школу отправляться. Хоть и рановато, но веселее там.
Через кухонную толкотню, где суматошилась мать, понемногу наливался похмельною злостью отчим, и лишь кудрявая Светланка жила своей детской счастливой жизнью. Через все это Фетисыч пробился быстро и выбрался на волю.
Уже пошел декабрь, но долгая поздняя осень, словно грязная злая старуха, бродила по хуторам. Низкие набухшие тучи, морося, ползли и ползли, а то и висели над хутором, цепляясь сизым провисшим брюхом за маковки старых груш. По теплу, по лету, хутор тонул в садах. Теперь же через голые ветви все насквозь было видать: от далекого Заольховского кута, который упирался в лесистое займище, до самого озера, с белым песком на берегу, с желтыми камышами. Весь хутор словно на ладони: серые нахохленные дома, сараи, базы, высокие сенники, просторные огороды. И тихо было на хуторе, пустынно: ни людей, ни машин. Одно дело зябкая слякотная осень; другое — работы нет. Свиней давно на мясокомбинат сдали, овец раньше продали, коров один гурт неполный остался. Тут еще плотницкую да кузницу на зиму закрыли. А дороги развезло, и хлеб печеный не возят. То хоть возле кузни да плотницкой с утра народ толокся, на бригадный наряд в контору ходили, потом у магазина собирались бабы да старики, ожидая хлеб. Нынче все по домам сидят.
От дома Фетисыча видна была и школа. Она лежала на въезде, вначале длинной, через весь хутор, улицы, по которой стояли бывшие клуб, медпункт, детский садик, почта, баня да магазины. Напрямую, дворами да проулками, до школы можно было добраться в два счета. Но обычно Фетисыч не спешил, выходя на улицу главную, мимо подворья многодетного Капустина, где день и ночь мотались на веревке детские штаны да рубашки. Фетисыч свистел, заложив пальцы в рот. И тут же во всех окошках появлялись расплющенные о стекло ребячьи носы. Шестеро детей было у Капустина. Старшей — девять лет, ребятам-двойняшкам — по восемь, дальше вовсе горох. Еще один свист раздавался возле дома Башелуковых, для первоклассницы Маринки с прозвищем Кроха. И все. Башелуковы жили на углу. Отсюда лежала по главной улице прямая дорога до самой школы.
За долгие годы улицу выездили, посередке тянулась глубокая лужа. Старый брехун Архип божился, что в разлив в эту лужу из озера карась заходит и можно его ловить. Лужа и летом не высыхала, зеленея. А уж теперь словно море была, топя заборы. Правда, заборов на главной улице почти не осталось. Дома казенные, брошенные, заборам ли уцелеть.
Всякий день на пути в школу Фетисыч наведывался в эти руины прошлого. Добро, что двери да окна в домах брошенных — настежь, а чаще чернеют пустыми глазницами.
В бывшем медпункте, где и теперь пахло лекарствами, Фетисыч садился в высокое блестящее кресло. Оно вращалось. Крутнешься раз-другой — и дальше пошел. Клуб еще год назад стоял на запоре. Нынче — все раскрыто. Сцену разобрали, выдрали полы. Дед Архип ободрал дерматин с кресел и шил из него чирики. Красный цвет, он приметный. Полхутора в этих чириках щеголяли. В бывшем магазине можно было залезть в большой холодильник, прикрыть дверцу — и вроде тюрьма. Там же лежал на боку тяжелый запертый сейф. Его курочили, но так и не открыли.
Хуторская школа — длинное дощатое здание на высоком кирпичном фундаменте — когда-то была восьмилеткой. Директор, завуч, завхоз, учителя… Школьники с трех хуторов сходились. Ныне старая учительница Мария Петровна пестала, кроме главного своего ученика Якова, трех Капустиных да Маринку Башелукову. В просторной школе топили одну печку на две комнаты: класс и еще одну рядом, под названием «спортзал», со шведской стенкой, трапецией да перекладиной. Уроки начинали по-своему, к полудню. Некуда было спешить.
Первым приходил Яков. Забирая ключ у технички, молоденькой тети Вари, которая напротив школы жила, он первым делом спрашивал:
— Натопила?
— Натопила, натопила… Иди проверяй, завхоз.
У школьного крыльца стояли корыто с водой и большой сибирьковый веник, чтобы сапоги отмывать. Хотя потом в школе и разувались, меняя обувь, но на крыльцо грязь не тягали. За этим Яков следил. Он был официально назначен старостой и помощником старой учительницы и в школе чувствовал себя свободней, чем дома.
Пустое длинное здание с длинным коридором встречало тишиной и гулким эхом шагов. Две комнаты с общей печкой были хорошо натоплены, в классе зеленели горшки с цветами, пестрели на стенах рисунки, аппликации да вышивки — детское рукоделье. Три светлых окна глядели на хуторскую улицу.
Яков проверил печку и, усевшись за учительский стол, стал ждать. Голоса Капустиных, как только вываливала орава из дома, звенели без умолку, приближаясь. Школьников у Капустиных было трое, но обычно прихватывали довеска — шестилетнего Вовика, который ревмя ревел, в школу просясь. А коли не брали его, то убегал из дому и приходил самостоятельно.
Шумно прибывали Капустины. Школа оживала. Вслед за ними, опаздывая, медленно поспешала первоклассница Маринка Башелукова — махонькая девчушка с большим красным ранцем за плечами. По теплому времени старые люди выходили глядеть на нее, когда она горделиво несла через хутор белые пышные банты на аккуратной головке. Глядели и вздыхали, вспоминая былое.
Так было и нынче. Яков через отворенную форточку приказывал:
— Сапоги чисто промывайте! Не тягайте грязь!
Собрались. Расселись за партами. Учительница Мария Петровна запаздывала. Как всегда в таких случаях, Яков открыл журнал посещаемости.
— Башелукова.
— Здесь, — тонко пискнула девчушка, поднимаясь. Она всегда была с белыми бантами в косичках, с белым отложным воротничком — словно городская первоклассница.
— Капустина.
— Здесь.
— Капустин Петр… Капустин Андрей.
— И я здесь, — отметился Капустин-младший, довесок.
В журнал его не положено было записывать, а хотелось — как все.
Марии Петровны не было. Яков решил сбегать к ней. Но прежде, чтобы не теряли зря времени, он дал задания: кому примеры, кому упражнения. А малышу Капустину вручил лист бумаги и велел рисовать. Все это было для Якова делом привычным. Старая учительница порой хворала, порой уезжала к дочери в райцентр, оставляя надежного помощника — Фетисыча. Он старался.
А жила учительница недалеко, в старом домишке, в каком жизнь провела. Яков отворил калитку и сразу почуял неладное: настежь были открыты все двери — коридорная, кухонная, сарая.
— Мария Петровна! — заглядывая в дом, позвал Яков.
В доме горел свет. Но никто не ответил.
— Мария Петровна! — окликнул он во дворе.
Старая учительница была в сарае. Она стояла навалившись на угольный ящик. В полутьме Яков не сразу ее заметил, а потом бросился к ней:
— Мария Петровна…
Учительница была мертва и стала валиться на мальчика, как только он тронул ее. Яков с трудом, но не дал ей упасть. Ледяная рука, окостеневшее тело все сказали ему. Он прислонил мертвое тело к стене сарая и бросился вон.
Потом, когда к учительнице поспешили взрослые, он издали глядел, как ее заносят в дом. Он поглядел и пошел к школе. Он чувствовал, что озяб. Пробирала дрожь. У крыльца, отмывая в корыте грязные сапоги, он решил, что о смерти учительницы в классе говорить сейчас не станет. «Про уроки забудут, — подумалось ему. — День пропал, его не вернешь», — повторил он слова учительницы. И еще что-то, более важное, останавливало его: он не до конца поверил в смерть, какая-то последняя надежда теплилась — может, еще оживет.
В классной комнате было тепло, зелено от цветов и все — за партами, даже Капустин-младший.
Обычно, когда учительница, уезжая, оставляла Якова старшим, ребятишкам под началом его приходилось туго. Старался Фетисыч. Лишний раз не скажи, перемены — короче, точно в срок. Но нынче в тягость была чужая ноша.
Братья Капустины примеры по математике решили, и Яков добавил им еще одно упражнение. Маринка Башелукова, Кроха, тихо окликнула:
— Яша… У меня кончилось.
— Что у тебя кончилось?
— Букварь.
Яков подошел к ней. Все верно. Мария Петровна твердый знак с ней прошла. Хитрые слова «сел» и «съел». И как это бывало ранее: сначала с ним, в прошлом году — с братьями Капустиными, — Яков сказал громко, повторяя слова учительницы:
— Давайте все вместе поздравим Марину. Она закончила свою первую книжку-букварь. Молодец, Кроха. Поздравляем тебя! Теперь ты человек грамотный.
— Ура-а!! — вылетели из-за парт братья Капустины — невеликие, крепенькие, горластые.
— Ура! — поддержал их младший Капустин.
— Перемена! — объявил Яков. — Десять минут, — и первым было кинулся в класс соседний — спортзал, чтобы кольца занять и покувыркаться. Но опамятовался, когда старшая Капустина, его одногодка, тоже Марина, спросила:
— Яша, а Мария Петровна не придет?
— Не придет.
— Я к ней схожу. Может, сварить надо. Ладно?
Марина Капустина — старшая дочь в большом семействе — в девять лет уже хозяйкой была, помогая в делах домашних и учительнице, когда та хворала. Добрая девочка, рослая, чуть не на голову выше Якова, ровесника своего.
— Подожди, — остановил ее Яков, — уроки кончатся.
К перемене второй, «большой», как ее называли, на горячую плиту печки ставили чайник, а в жаркий духовой шкаф — блинцы ли, пышки, пироги — кто что из дома принес. Чайник запевал свою нехитрую песнь, закипая, и кончался второй урок. Накрывали клеенкою учительский стол и рассаживались вокруг. Так было всегда. Так было и нынче: пахучий чай с душицей, зверобоем да железняком. Варенье — в баночках. Домовитая Марина Капустина, словно добрая мамка, всем поровну делит:
— Тебе — блин, тебе — блин, тебе — блин, тебе — сладкий пирожок, тебе — пышку с каймаком. Ты же каймак любишь…
— Люблю, — тихо призналась Кроха. — У нас тоже Катька не ныне-завтра отелится.
— Когда отелится, гляди, ничего из дома не давай три дня, — наставительно сказала Марина-старшая. — А то узнает ведьма и загубит корову. Для них коров губить — первое дело.
— А кто у нас ведьма? — так же тихо спросила Кроха, теперь уже пугаясь.
— Раньше Карпиха ведьмачила, — ответил Яков.
— Карпиха, — подтвердила Марина-старшая. — Мамка рассказывала. Летось корова отелилась и мычит, бесится, куда-то рвется. Позвали деда Архипа, он в этом деле понимает. Архип молозиво на сковороду и — на огонь. Помешивает и молитву читает. А мамке приказал: «В окно гляди. Кто пройдет мимо и его будет корежить, это — ведьма». Мамка глядит точно, идет Карпиха и ее вправду корежит: то остановится, топчется, то кинется назад, то опять ко двору. Как кружёная овца. Значит, точно она.
Кроха слушала, про пышку и каймак забыв; зато братья Капустины под разговоры полбанки варенья опорожнили, накладывая кто больше, пока сестра не пригрозила им.
— Карпиха точно ведьмачила, — подтвердил Яков. — Она и померла по-своему. В самую пургу ушла к ярам. Туда ее черти призывали. Там и померла.
— А теперь кто у нас ведьма? — спросила Кроха.
— Кто-нибудь да есть, — твердо ответил Яков. — Надо приглядывать. Ведьмы грома боятся. Порчу наводят. В свежий след сыпет и приговаривает. И человек ли, скотина сразу на ноги падает. Ведьма в кого хочешь обернется. Вот тут, — показал он на печку, — на загнетке, на ножах перевернется — и в другой облик. Захочет в белого телка, или в рябую свинью, или в зеленую кошку. А через черную кошку, — добавил он, всякий может невидимым стать. Хоть я, хоть кто другой. Рядом пройду и ты меня не увидишь.
На него воззрились удивленно.
— Надо поймать черную кошку, но чтобы жуковая была, без подмесу, учил молодых Яков. — Посеред ночи поставить казан на перекрестке, костер развести и варить ее. Да, кошку. Лишь по сторонам не гляди, а в котел. Вся нечистая сила слетится, будет шуметь, свистеть, кричать по-звериному. Не оглядайся. По имени тебя будет звать, вроде мамка твоя зашумит: «Петя!» А ты не оглядайся. Оглянулся — конец, — предупредил Яков. — А ты вари и помешивай, вари и помешивай. Нечистая сила вокруг воет, ревет, а ты свое дело делай. Останется в казане лишь малая косточка. Ее надо ощупкой, не глядя брать. Берешь и кладешь меж губ. Сразу тихота настанет. Нечистая сила — по сторонам. А ты сделаешься невидимым. Вовсе невидимым. В любой дом заходи, куда хочешь. И тебя не увидят.
— А у деда Архипа черная кошка, — сообщил самый младший Капустин-«довесок».
— Точно! — в один голос подтвердили его братья и переглянулись.
— Это все неправда, — поняв их мысли, сказала Марина-старшая. Неправда ведь, Яша?
— Старые люди говорят… — пожал плечами Яков. — Перемена кончилась, — объявил он. — Давайте по местам.
Снова пошли уроки. Яков словно забыл о смерти учительницы: непросто было глядеть за ребятами, давать им задания, объяснять да и свое делать. После третьего урока Яков сказал Крохе:
— Марина, можешь домой идти.
Но Кроха, как всегда, отказалась. И стала готовить домашнее задание, на завтра. В школе было веселее, чем дома. В куликалки будут играть, прячась в пустых классах. Может, картошку напекут.
А за окном тянулась поздняя осень. Дождь временами переставал, а потом снова сеялся, и тогда затягивало серой невидью высокий курган за хутором, крутую дорогу через него. Лежала под окнами пустая улица, за ней — вовсе пустое поле на двадцать пять верст до центральной усадьбы, станицы Ендовской. А в край другой, через займище, десять километров до богатого хутора Алешкина, который при асфальтовой дороге стоял. Но те десять километров были длиннее: лежало поперек пути лесистое займище, да две глубокие балки — Катькин ерик и Кутерьма, да еще речка нравная — Бузулук. Будто и рядом хутор Алешкин, но брызнет дождь — на тракторе не проедешь, зимой в снежных переметах утонешь. А тут еще объявились ненашенские, с рыжим подпалом, волки, вроде из Чечни прибежали. Там стреляют, вот они и подались, где потише.
Про чеченских волков говорил не только старый брехун дед Архип, но сам лесничий Двужилов. Он видел этих волков не раз: поджарые, с рыжиной на брюхе.
И когда неделю спустя Яков надумал идти в хутор Алешкин, мать пугала его:
— По такой погоде… Черти тебя поджигают. Тем более — волки. Чеченские… Враз голову отхватят.
Яков стоял на своем:
— Пойду. Десять километров. Обернусь к обеду. Там наша Галина Федоровна, она всех знает, она найдет нам учительницу. А то так и будем сидеть.
— Натурный… — ругалась мать. — Бычок упористый… Потонешь в Катькином ерике… Там вода верхом идет. Переждал бы дождь… Люди поедут, я поспрошаю.
Яков слушал ее, но сделал, как всегда, по-своему: он ушел рано утром, лишь засерело. Поверх пальто от дождя натянул старый материн болоньевый плащ. И пошагал. А от волков отчим Федор дал ему две ракеты. Дернешь за шнурок — она стрельнет.
От хутора, мимо фермы, напрямую до самого займищного леса Яков продвигался вприскочку: пробежит — и пойдет потише, снова пробежит — и опять отдыхает на ходу. Нужно было скорей добраться в Алешкин, поговорить и успеть вернуться в свою школу, к ребятам, которые будут ждать его.
Хоть и умерла Мария Петровна, но каждый день в школу сходились. Выбирался Яков из дома, свистел возле Капустиных и Башелуковых. Техничка тетя Варя топила печь. И уроки шли, как и раньше: по расписанию, с переменами. «Чем по домам сидеть, лучше в школе, — так Яков решил. — А то пропустим, нам же и догонять». Все было как прежде, лишь без Марии Петровны. И нужно было искать ей замену.
Дорога была не раз хоженная и езженная: займищный лес, который то подходил к обочинам, и тогда остро пахло горькой корой и листвой, то отступал, пропадая в серой невиди. Порою вспархивали почти из-под ног куропатки с обрывающим сердце треском. И снова — тихо, угрюмо. Лишь дождевые капли шуршат по плащу. В пору погожую, хоть и колесит дорога, обходя низины да мочажины, хутор Алешкин виден издали на высоком берегу. Теперь — лишь серая мга, короткий окоем. Бурые травы, угрюмая зелень сосняка, раскисшая, налитая водой дорога, скользкие обочины долгим кажется путь. И грезится всякое: какие-то серые тени в вербовой гущине, колыхнулись — и холодок в груди. Ищет рука картонный кругляш ракеты. Может, волки?..
Опять колесит дорога. Нынче ее не спрямишь, шагай и шагай. То обочиной, то колеей, выбирая, где легче.
* * *
Школа в Алешкине стояла посреди хутора, на речном берегу. Поднялся на бугор — и вот она: кирпичная, с высоким строением спортзала. При входе — раздевалка, а возле нее сидит уборщица и платок пуховый вяжет.
— Ты куда? — сразу признала она чужого.
— К Галине Федоровне.
— Она на уроке. Лишь начался урок, — сказала уборщица и воззрилась на сапоги пришедшего.
Но сапоги Яков до блеска отмыл у входа, придраться не к чему. Лишь с плаща капало.
— А вызвать ее можно? Я по делу.
— И она не гуляет. Жди, — постановила уборщица.
Коридор алешкинской школы был просторный и нарядный: много зелени, на стенах большие стенды с фотографиями. Но ждать было не с руки. Урок — чуть не час, а дом Галины Федоровны — рядом. Туда Яков и подался.
Старая баба Ганя признала его и встретила, как родного:
— Моя сынушка… Откель? Весь промок. Либо пешки?
— Пешком, баба Ганя, пешком.
Баба Ганя не изменилась, той же живостью светили за стеклами очков глаза.
— Ты либо с матерью пришел, в магазин?
— Один, баба Ганя. Мне Галина Федоровна нужна.
— Скоро надойдет она. Кончится урок, надойдет. Раздевайся. Сушись. Грейся у печки. А я скотине задам, будем завтракать.
— Я помогу, — сказал Яков и, не дожидаясь согласья, снял с вешалки рабочую телогрейку. — Ты лишь говори, баба Ганя, где у вас чего…
— Моя сынушка, да ты прямо хозяин… — поспешая за молодым помощником, нахваливала баба Ганя.
Якову же домашние заботы были в привычку: курам — зерна, корове да козам — сена, свиньям — запаренного корма. Тем более что подворье директорши было устроено: не плетневые катухи, а кирпичные, под шифером стойла в один ряд. Вода — из крана. Сенник, закрома, скотья кухня все рядом. И не лужи да грязь на базу, а бетонные дорожки. Так что труды были невеликие. Управились скоро.
Баба Ганя накрывала на стол, а Яков дом успел осмотреть, комнаты его: кабинет с книжными полками во всю стену, горницу с креслами и диваном, с телевизором и видиком.
За завтраком он выкладывал старой женщине хуторское:
— Тетка Варя и бабка Наташа живые. Дед Андрей в больнице лежал, на станции. Но еле ходит. А Мария Петровна наша померла, — сообщил он главную новость.
— Какая беда… Да как же…
К той поре поспела и директорша школы, Галина Федоровна. Услыхав о смерти учительницы, она даже всплакнула:
— Господи… Как мы ее любили… Так вас и пестала до последнего. А схоронили где?
— В райцентре, дочка забрала, — сказал Яков и повернул на свое, ради чего и шел: — Она померла, а мы остались ни с чем. Пятеро учеников: трое Капустиных, Башелукова, я. А учить нас некому. Может, вы нам поможете, найдете учительницу?
Завтракали и слушали Якова.
— Как она померла, сообщили в сельсовет, оттуда в районо. Там велели перевести нас в Ендовку, на центральную усадьбу. Мы и поехали туда с дядей Витей Капустиным. У него трое в школу ходят, и Вовке на тот год идти. Поехали. Трактором едва добрались. Думали в интернат устроиться. Там большой интернат, двухэтажный. А его закрыли.
— Сейчас их везде закрывают, — вздохнула Галина Федоровна.
— Закрыли и там. В школу нас берут, пожалуйста. А как добираться? Колхоз не будет возить. Горючего нет, и вся техника поломана. Говорят, становитесь по квартирам. А квартиры в Ендовке — с ума сойти. Сдурели хозяйки. По сто тысяч требуют. Капустин как услыхал, за голову схватился. Он где такие деньги возьмет? Тем более за троих. Опупеть можно. У него зарплата — сто тысяч не выходит. И тех не дают с лета. Плюнул. Пусть, говорит, дома сидят. А Маринка Башелукова, та и вовсе — кроха. Куда ее отпустят родители? Она у них одна при двух бабках. Те сразу с ума сойдут. Вот и все… И как хочешь… Учительницу бы нам найти, попросил он.
Галина Федоровна, оставив еду, слушала. Она была еще молодая, но полная, при золотых очках, коса на голове короной — настоящая директорша.
Возле дома затарахтел мотоцикл и смолк.
— Отец наш приехал, — объявила Галина Федоровна. — Завтракать.
— Галина! — раздался из коридора голос. — Я пойду со скотиной управлюсь. Ты не давала им?
— Нет.
— Управились мы, управились в четыре руки с помощником, — горделиво сообщила баба Ганя. — Накормили и напоили.
— Молодцы! Кто у тебя в помощниках?
Муж у Галины Федоровны был тоже нестарый, но при черной бороде — по новой казачьей моде.
— Это чей такой? Либо землячок?
— Угадал.
— Спасибо, земляк. Мне легче жить.
— Предлагаю вам красную лампочку ввернуть в курятник, — сказал Яков. — Я в журнале читал, в «Науке и жизни». Куры лучше несутся при красном свете.
— О! — удивилась Галина Федоровна. — В «Науке и жизни»? Надо попробовать.
— Ввернем, — пообещал ей муж. — Какие еще будут предложения по ведению хозяйства?
— Козам пора гречишной соломы понемногу класть, — шутки не принимая, сказал Яков. — Скоро пух щипать. От гречишной соломы коза пух хорошо отдает.
— В журнале, что ли, прочитал?
— Дед наш всегда так делал. А без гречишной соломы потом трудно пух щипать.
— Правильно гутарит, — поддержала баба Ганя. — Делали так.
— Что ж, привезем гречишной соломы. А то ведь и вправду щипать их несладко.
Отзавтракали. Хозяин присел на корточках возле устья печки, подымить. Якову сварили напоследок кружку пахучего какао, печенья да пряников положили.
— Мария Петровна умерла, — сказала мужу хозяйка. — Школу у них закрывают. Нет учителя. А у нас в Филоновской никого нет? — задумчиво спросила она не столько мужа, сколько себя. — Татьяна Петровна на пенсии, она не пойдет. Надо из молодых. Тамара Максимова в Михайловке в педучилище, на каком курсе? Ее мать как-то спрашивала меня про место. Надо поговорить с ней. У них отца нет, сестренка младшая. На заочное можно перейти и работать.
— Не могла наша Петровна чуток потерпеть, — со вздохом попенял Яков. — Конечно, старая. Но хоть бы до зимних каникул доучила. А не… Неделя прошла. Так и месяц пройдет, и зима. На второй год оставаться?
Так искренне было это мальчишечье, детское огорчение, что баба Ганя пожалела:
— А ты живи у нас. Школа — рядом. И мне будет с кем погутарить.
Предложение было неожиданным. Яков вскинулся и поглядел на Галину Федоровну и мужа ее.
— Живи, — подтвердил приглашение хозяин. — Лампочку красную в курятник ввернем, куры усиленно занесутся, харчей хватит. — Ему понравился этот мальчишка. Свои сыновья этой осенью в город уехали: старший — в институт, младший — в техникум. Стало в доме непривычно пусто. Живи, — повторил он.
Мальчик не мог ничего ответить, лишь глядел на Галину Федоровну, понимая, что последнее слово за ней. Она поняла его, сказала мягко:
— Живи. Комната свободная есть. С матерью я поговорю.
У Якова сердчишко колыхнулось от неожиданной радости. Поселиться в доме директорши, учиться в настоящей школе со спортзалом, где и зимой в футбол играют. А уж народу там… Школа своя вдруг увиделась в настоящем свете: пустой дряхлый дом со ржавою крышею, один-разъединый класс, Капустины да Кроха. Алешкинская школа — дворец. А дом Галины Федоровны… Это не пьяный да похмельный отчим да мать с ругней: «Замолчи… Прикуси длинный язык…» Здесь — книг полная комната, все стены в полках.
— Я обещал к обеду вернуться, — сказал Яков. — Мамка ждет.
— Конечно, конечно, — одобрила Галина Федоровна. — Сходи. Матери скажи. Я напишу ей записку. — И мужа попросила: — Ты куда едешь? Может, подбросишь его?
— До хутора не пробьюсь. Через ерики не пройдет мотоцикл. Там круто и развезло теперь.
— Не пройдет, — подтвердил Яков.
— Но до ерика довезу. Собирайся.
До Катькиного ерика — глубокой, с крутыми склонами балки с мутным ручьем по дну — могучий мотоцикл «Урал» докатил быстро. А далее, перебравшись через ерик, Яков словно на крыльях летел. Ни дождь, ни грязь не были помехой. Дорога к хутору была уже дорогой к новому, к завтрашнему, дню, когда он уйдет в Алешкин, в тамошнюю школу, к Галине Федоровне.
По-прежнему моросило. В займищном голом лесу было тихо. Даже воронье убралось к жилью человеческому, к теплу. До ночи, до своей поры дремали на лежках сытые кабаны. Рыжий, уже выкуневший лисовин, издали заметив мальчика, замер и не таясь переждал, пока он пройдет. Пара тонконогих косуль легкими скачками ушла от дороги. По мокрой земле и листве скачки были бесшумными. Мелькнули белые подхвостья — и нет их.
Яков по сторонам не глядел. Он на хутор спешил, где ждали его.
Через дом родной он промчался, не успев похвалиться. Мать с отчимом на базах управлялись со скотиной. Ухватив сумку, Яков подался в школу, гадая: как там без него? И если в долгом пути на хутор ничто не омрачало нежданно свалившегося на него счастья, то теперь пришло на ум иное: он уйдет, а Капустины с Крохой останутся. Что будет с ними? И что со школой? Радость гасла. А уж о том, чтобы в школе похвалиться, и вовсе не стоило думать. Молчать надо было до поры. Но до какой?
В классе все были на месте и, будто за делом, ждали, что скажет он.
— С Галиной Федоровной повидался, — доложил Яков. — Обещала найти учительницу. Есть у нее на примете. — И разом перешел к учебным делам: — Кто должен заполнять настенный календарь природы? Капустины, ваша обязанность? Почему не заполнили? И разом давайте тетрадки по природоведению. Задано было: живая и неживая природа зимой. Жизнь домашних животных, жизнь диких животных, труд людей… Все вопросы страницы пятидесятой и пятьдесят первой. У Маринки погляжу домашнее — и вас буду проверять и спрашивать. Надо учиться, а не сидеть зря. Придет новая учительница, а все отстали. А цветы не политы, — попенял он старшей Маринке. — Совсем свяли. Вон в алешкинской школе сколько цветов… Они не забывают.
Ворчливым упрекам своего старшего ребята даже обрадовались. Без Якова было пусто. А теперь по-прежнему все пошло: класс, уроки, строгий Фетисыч, словно смерть учительницы ничего не изменила в их жизни.
— А что отмечать? — забурчали братья. — Дождь да дождь.
— Вот и отметьте условным знаком дождь и температуру проставьте.
Легко поднялась старшая Капустина, стала поливать цветы. Затаив дыхание дожидалась у раскрытой тетрадки с домашним заданием первоклассница Кроха. Ждала, когда Яков подойдет к ней и сядет рядом. Все пошло по-обычному.
Но гость редкий, нежданный — колхозный хуторской бригадир Каледин уже обмывал возле крыльца сапоги. Из класса его увидели — и стали ждать.
А бригадир вначале обошел школу, пустые ее комнаты, где стояли столы и скамейки, висели на стенах портреты писателей да ученых, настенные планшеты, стенды: «Наши отличники», «Колхозные ветераны», «Они защищали Родину». Каледин когда-то учился здесь, и дети его через эти стены прошли, а с фотографии глядели лица знакомые. Кто-то теперь повзрослел, постарел, а кто-то и умер. Но жили вместе и долго.
Наконец бригадир пришел в класс. Навстречу ему поднялись все разом.
— Сидите, сидите, — махнул он рукой и похвалил: — Тепло у вас, хорошо. Цветки цветут.
Он снял долгополый намокший плащ, телогрейку, оставшись в пуховом, домашней вязки, свитере. Яков было пошел от учительского стола к своей парте, но бригадир остановил его:
— Сиди. Ты же теперь за старшего. Учитесь? — спросил он.
— Учимся, — ответили нестройно.
Бригадир был человеком суровым, немногословным, его в хуторе боялись.
— А может, вам у Башелуковых собираться? — спросил он. — Хата большая, теплая, и они не против.
У Якова перехватило дыхание.
— А библиотека? — бледнея от волнения, показал он на шкафы с книгами. — А наглядные пособия? А уроки физкультуры? Комиссия какая приедет, и будем не числиться. А беженцы, какие места ищут? Подъехали. Есть школа? Вот она, — убеждал он бригадира. — Значит, можно жить. А увидят замок — и развернутся.
— Верно, верно… — успокоил Якова бригадир. — Это я так, попытал… Будет Варя топить, приглядать. Дров напилим. А там учительницу найдем.
Бригадир и в прежние годы не больно разговорчивым слыл, а ныне, когда все вокруг прахом шло, он и вовсе стал молчуном. На людей не смотрел, ходил — «роги в землю». Но здесь, в школьном классе, глядя на ребятишек, на кипенно-белые банты в косичках крохотной Маринки Башелуковой, он как-то оттаивал, теплело на сердце. И ничего ребятишки от него не требовали, как все иные: ни работы не просили, ни денег, а просто глядели на него. И было приятно.
Карапуз Капустин вылез из-за парты с листом бумаги, не торопясь подошел к бригадиру и показал ему свое художество, сообщив:
— Это я сам нарисовал.
— Здорово… — похвалил бригадир, разглядывая рисунок с цветами, деревьями и красным трактором.
Отогревшись, он стал одеваться. На прощание Якову руку пожал.
— Держись, Фетисыч. Учительницу найдем. А пока на тебя надёжа.
Он ушел. На воле по-прежнему моросил дождь и не было просвета. В окне класса желтел электрический свет. Он помнил, как два года тому назад закрыли детский сад. Но целых два месяца, пока не настали холода, ребятишки собирались в пустом доме, играли. Они ведь привыкли гуртом, словно телята.
В школе ребята, как обычно, пробыли четыре урока. потом все вместе ушли, расходясь не сразу. Проходили не улицей, а через разбитые дома, что тянулись вдоль улицы. На воле — дождь. А там, хоть и окон-дверей нет, а потолки еще целы, не каплет. Покрутиться на вращающемся железном кресле в медпункте, залезть в глухую пещеру пустого холодильника, что стоял в магазине. А в клубе поиграть в прятки, хоронясь в будке киномеханика, в библиотечной комнате, в длинном коридоре. Помаленьку, но приближались к хатам своим.
Вернувшись домой, Яков вдруг понял, что день кончается, а все осталось как прежде: ни матери не сказал, ни ребятам, что уходит в Алешкин. С матерью было легче. А вот с ребятами…
Дома все было как обычно: тихая Светланка, не пьяный, но крепко выпивший отчим, потом с фермы вернулась мать.
У Якова позади лежал долгий день, и его морило, тянуло ко сну. Он прилег, чтобы вздремнуть, и разом уснул, мать его с трудом растолкала к ужину. За столом он сидел молча.
— Тебя ныне бригадир видел? — спросила мать.
— Он в школе у нас был.
— Охваливал тебя. На ферму пришел, не ругался. Либо выпил чуток… Мы к нему приступом, а он головой покачал: «Бабы, бабы, — говорит. — Я бы сам закричал по-пожарному и убег не знаю куда…» Тебя по двух раз похвалил… — И вдруг она вспомнила главное: — В Дубовке колхоз распускают. Районное начальство приехало, говорят, все, забудьте про колхозную кассу, расходитесь и сами об себя думайте. Спасайтесь своими средствами.
— И правильно, — одобрил Федор. — Поделить все.
— Вы уже поделили… Шалаетесь, как бурлаки… Все тянете. Колхоз хоть плохой плетешок, а все — затишка. Обещают овечками выдать зарплату. Может, дадут…
— Куда этих овечек. Сено травить?
— Резать да на базар.
— Сама повезешь.
— А вот Виктор Паранечкин возит. Берет у людей по дешевке и везет, торгует. Паранечка им не нахвалится.
— Перо ему в зад. А мне гребостно на базаре стоять. Мне лучше сутки в тракторе, безвылазно… Чем стоять кланяться всем.
— А шалаться — не гребостно…
Для Якова эти разговоры были известными. Кончались они одним — ругней. От стола он ушел к телевизору, потом возил маленькую сестру на закорках, изображая коня. Ржал он по-настоящему, на всю хату. А потом снова потянуло его ко сну.
Он уснул и проснулся уже ночью, во тьме. Словно ударило его. Он видел во сне день прошедший: школа в Алешкине, директорша Галина Федоровна, бородатый муж ее, баба Ганя. Вроде виделось доброе, а проснулся в испуге. Они ведь ждать его будут, а он не придет. Прийти он не мог, потому что нельзя было оставить свою школу. Тогда там все кончится, рухнет. Не будет уроков, повесят замок, цветы померзнут. А через неделю — это Яков знал точно — школу разгромят. Сначала вынут стекла. Говорят, они дорогие. Потом снимут двери, окна выдерут. И пойдут курочить. Первое время — по ночам, таясь. А потом среди бела дня, наперегонки, кто быстрее успеет. К Новому году от школы останется лишь пустая коробка с черными проемами. Так растаскивали клуб, детский садик, медпункт. Так будет и со школой.
Без него все пойдет прахом. Ни Марина Капустина, ни братья ее, ни тем более Кроха без Якова ничего не смогут. Лишь он знает, как тетради проверять, ставить отметки. Его Мария Петровна учила.
То, что прежде было гордостью мальчика, стало вдруг горем. Потому что нельзя было уйти в Алешкин, к Галине Федоровне. И от бессилья что-либо изменить Яков заплакал. Он плакал редко. «Бычок упористый…» — говорила мать. А теперь хлынули слезы, и казалось, не будет им конца. Горячие, волна за волной, они накатывались из груди. И мальчик плакал и плакал, пока не уснул.
Снова снилась ему школа, теперь своя, но такая похожая на алешкинскую: с просторными светлыми коридорами, с плетучей зеленью по стенам и потолку, со стеклянной оранжереей. И будто он, Яков, вел по школе и показывал ее своей старой учительнице, Марии Петровне. Учительница ахала, удивлялась и хвалила Якова: «Молодец…» А вокруг шумела детвора. Много ребят. И за стенами школы, на хуторской улице, было людно. Просто кипел народ, как на базаре. Голова от людей кружилась. А Мария Петровна все хвалила Якова и хвалила: «Молодец, молодец…» — и гладила его по голове горячей ладонью. Было сладко на душе от этих похвал, слезы подступали. И Яков не сдержался, заплакал. А горячая ладонь гладила голову мальчика и лицо, вытирала слезы, и добрый голос шептал и шептал: «Ну чего ты, сынок… Ну чего ты плачешь… Ну проснись, не плачь…» И горячие слезы сушили слезную влагу.
Это мать, сердцем почуяв тревогу и боль, услышала и пришла, сидела на краю постели сына и не хотела резко будить его, боясь испугать, и шептала:
— Я здесь, мой сынок… Не плачь… Ну не плачь…
А за окном менялась погода. С вечера прежде обычного смерклось. Дождь пошел сильнее, гулко барабаня по крышам. Но с вечера же явственно потянул холодный северный ветер. И вдруг в ночи застучала по окнам ледяная крупа. Не та снежная, белая, словно пшено. А ледяная склянь. Это шел дождь и замерзал на лету. Секло и секло по окнам, словно шрапнелью. А потом пошел густой снег. К утру насыпало его по колено.
К рассвету прояснилось. Заря вставала уже зимняя, розовая. Хутор лежал вовсе тихий, в снегу, как в плену. Несмелые печные дымы поднимались к небу. Один, другой… За ними — третий. Хутор был живой. Он лежал одиноко на белом просторе земли, среди полей и полей.
МИКОЛАВНА И «МИЛОСЕРДИЯ»
Который год уже по утрам в зеленой глухой чащобе вишен и слив, что стоят вдоль забора, поет садовая славка. Солнца восход. Прохлада и тишина. И вот зажурчала негромкая птичья песнь. Это — славка. Голос ее негромок, словно тихий ручей, журчит и журчит. Комочек легкого пуха: с ветки на ветку, с ветки на ветку, что-то склюнет — и снова журчит. Никто ее не тревожит.
Окраина поселка. В нашем дворе — покойно. В соседском и вовсе глухая тишь. Там старая Миколавна живет одиноко.
За высоким забором, за зеленой стеной деревьев ни с улицы, ни с нашего двора Миколавну не видать. Тем более что ходок из нее — никакой. Телом тучная, тяжелая, с трудом она движется на подпорах: костыль да клюка, а чаще — табурет, который толкает перед собой, на него опираясь. Горе — не ходьба. И потому дороги ее коротки: от дивана, на котором ночует и днюет — то лежа, то полулежа, — до кухонного, обеденного же, стола. А если по летнему времени на волю захочется из жаркой комнатной духоты, то с кряхтеньем и стонами выбирается Миколавна на крыльцо, надежно укрытое от сквозняков стеклянными рамами и дверями. В летнюю пору она подолгу сидит в этом стеклянном прогретом скворечнике, вздыхая и охая, порою что-то мурлычет. Песни ее — словно птичьи, слов не понять. И сама она будто большая старая птица, облезлая, обескрылевшая, еле живая, прячется, словно в дупле, в глухой огороже стен, высокого забора, густой зелени.
Только я слышу ее. Порой она меня окликает:
— Милосердию мою не видал?
— Не видал, — отвечаю ей.
— Увидишь, перекажи, пусть зайдет. Все мыкается.
«Милосердия» — это Дуня ли, тетка Дуня, а для молодых — давно уже бабка Дуня, которая живет против нас, через улицу. Она — казак вольный, в вечных походах. Ранним утром торопливо шлепают ее просторные калоши через улицу, в соседский двор.
— Миколавна! — окликает она. — Живая?..
— Слава Богу, дышу… А всю ночь промучилась. Лишь чуток комариным сном задремлю — и враз меня жаром осыпает…
И пошли речи известные, стариковские: о ночных хворях да недобрых снах.
С веранды моей видна лишь крыша дома соседского да верх стены. Все остальное заслоняет высокий забор да зелень. Но голоса и речи ясно слышны. И словно вижу картину привычную: на крыльце, на низкой скамеечке, — большая оплывшая Миколавна в просторной ночной рубахе, а рядом — тетка Дуня, худая и востроносая, словно воробей. Она не присядет. Костлявые черные ноги в просторных калошах покоя не ведают, с утра тем более. Сучит тетка Дуня ногами, уже занудившись. Соседкиным жалобам сострадает участливым быстрым говорком:
— Какая беда… Какая беда… Это надо… Беда так беда. — И успевает новости выложить и собственное, больное: — Таиса Абрамкина своего прогнала. Капеля он, говорит, и боле никто. Поросенок опять не жрет, гад. Била его, била. Кобель гавкать не стал. Ночью, слыхала, кто-то возле двора шалался, а он, сволочь такая, молчит. Нажрался и спит, нет ему горя. Ныне дам ему порки.
Беседа течет обычная, она не смолкает. Но слышится по двору шлепанье тетки Дуниных калош. Помойное ведро убрать, свежей воды принести. Летят короткие приказы с крыльца:
— Постановь… Прибери в сарай. Ведрушку — на крылец. Подотри… Подай…
Шлепанье калош убыстряется. Вихревыми кругами носится тетка Дуня по двору и скоро убегает, на ходу взахлеб передавая дела предстоящие:
— Макарьевна из проулка, ты ее знаешь, они кур помногу держали, вроде помирает, надо бежать глядеть. Мишка вчера бутылок привез два мешка, а в нашем магазине их не берут. Сваха переказала…
И вот уже калоши зашлепали вон со двора. Снова тишь. Лишь Миколавна в голос бурчит:
— Прозвонила — и нет ее… Коза комолая… Черти ее поджигают, лётом летит… Милосердия называется.
Это уже — для меня, чтобы я посочувствовал.
Спустя час ли, другой услышу я зов:
— Покличь мою милосердию… Увеялась…
Но где ее сыщешь, бегучую тетку Дуню? Надежный замок на воротах. Кобель хрипло лает, видно, пошла впрок наука. Хозяйка же — вольный ветер.
— Милосердия называется… — желчно цедит в своем дворе Миколавна. — Денежки любит получать.
— Не глядел? — порой снова окликает меня. — Нету ее?
— Не видать, — отзываюсь я.
«Милосердия» — это тетки Дунина официальная должность при хворой соседке. Миколавна — человек одинокий. Таким людям с недавних пор собес нанимает помощниц. Оплата — сущие копейки, отсюда и круг забот: заглянуть раз-другой в неделю, хлеба купить да молока; иная полы подотрет — спасибо и на этом. Но старые люди мудрят: всяк — свое. Отсюда и споры. Обязана «милосердия» с огородом помогать или не обязана? Щи варить?.. В хате прибирать?.. Обязана — не обязана… Деньги им платят.
У Миколавны за короткий срок этих «милосердий» сменилось трое или четверо. «Обязана… Не обязана»…
— У людей милосердия грядки поливает, — сообщала тетка Дуня. — А твоя процедит скрозь пальцы — и ушла.
— У людей — стирают, а твоя — с маникюром, культурная.
Кончилось это понятным; других отстранив, тетка Дуня заступила на должность при Миколавне: носить из магазина хлеб, молоко, получать хоть и малую, но копейку. Выслушивать укоры:
— Ушла и в тину села. Не дошумишься. Так и скачешь, так и скачешь.
Тетка Дуня и впрямь скачет весь день, словно воробей, промышляя. Востроносая, ростом невеликая; из-под заношенного платка быстрый глазок ее шныряет туда да сюда, словно воробьиный, ища поживу.
— Тетка Дуня! — окликнешь ее. — Тебе не надо…
— Надо, надо… — не даст она и закончить и скачет ко двору.
Траву ли скосишь, яблоки-паданки некуда девать, вяленая рыба год провисит на чердаке, пожелтеет, старую крупу шашель поточил, арбузные корки ли, капустные листья — все тетке Дуне идет.
— Кабан пожрет, — говорит она. — Куры поклюют.
Порою и не зовешь, она сама углядит:
— У тебя терновка падает, либо не нужна? Я заберу, — и тащит к себе еще зеленую кислую ягоду.
— Картошку старую заберу… Мелкую тоже заберу…
Выйдешь ли за двор, на улицу, глядишь — волокет чего-нибудь. С мешком ли гнется, на тачке везет.
— От Ильченки, — сообщает. — Груши падают, черномяски. Порежу да посушу. У меня груш нету, негде приткнуть.
— От Лаптевых… Огурцов у них нарастает, не успевают сбирать. Мне и желтяки сойдут. Своих бы насажала, да негде.
А уж от Миколавны с пустыми руками не выйдет. Какую-нибудь плошку ли, банку несет. Старые щи, засохший хлеб… Залежалось ли что, прокисло — все впрок птице Божьей.
К вечеру тетка Дуня устает. Долог день летний. Устанет — уже не скачет. Годочки свое берут. А их уже — семьдесят. Ширк да ширк калошами — к Миколавне бредет.
Миколавна же порой вечерней, когда в стеклянном скворечнике дышать нечем, спускается во двор на волю. За день она выспалась, отекла ли, припухла ото сна. Но сидит гоголем, рассказывает про телевизор: что показывали да как. Главное, конечно, кино. Сначала была «Мария», потом «Роза», теперь «Тропиканка». Миколавна глядит эти фильмы дважды: утром и вечером. Помнит их наизусть. А тетке Дуне всегда недосуг. Утром — в бегах, а вечером — засыпает. Включит телевизор — и заснет перед ним. Порою за полночь светят синим ее окошки. Это — включенный телевизор. А хозяйка спит. Все проспит, а узнать любопытно: про Марию, про Розу они ведь, считай, свои. Спасибо Миколавне, она доложит в подробностях, кто, как и с кем.
Течет неспешный рассказ.
Просторная скамейка возле крыльца. Во дворе — вечерние тени. Тетка Дуня сидя тут же задремывает под мерный рассказ. Голова ее клонится, клонится, и даже храп раздается.
— Ты чего не слухаешь, спишь?! — окликает ее Миколавна.
Тетка Дуня вскидывается и говорит в свое оправдание:
— Ныне, гутарят, такая и смерть будет: поснем все — и конец.
— Кто гутарит?
— Люди. В магазине, в очереди.
— Брешут они. А в каком магазине?
— Возле станции.
— Ты и туда добралась?
— С бутылками. Мишка два мешка притянул. Говорит, сдай. А в нашем магазине не берут их. И на площади не берут. Пришлось туда переть.
Мишка — это сын тетки Дуни. У нее две дочери, сын. Все отдельно живут.
— Здоровье у тебя хорошее, — говорит Миколавна, — вот ты и прешь.
— Откель? — слабо протестует тетка Дуня. — Ныне с утра под лопатку ширяет. Ширь да ширь, ширь да ширь.
— Мало ширяет. Надо бы — до болятки, — свое гнет Миколавна. — Не жалься. Хорошее у тебя здоровье, прямо кониное.
Это уже — обида. Трудно ее стерпеть. Но приходится. Тетка Дуня терпит, горько вздыхая, склоняя седую голову.
— Кониное… — бьет и бьет ее Миколавна. — У меня вот здоровья нет, я дома сижу. А ты — как на шильях, с утра до ночи скачешь и скачешь.
— Сравнила… — дрогнул тетки Дунин голос. — Меня нужда гонит. Кабы не нужда…
В этом вся суть: Миколавна — богатая, а тетка Дуня — бедная. Потому и носит чужие горшки. Это понятно всем.
— Денег мне хватит, — при случае говорит Миколавна. — И еще останутся.
Наши люди и впрямь живут небогато, но еще и прибедниться не прочь, чтобы не гневить Бога. Миколавна же напрямик режет: «Мне денег за глаза… Еще и останутся».
Вся улица знает: так оно и есть. В голодные годы, после войны, Миколавна работала в столовой, при хлебе. Потом всю жизнь торговала. Тогда это называлось спекуляцией. Так ее за глаза и величали — «спекулянтка проклятая». Теперь это дело обычное: поехать в Москву, тряпок купить, в поселке их продать подороже. Прежде такое занятие осуждалось и даже преследовалось по статье уголовной. Миколавна кого надо из милицейских кормила да поила. Берегли ее. И она ездила в Москву, в Ленинград, в Прибалтику, привозила оттуда ковры, обувь, одежду. В нашем старом доме до сих пор висит немецкий ковер с оленями. Покупали у Миколавны. Еще, я помню, долго носил зеленые шаровары «с начесом». Тоже из ее рук. Наши магазины в поселке были бедны, а уж про хуторские, окрестные, нечего и говорить. По хуторам Миколавна и ездила. Откуда у колхозников деньги? У них — трудодни. Она и «благодетельствовала», меняя привезенное добро на масло, сало, козий пух, пряжу, яички. Пряли на нее и вязали. Теплые перчатки, носки, пуховые платки, береты ехали с Миколавной на край света, на Север, к людям денежным. Оттуда везла меховые воротники. Не в поселок наш, Богом забытый, а к грузинам, в Тбилиси. Оттуда — товар иной. Колесом шли дела, ходором.
Другая статья дохода — огород. Он у Миколавны — немереный. Была в силах, то справа, то слева у соседей прихватывала, в задах прирезала немалый кус. Покойный мужик ее на этой земле все долгое лето мытарился. Одной картошки до двадцати мешков накапывали; помидоры да огурцы первыми на продажу везли. Туда же — яблоки, абрикосы, виноград. Но умер старик, у Миколавны ноги стали отказывать. Тут она и осела. Началась обычная старость. Но вся улица знала: Миколавна богатая.
А тетка Дуня всегда считалась бедной. Работала уборщицей, муж — шоферил, двух дочерей и сына они растили. Овдовев и пенсию уже получая, тетка Дуня подрабатывала там и здесь: мыла полы в конторах, топила печи. Дело в том, что огород у тетки Дуни — две грядочки да пара рядов картошки. Это по-настоящему изъян великий. От земли живем. А уж старики-пенсионеры тем более. Круглый год своим кормятся: картошка, капуста, лук, огурцы и прочее. Кормятся, да еще и на базар несут — к пенсии добавка. У тетки Дуни земли — с гулькин нос, вот она и скачет, и к Миколавне прилепилась, вначале вроде по-соседски, а теперь — «милосердия». Какая ни на есть, а копейка.
— Мою милосердию не видал? Увеялась — и знаку нет.
Днем бывает по-всякому. Но рано утром и к вечеру шлепают через улицу тетки Дунины калоши — «милосердия» прибыла.
— Любит она со мной завтракать и ужинать,- не таясь, объявляет Миколавна.
Тихий вечер. Тишина смыкается над дворами и улицей. В зарослях смородины, вишен да слив густеют ранние сумерки. В соседнем дворе готовятся к позднему чаю. Недвижная Миколавна: круглое пухлое лицо ее, словно летняя луна большая. Короткие команды:
— Столик ближе подвинь. Еще чуток.
— Каймак в холодильнике. Там щи старые, себе забери.
— Булки принеси.
— Колбасу. И яички вареные. Поем, а то в желудке нехорошо. Весь день не было аппетита.
— Молоко неси, забелить.
Тетке Дуне дважды повторять не надо. Она — скок да скок, шлеп да шлеп калошами: в коридор, в хату, к холодильнику. Все она знает. Не первый день при Миколавне, не первый год.
— Гляди крутым кипятком заваривай. Да ополосни.
— А булки принесла столешние.
— Истинный крест, Миколавна: только сгрузили, машина лишь подъехала, и я взяла, — оправдывается тетка Дуня.
— Закоржанелые. Топором не урубишь. Ты же все заторопом да лётом. Мясо купила — одни мослы. Лишь кобелю грызть. И ты не обижайся, я правду говорю. Я привыкла правду — в глаза.
— Истинный крест, Миколавна. Я вроде глядела…
— Не знаю, куда ты глядела, а мослов набрала.
Угодить Миколавне трудно.
— Так и сыскивает, так и сыскивает ежеминутно… Свекруха… — жалуется порой тетка Дуня.
Люди сторонние, уличные, ей сочувствуют, зная Миколавнин характер. Свои же, родные, отвечают просто: «Сто раз говорено: хватит чужие горшки выносить. Чего тебе не хватает? Пенсия есть. Живи себе». Тетка Дуня молчит, лишь вздыхает. И чуть свет спешит к Миколавне:
— Ты живая?
— Да вроде… А ночь не спала.
Миколавна — человек одинокий. Поразмыслив, решила она искать опору: «Чтобы было кому воды поднесть…» Родня ее — седьмая вода на киселе: двоюродная племянница с детьми да со стороны покойного мужа — такие же внучата. Но уж какие есть. Других на базаре не купишь.
Надо заметить, что Миколавне повезло. Как говорится, кому — война, а кому — мать родна. Новые времена пришли: цены полезли дуром, а тут еще беженцы со всех сторон — на дома поднимают цены. Раньше, бывало, помрет человек одинокий, в хате ставни закроют, и стоит она, никому не нужна. Нынче любая хибара — в драку, миллионы за нее дают. За родительские дома дети дерутся да судятся, ссорятся навек. У Миколавны дом завидный: кирпичный, высокий, под шифером, на улицу — три окна. Богатство немалое, если продать. Тем более что усадьба богатая — земли много.
Сговорились с племянницей: она ухаживает, докармливает Миколавну дом берет после смерти. Съездили к нотариусу, бумагу подписали.
Толстая, поперек себя шире, племянница хорошо, если в неделю раз прибредала к тетке. Приходила, охала, жалуясь на здоровье. Миколавна потом весь день бурчала:
— Помогальщица… Слезы лить… Обещали стирать, полы банить. Потонешь в грязи с такими помогальщиками.
Тетка Дуня подпевала ей:
— Непочетники… Такое счастье им в руки, такое богатство… В ножки бы, в ножки всякий день кланяться да Бога молить. А если ты больная, зачем соглашалась, подписывала документ? Дом тебе нужен, а старый человек — хоть помри… А в огороде — глядеть тошно. Одни бурьяны растут.
— Она и приходит лишь с проверкой: может, я подохла, — догадывалась Миколавна.
— Непочетники… — страдала за Миколавну тетка Дуня. — Ты — больная. А дочка твоя — кобыла здоровая. Почему не прийти?.. Такое богатство ей… Непочетники… В проулке Вера-хромая живет, на чужих записала дом. Они ей кажеденно везут слаженого да соложеного. Потому что почитают. А твои — непочетники, лодыри. Такой огород пустует, столько земли… Лишь работай.
Племянница скоро была отставлена. На место ее явились претенденты новые, тоже неблизкая родня ли, свойство, но люди молодые — супружеская пара с детьми.
— Нотариуса привозили. Племянницу ликвидировали. Теперь все на этих будет, на новых. Они — хозяева, — сообщала тетка Дуня народу любопытному.
Во дворе нашем, поглядывая на забор, она шептала с горечью:
— Обдурят они ее, обдурят… Повыманят все, а бабку — в дурдом. А мне что?.. Не век чужие горшки выносить. Да еще сыскивает. Мне дочери давно говорят: бросай. И кину. Пойду в собес, заявлю: снимите колоду. Чужие хвосты заносить несладко. Вечно чего-то плетет. То банки у нее пропали, то навоз. Брошу и буду спокойно жить.
К Миколавне тетка Дуня стала ходить реже, отвечая на ее укоры: «У тебя теперь есть помогальщики». Но к нам во двор стала прибегать чаще. И не столько нас проведать, сколько к соседям заглянуть.
— Как там? Новые-то… — И, не дожидаясь ответу, кралась к забору, приникая к щелям его: — В огороде чего сажают?
Новые хозяева ли, наследники приезжали на машине порой вечерней, после работы. Не всякий день, но бывали. Посадили картошку, другие овощи. Приезжали обычно с детьми, и в соседском дворе делалось шумно. Но ненадолго. Ведь у них был свой дом, свой огород, свои заботы. Так что подолгу у Миколавны они не рассиживались, навещая и помогая набегом. И потому в скором времени тетка Дуня стала наведываться к соседке. Хлеб из магазина несла, молоко, чаевничала, передавала новости все, как прежде. В речах не скрывала осужденья:
— Уж не хотела тебя расстраивать, а душа не терпит. Разве так картошку сажают? От рядка к рядку хоть аукайся. Подсказала бы им…
— Я подсказывала… — оправдывалась Миколавна. — Они рукой машут.
— В ножки бы поклониться… — вздыхала тетка Дуня. — Такое добро. И обязаны слухать тебя. Ты — хозяйка. Такое поместье, такая земля пропадает задаром.
Тетка Дуня уходит и приходит, шлепая калошами. Речи все те же:
— Не приезжали? Вот так никому мы не нужны. Огород сохнет, травой зарастает… Чего вырастет?
— Вроде воду качали… — заступается Миколавна. — Толклись там.
— Вот то-то и оно, что толклись… Чужое, оно чужое и есть… Капусту червяк поел, морковку трава забила.
День ото дня вечерние речи горше и откровеннее:
— Глядела я… Полы моет. Лужей нальет. Журчит вода под плинтуса. И чего это будет? Погниет все.
— Машина эта… То заедет, то выедет — всякий день. Скрип да скрип ворота, скрип да скрип. А потом — оторвутся. Будем со всем белым светом жить: все собаки — наши, все кошки, все алкаши, какие по улицам бродят, все цыгане… Отбейся тогда от них.
— Желудок у тебя слабый, больной. А они в тебя — котлеты да котлеты, котлеты да котлеты… Это до поры.
И самое главное — про огород:
— Не хотела тебя расстраивать, а душа не терпит. Какое богатство, а все — в распыл. Картошка еле дышит, лишь взошла, а желтая, вощаная. На помидорах и цвету нет. Огурцы вылезли и стоят. А люди уже на базар несут, и цены хорошие. А тебе на погляд нету, еще и покупать придется, от пенсии копеечку отрывать. Да-да! Зато травы, бурьянов развели темный лес. Волков водить. Потому что ты молчишь, а они — бессовестные…
— Я подсказывала, — оправдывается Миколавна. — Они рукой машут.
— Потому что бессовестные… Такое поместье испоганили, такое богатство… Скрозь пальцы течет…
Вечерние песни, они не нынче, так завтра свое берут: «Не хотела тебя расстраивать, но как промолчать… Ты сама потом будешь упрекать».
В середине лета помогальщики ли, наследники от огорода были отставлены напрочь. К Миколавне они стали ездить реже, в огород — ни ногой. Хозяйничала там тетка Дуня. И теперь калоши ее шлепали к соседскому двору в час вовсе ранний. Шлеп-шлеп-шлеп — мимо Миколавны, прямиком в огород. А тот огород лишь доброму трактору под силу.
Тетка Дуня же словно век земли не видала:
— Поздней капусты посажу…
— Помидоры семечками… — взахлеб спрашивала ли, извещала она Миколавну.
— Сажай. Меньше мыкаться будешь.
— Сажай. Может, прищемишь хвост.
Тетку Дуню торопило время — месяц июль и словно молодой азарт поджигал: наверстать упущенное.
На пустой земле уже поднялась, крепко укоренясь, сочная лебеда, жиловатая конопля — хоть прячься там. Тетка Дуня дергала траву руками с корнем, отвоевывая за пядью пядь.
— Баклажанов… На зиму закрутить.
— Картошки… Она успеет…
А нынешнее лето — сухое, знойное. Термометры день ото дня стараются: тридцать четыре да тридцать пять. Это — в тени. На солнце и вовсе пекло.Тетке Дуне и жара не помеха. Шлеп да шлеп калошами. За неделю она вовсе высохла, почернела и сделалась словно галка.
Дети стали ругаться:
— Тебе это надо? Годы свои хоть считаешь?
— Земля-то гуляет, — вначале оправдывалась она. — Помаленьку копаюсь. Что мне, перину мять? — А потом на приступ пошла: — Жалельщики! Сами зимой летите три раза на дню: «Ой, мама, томату дай… Ой, мама, у тебя огурцы расхорошие». Дай да дай.
Дети от нее отступились, а Миколавна ругается:
— Милосердия называется… Огородница… Проскакала — и нет ее. Ни здравствуй, ни прощай.
Миколавна ругается, колотит костылем по ведру — знак условный. Ведро громыхает и катится. А тетка Дуня — далеко, в конце огорода, не слышит ли, не хочет слышать.
— Делучая… Вот не дам воды, будет знать, — пугает Миколавна.
С водой в соседском дворе беда. Старинный качок еле чвиркает, добывая за каплей каплю. У всех теперь электронасосы «Камы» да «Агидели», шланги да трубы змеятся по огородам. Нажал кнопку — и бьет струя.
Тетка Дуня ведрами поливает. Утром, когда еще в силах, таскает по два ведра, вечером одно еле волокет. Все же семьдесят лет — это возраст. Тем более — такая жара.
Вечерние посиделки в соседском дворе теперь короче.
Миколавна, как и прежде, рассказывает о жизни далекой, из телефильма:
— Она к нему имеет симпатию, а он — женатый, детный…
Тетка Дуня дремлет под мерную речь, порою всхрапывает, сразу просыпаясь. А въяве не чужие страсти ее тревожат, а свое, огородное. И она вставляет невпопад:
— Новая напасть: зеленый червяк на капусте. Лист — как кружево.
Миколавна смолкает, ей нужно время, чтобы перебраться из жизни киношной в свою.
— Тертым табаком попытай, — советует она и продолжает прежний рассказ: — Он — детный, у ней — никого нет, а молодая, в соку…
Тетка Дуня снова задремывает, голова ее беспомощно валится на грудь.
— Спи иди… — говорит ей в конце концов Миколавна.
— Пойду, — соглашается тетка Дуня. — Так ныне заморилась, так заморилась…
— Заморилась она. Дур напал. В дощеку высохла, а жадаешь. Все тебе мало. Значит, здоровье хорошее. По такой жаре…
— Какое здоровье… Ныне полола. И враз в глазах — темная ночь, и все цветками пошло: красный, зеленый… Плывут и плывут. Белого света не вижу. На карачках к бане подлезла, в тенек, там отдыхалась, в память вошла. Так, видно, и помирают, — раздумчиво сказала она.
Миколавна поверила, укорять не стала. Мысли ее разом ушли в годы давние:
— Мы с мамочкой, бывало, на хуторе… Работаем, работаем. Огород большой, не сравнить. Работаем, работаем, а потом упадем под грушинку, в прохладу. Я падаю и по-мертвому сплю. Проснусь, а мамочки нет, она работает. И я — к ней. Девчонкой была…
Забыты страсти телевизионные: мексиканская любовь, война в Чечне все в сторону. Рассказ о своем, о годах далеких, в которых — хутор Ерик, мамочка, большой огород. А при советской власти на хуторе сделали коммуну, забрали коров и раз в неделю давали детям молоко. Мамочка из него молочную кашу варила. Маленькая Миколавна любила такую кашу. Однажды спешила с молоком от фермы, споткнулась, упала, и крынка вдребезги. Долго плакала, потому что не будет молочной каши. И мамочка плакала, обещала: «Молочную козу заведем… Козу не возьмут в коммуну».
Так далеко это все. Но так памятно и так горько.
Потом тетка Дуня уходит. Миколавна долго сидит одна, что-то мурлычет, поет. Печально звучит ее голос в покойном вечереющем мире.
А по утрам в густых зарослях вишен и слив поет садовая славка: журчит и журчит ее нехитрая песнь. Потом торопливо шлепают через улицу калоши. Это тетка Дуня спешит, по прозвищу Милосердия.
— Миколавна, ты живая?
Начинается день.


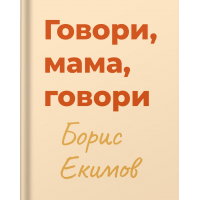
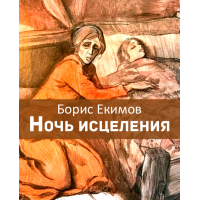
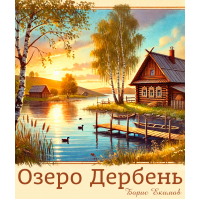
Комментарии