Тринадцать лет
Сергей Баруздин
Она много читала о море — много хороших книг. Но она никогда не думала о нем, о море. Наверно, потому, что когда читаешь о чем-то очень далеком, это далекое всегда кажется несбыточным.
Она много раз видела море. Видела в Третьяковке и Эрмитаже, где была прошлым летом с мамой. Потом тоже с мамой, когда они были во Владимире в Успенском соборе, — еле видимая фреска Андрея Рублева «Земля и море отдают мертвых». Так, кажется, называлась она.
Видела она море в кино и на открытках. Видела по телевизору и на плакатах.
Но опять она никогда не думала о нем, о море…
А сейчас увидела и не поверила. Море было совсем не такое, каким она могла его себе представить. Может, оно и бывает когда-то таким, как в книгах, на картинах, на экране! Может… Наверно, бывает…
Но сейчас… Сейчас море было большое и теплое. Теплое и большое. Большое, каким может быть только море. Теплое, как мама…
Они и прежде часто оставались втроем: отец, дочь и собака. И раньше отец, возвращаясь с дежурства, заходил в магазин, а Таня готовила.
— Наша мама, скорее, мужское начало в семье, — шутил отец, — а я уж, простите, женское. Я всегда дома, а она в разъездах. У нее и профессия женского рода не имеет — геодезист…
Отец посмеивался не только над мамой. Над Таней — тоже. За то, что у нее нет настоящего призвания в жизни. За то, что она даже в школе металась между литературой и физикой, геометрией и историей, физкультурой и математикой.
— Странный ребенок ты, Татьян! — говорил отец. — Ну, хоть бы к музыке проявила наклонность, хоть к рисованию…
Он говорил «хоть бы», а Таня знала: отец хочет, чтобы она была врачом. Она чувствовала это, понимала по многим разговорам его и просто по тому, что он рассказывал ей о своей больнице. Чувствовала: это он для нее говорит.
— Нормальный советский ребенок! Слава богу, не балерина, не художница! Учиться — доучиться! Не будет этого самого призвания, пойдет в рыбный институт или в мукомольный техникум… И, в отличие от нашего папы, не будет сидеть дома. Поездит, хватит лиха… Все равно когда-то человеком станет!
Так говорила мама.
Отец действительно никуда не уезжал. Да и куда ехать врачу, прикованному к своей больнице!
Мама раз, а то и два раза в год уезжала надолго: в Анадырь уезжала, на Чукотку, в Магадан, на Сахалин и еще куда-то. Туда, где были их экспедиции. А они были всюду.
Каждая поездка оставляла след в комнате. Кора пробкового дерева. Чучело белки. Архангельская прялка. Шкура уссурийского тигра. Коралл. Почти окаменелый, с ракушками кусок мачты фрегата «Паллада», пролежавшего на морском дне сто лет. Якутский кинжал. Молдавская курительная трубка. Засушенный мох. Гуцульская дудка. Игрушки из бивня мамонта. И фотографии. И старые карты. И видавшая виды буссоль. И записные книжки, которые боялись тронуть, открыть… И Тошка, черный, как гуталин, с длинными висячими ушами спаниель, привезенный к Таниному дню рождения из Карелии…
Теперь все мучительно напоминало ее. И они с отцом старались не смотреть на стены. В комнате ничто не изменилось со дня последнего маминого отъезда…
Только Тошка, кажется, еще ждал. Облизав шершавым языком руки Тане и потом отцу, когда тот возвращался домой, Тошка долго бродил по комнате, низко опустив голову, выискивая какие-то лишь ему понятные запахи. Он прислушивался к шагам на лестнице, поднимался передними лапами на подоконник — смотрел. Обнюхивал вещи и пол, ручки дверей и одежду на вешалке. Подходил к телевизору и радиоприемнику — тоже нюхал.
Когда включали телевизор, долго смотрел на экран, словно ждал и там. А потом, к вечеру, отчаявшись, ложился на мамину кушетку, опускал голову на поджатую правую лапу и долго невесело смотрел на отца и на Таню. Ложиться на постели Тошке никогда не разрешалось. Сейчас ему позволялось и это…
Так было каждый вечер, и Таня понимала, что больше всего отец не выносит Тошкиного взгляда, когда собака забиралась на мамину постель. Он отворачивался. Или говорил Тошке:
— Пошли лучше пройдемся!..
Тошка прыгал от радости. Ему гулять бы да гулять! А Таня знала: это не Тошке говорит отец, а ей… И еще — себе! И вообще это для всех отдушина! И для Тошки, который ждет того, чего не может произойти. Умный зверь собака! Разумное существо Тошка! Но нельзя же, право, душу травить!
И они шли гулять. Ходили по Первомайской и Парковым. Их много, этих Парковых, — считать не сосчитать! — всю арифметику изучишь! А еще по Измайловскому парку. Хорошему парку, но почему-то выцветающему и какому-то слишком людному… Ходили медленно, молча, и даже Тошка не тянул поводок и лишь изредка поднимал голову от земли, смотрел на них, будто спрашивал: «Где же?»
Тошка ничего не знал…
Так прошел июнь, и июль, и август — прошли. И начало сентября, когда Таня вернулась в школу.
Оставаться втроем было нестерпимо.
Она сама предложила отцу:
— Давай, пап, поедем туда, где мама?.. Насовсем! Ведь врачи всюду нужны, и школа там, наверное, есть… Я и там смогу учиться…
Отец, кажется, только того и ждал:
— Я сам, Татьян, все эти месяцы думал об этом… Но как ты?
Отец всегда звал Таню — «Татьян». И раньше звал так, и сейчас…
— Поедем?
Они почти ничего не собирали.
— Потом, потом, — говорил отец. — Вот устроимся, тогда…
Через неделю все устроилось. Через неделю они прилетели сюда — к морю.
— Как все хорошо, Татьян! Умница ты! Смотри, как хорошо!
Таня не узнавала отца. Он оживился, посвежел и вновь чуть помолодел…
— А теперь купаться, Татьян, купаться! И — немедленно!
Утром, лишь начинает светать, море будит шумом волны. Не слышно, как шумит галька, слышно только море — спокойное и могучее, волнующееся, будто в преддверии чего-то. Просыпаешься от шума моря, и сразу становится хорошо, так хорошо, что вновь засыпаешь, успокоенный его шумом, а потом, может быть, уже и не спишь, а просто дремлешь, потому что шум моря — в ушах, и приятно слушать его.
Весь день шумит море. На пляже громче. В комнате тише. На улице, по которой мчатся машины и автобусы, еще тише. Если подняться в горы, то море еле слышно. Еле, но слышно. Его слышно отовсюду. Шум моря похож на человеческое дыхание.
Катер ли пройдет по морю, теплоход ли, военный корабль, лодка ли какая или попытаются взметнуть его поверхность отчаянные купальщики, заплывающие до буйков и дальше, оно дружелюбно-спокойно ровняет водную гладь и возвращается к прежнему раздумью. Будто ничего и не было! Ни катера не было, ни теплохода, ни военного корабля, ни лодки, ни купальщиков. Ничего!
Море не перекричать ни криками на пляже, ни гулом транзисторных приемников. Море заглушает их. Море заглушает шум дороги с бесконечно движущимся транспортом, и шум толп отдыхающих, и гудки электровозов и электричек, несущихся между морем и горами. Между морем и той горой…
…На той горе, если подняться по ней не очень высоко, была тропа. Говорили, что тропа вела к Голубому озеру и к леднику.
Говорили…
Таня не поднималась туда — не видела Голубого озера, не знала ледника. Знала только, что на этом леднике работала мама. И там все случилось…
Они поднимались в гору вдвоем с Тошкой. Ошарашенный дорогой, непривычной обстановкой, морем, горами, Тошка ничего не понимал — тянул изо всех сил поводок и рвался вперед, в гору. Они шли мимо высоких и непохожих на подмосковные деревьев. Даже похожие были непохожи. Дикорастущий клен и ольха. Ясень и дуб. Самшит и эвкалипт. Фундук и граб. Бук и пихта. Они напоминали что-то знакомое, лесное, но деревья были другие, не такие, какими их, не замечая, привыкла видеть Таня в подмосковных лесах.
Чем ближе они приближались с Тошкой к тому месту, куда шли, Таня больше натягивала поводок:
— Не рвись, пожалуйста, Тошкин, не рвись!
Тошка и не рвался. Сейчас уже не рвался. Справа — два клена. Их называют здесь чернокленами. Слева — заросли орешника. Между ними — четыре подстриженные туи и дощечка — мраморная, серая, с выбитой надписью: «М. Г. Кокорева, геодезист. 1924–1965». Вокруг дощечки на низком холмике — цветы. Это их с отцом цветы. Они приходили сюда сразу по приезде. И еще цветы. Это аджарки в черных одеждах по пути на базар положили их. Так объяснил отец. Местные женщины всегда кладут цветы на могилы приезжих. Особенно те, что сами ходят в черном. Они тоже потеряли кого-то из близких…
А Тошка, ничего не понимающий Тошка, ложится у могилы и кладет голову на правую поджатую лапу. Он смотрит на цветы и пробует нюхать их, но вроде стесняется, смотрит на Таню и опять — на цветы. Тане кажется, что невесело смотрит…
Внизу шумит море. Его видно. И слышно. Но отсюда, с горы, оно совсем не такое, как там, внизу. Оно бледное, разноцветное и далекое. И только шум его, еле слышимый шум, говорит, что оно — море…
…Море одно, а кажется, собралось в нем сразу сто морей. А может, и больше. Даже при одной погоде сто или больше.
У самого берега, где шумит прибой, где галька то открывается, то закрывается водой, море прозрачно-зеленое, как в мелком бассейне, и неизвестно, что ты видишь, что бросается тебе в глаза больше — вода или камни, дрожащие, будто живые, с непонятными блестками, разных форм и размеров, разных цветов и оттенков.
И сразу же идет иное море. В двух-трех метрах от берега оно уже не прежнее, а густо-зеленое, вроде бы и не живое, а отлитое из стекла, самого простого и грубого бутылочного стекла. Уже не видна галька, если смотреть на море с берега, да и само море вроде бы уже не море, а зеленая искусственная полоса неживой тяжелой воды.
А за ней вдруг — совсем другое. Зеленовато-синяя вода, переливающаяся, дышащая, светящаяся — настоящее море. И море, почему-то зовущее к себе, приманивающее и не пугающее. И ни барашков, ни волн на этой воде нет, а только синь всех цветов, и дыхание, и еще, пожалуй, что-то убаюкивающее, как колыбельная песня.
Дальше уже все непонятно. Меняются цвета. Синие, голубые, черные — всех оттенков, они перемежаются белесыми полосами и пятнами, меняются вразнобой, и так до самого горизонта, где море, уже спокойное и темно-одноцветное, резко граничит с небом — таким же спокойным, таким же одноцветным, но белесым.
Туда не хочется, хотя там и спокойно. Почему-то кажется, что там нет жизни и там страшно.
Им дали комнатку возле самого моря. Комнатку с балконом в одном из хозяйственных помещений санатория. Внизу был склад. Над ними — жильцы и небо. Впереди — море. До него — рукой протянуть!
Рядом с домом пробивалась сквозь мелкую гальку трава. Рядом с домом росли длинные, как свечи, кипарисы. Рядом с домом цвел олеандр и тянулись ветки непривычного вьющегося шиповника. Рядом с домом росли сибирские кедры, бананы, алыча, мушмала, пальмы. Днем возле дома вовсю галдели не по-московски поджарые воробьи. Ночью над домом проносились летучие мыши и плакали по соседству тощие кошки. Голуби и чайки кружились совсем рядом.
Отец работал теперь в санатории — тут же. Таня ездила в школу на автобусе — пять остановок. Близко была грузинская школа. Близко была армянская. Русская дальше, у турбазы.
Тошка ждал Таню, когда она вернется из школы.
Таня ждала отца, когда он вернется с работы.
Вечером все собирались на балконе и смотрели на море. Когда было тепло, купались, а потом все равно сидели на балконе. Тошка вставал на задние лапы и скулил, глядя на солнце, которое заметно, на глазах, скатывалось в море. А потом скулил, глядя на месяц.
— Ты знаешь, Татьян, странные человеки люди! — рассказывал отец. — Вот приехали сюда, отдыхать приехали, и что ни человек — оригинал! Одни приходят ко мне без конца, жалуются, стонут. И то у них болит, и другое, и третье. А посмотришь — здоровяки. Ничего особенного! Ну, как у всех, какие-то болячки в худшем случае есть, и все! А ведь других не затащишь. Иной и курортной карты не захватил с собой, купается, загорает, считает себя на сто процентов здоровым. А вытянешь его к себе в кабинет, посмотришь — удивишься: как он бегает? И то у него не в порядке, и другое… И не как-нибудь — всерьез…
Отец увлечен новой работой, и Таня радуется этому.
— А сегодня, знаешь, опухоль у одного отдыхающего обнаружил, — продолжал отец. — И тоже из таких: еле затащил, еле рентген уговорил сделать. «Какая там медицина! — говорит. — Сроду не болел и не собираюсь. Что вам зря голову морочить!» Вот и морочить! А другие в каждом прыще раковую опухоль подозревают! И действительно, морочат голову без всякого повода… А сколько холециститов находишь! И тоже вовсе не у тех, кто без конца жалуется на здоровье…
Таня вспомнила:
— Как у мамы?
Зря, наверно, вспомнила. Отец сразу сник. И долго молчал. Очень долго.
— Мама тоже была такая, — сказал он наконец. — И признаюсь тебе, Татьян, люблю я таких людей! Которые на болячки свои внимания не обращают, — люблю! Казалось бы, не положено это мне, врачу… А люблю!
…Днем море шумит, как море. А ночью…
Ночью моря не видно, особенно в осенние пасмурные дни, когда ночь наступает рано, и месяца нет, и звезд, и не маячат вблизи от берега корабли, и лишь редко охватывают темную поверхность воды лучи прожекторов. Стоит закрыть дверь на балкон, если холодно, или просто забраться в постель — и кажется, рядом не море, а какой-то огромный завод, без конца пересыпающий гальку.
В ясные ночи море спокойно, и все равно его не чувствуешь. Видишь дорожку от месяца. Видишь еле заметные дорожки от звезд. Видишь дорожки от проходящих где-то, светящихся огнями кораблей. И еще от редких лучей прожекторов. Но все они — и светила, и огни, и прожекторы — выхватывают лишь куски темного моря, и ты не видишь его, не слышишь, а слышишь только шум пересыпаемой гальки. Скорее, это она живет, движется, действует, а не море. И все же, наверно, это море ее пересыпает. Значит, оно живет, море!
Отец просыпался рано. Раньше него просыпался только Тошка, но он вел себя тихо, молчал и терпел, ожидая, когда проснутся все и выпустят его…
Сегодня Таня проснулась раньше других. Может, и не проснулась, а просто встала — ей не спалось. Встала, вывела Тошку.
Искупалась. С трудом загнала Тошку в море, окунула. Он почему-то боялся воды.
Вернулась.
— Ты что, Татьян?
Она уже перечитывала задачку по физике. Вчера решила, но засомневалась — правильно ли?
— Ничего…
— С добрым утром! Ты что?
— С добрым утром, пап! Я просто задачку решила посмотреть…
— Окунемся?
Она не сказала, что уже купалась.
— Конечно, окунемся…
Так у них теперь всегда начинался день.
Они вышли все вместе, и с отцом Тошка сам полез в море. Фыркал, захлебывался, поправляя в воде лапами уши, — купался.
Вода была по-утреннему теплая, а воздух после ночи прохладный. В эту пору море теплее воздуха, теплее земли, теплее гор. Пока нет солнца.
Тошка, выбравшись из моря, катался по гальке. Тер уши о камни, как будто в них попала вода.
— Смотри, — сказал отец.
По морю, почти у горизонта, шел корабль.
— Эсминец, — сказал отец. — Знаешь, Татьян, вот гляжу и до сих пор завидую…
— Почему, пап?
— Моряком всю жизнь мечтал быть, а вот стал врачом.
Таня этого не знала. Может, отец никогда не говорил, или просто она не слышала, или слышала — не помнит…
— Ты жалеешь? — спросила Таня.
— Жалею? Нет, что ты, Татьян, конечно, не жалею! Просто детство вспомнил… Море увидел, эсминец этот, вот и вспомнил.
У моря своя жизнь и свои заботы. Если быть не морем, а человеком, это, наверно, можно понять.
Море работает днем и работает ночью. Море работает утром и работает вечером. Море работает всегда — всю жизнь. И даже когда оно совсем затихает, не бьет в берег, а лишь тихо плещется, оно работает.
Впрочем, затихает оно не всюду. У одного берега — штиль, у другого — шторм. У одного оно в свете солнца, у другого в нахмуренных тучах. Здесь — мерно передвигающее гальку, там — бьющее в скалы. Оно точит берега, подмывает горы, просеивает песок, изменяет карты и жизнь людей.
Со мною, ты рядом со мною…
И солнце светит, и для нас с тобой
Целый день поет прибой.
Прозрачное небо над нами,
И чайки кричат над волнами.
Кричат, что рядом будем мы всегда,
Словно небо и вода, —
гремит над всеми пляжами радио.
Говорят, что это японская песня о счастливой любви. Какая тут счастливая любовь? Неужели она такая беспокойная и малоприятная, как песня на этом пляже? А ведь она гремит всюду. И над улицами, и над санаториями, и над домами отдыха, и над одинокими «дикими» отдыхающими! Песня становится порой не песней. Как она, эта песня, попала и прижилась здесь — непонятно. Люди принесли ее сюда, завели, усилили мощными приемниками, разнесли по всему берегу.
Звучит песня? Звучит! Тихая, чуть грустная песня звучит сверхгромко, бодро, вовсе не грустно и беспокоит всех вокруг. Люди отдыхают — она гремит. Люди спят — она неистовствует. Люди думают — она и думать мешает. Зачем ее занесли сюда люди? Зачем?
Море как люди. И люди как море. В чем-то море сильнее людей, а в чем-то люди сильнее моря. Море ведет себя по-разному, как разные люди. Море приносит радость, и море приносит беды. Люди создают новые моря, а иногда они же, люди, губят старые, и все же люди становятся лучше рядом с морем. И море платит им добром и красотой, потому что оно — море! Оно вечно! Оно всю жизнь работает!
Отец возвращался в пять. Иногда раньше, но в пять — обязательно. Сегодня он не пришел и в шесть…
Таня оставила Тошку и побежала в санаторий.
Кабинет отца был заперт, сестра, знакомая Тане, Ольга Михайловна, сказала:
— А разве он не дома? Ушел давно. Может, он у главврача…
У главного врача сказали:
— Был. Ушел. Возможно, он у директора. Он собирался.
У директора:
— Заходил. С час назад заходил. Быстро ушел.
Сестра-хозяйка встретила Таню у бельевой:
— Я его на улице видела, минут двадцать назад. С рынка шел, с цветами…
Она вернулась, взяла Тошку и помчалась в гору. Тошка, чувствуя, что они встретят отца здесь, рвал поводок.
Они нашли отца там.
— Почему ты мне не сказал, пап?
Отец, кажется, смутился:
— Просто сегодня пять месяцев ровно. Вот я и пришел…
— А мне, почему же ты мне не сказал?..
— Зачем, Татьян? Ты… Зачем тебе это?..
Они спускались втроем. Тошка уже не тянул поводок, а лишь посматривал изредка на хозяина, и сопел носом, обнюхивая тропинку, и тяжело дышал.
Облака повисли над горами, начинало смеркаться, и только над морем было солнечно и ясно. Вода серебрилась.
— А они часто гибнут? — вдруг спросила Таня.
— Кто?
— Геодезисты. Это очень опасно, да?
— Да, Татьян, — сказал отец, — часто. Мама как-то говорила, что у них за год больше двадцати человек погибло. Но…
— Что «но», пап?
— Нужно это, Татьян, понимаешь, нужно! Работа эта очень нужна! Понимаешь, очень!
Ночью Таня опять почти не спала. Думала. Это, наверно, плохо, что не спала. Это, наверно, нужно — думать…
А иногда и по ночам слышно море — оно плещется. Легко и таинственно плещется. Не шумит галькой, не грохает волнами, не бьется о берег, а плещется, будто ласкает этот берег. И понятно почему: ведь море — оно такое разное.
Море для каждого свое, и каждый видит его по-своему. Одно море вызывает у разных людей разное: радость, беспокойство, фантазию, грусть, воспоминания, отчаяние, мечту…
А в эту ночь оно еще и ленивое. Ленивое не по собственной лени, а потому, что таким его чувствуешь, потому, что тебя самого одолевает ленивое спокойствие и беспокойные мысли.
Каждый человек видит в море свое море. И это хорошо.
— Татьян!
— Что, пап?
— А тебе не кажется, что ты скучаешь?
Таня скучает? Нет, кажется, она совсем не скучает. Они приехали сюда — это хорошо…
Ее поразило то, что случилось с мамой. Нет, она, конечно, не понимала этого — ни тогда в мае, когда пришла телеграмма и отец в тот же вечер вылетел на Кавказ, ни потом, когда он вернулся, ни еще потом — в июне, июле, августе…
Но тринадцать лет — тринадцать лет. В тринадцать ты уже не маленькая. В тринадцать ты еще и не большая. В тринадцать ты не поймешь, что будет в двадцать три, и в тридцать три, и в сорок три, и в пятьдесят три… И дальше — не поймешь, потому что до этого надо дожить.
— Что ты! — сказала Таня. — Почему я скучаю? И Тошка у нас, и школа…
Тошка действительно был. И школа была — новая школа, к которой не так скоро привыкнешь.
— Нет, я просто так, Татьян! Да и не мне, собственно, принадлежит инициатива. В общем, мальчик здесь есть один, сын нашего рентгенолога. Они тоже недавно сюда приехали, из Еревана, кажется. Говорят, скучает тоже. Ровесник твой почти — в восьмом классе. Мать его говорит: «Вот им познакомиться!» Ну, я и предложил тебе…
В теплые солнечные дни пляж был переполнен. Люди, уже почувствовавшие наступление осени, старались побольше влить в себя солнечного света, надышаться соленым воздухом так, чтобы хватило на всю зиму, и, конечно, побольше побыть с морем.
Море и в эти дни было разное.
Небо меняло цвета моря и облака, плывшие над ним. Горы меняли цвет моря и ветры. Но и не будь их — неба, солнца, облаков, гор, ветров, — море все равно не было бы одинаковым. На то оно и море.
На пляже работала женщина-художница. Не молодая, в шортах, с жилистыми, в синих прожилках, волосатыми ногами, и шляпе сомбреро на голове. Она выходила на пляж вчера, и толпа любопытных окружала ее. Она рисовала море какой-то чернильной краской, неприятно чернильной, хотя море было спокойное и синее и над ним светило солнце. Она вышла на пляж сегодня утром, и опять толпа купальщиков сгрудилась вокруг. Она рисовала море грязными оранжево-зелеными мазками, а море вместе с погодой хмурилось, и белело барашками, и накатывалось на пологий берег пенистыми волнами. Она вышла на пляж и сейчас, после обеда, когда людей почти не было. Море почернело, закиселило, забурлило, а на новом холсте у художницы появились бледно-голубые и желтые тона.
…После школы Таня всегда приходила на пляж. Вместе с Тошкой.
Тошка деловито колесил по гальке, обнюхивал каждый камушек, косился на шум прибоя, а потом, утомившись, ложился рядом с Таней и с мольбой поглядывал на нее: «Поведешь меня купаться или нет? Уж лучше бы ты сейчас одна. А я вечером, когда вернется он…»
Сейчас Тошка был растерян. Отца не было. А Таня пришла на пляж не одна — с Геворгом.
«Идти с этим человеком в воду или не идти?» — размышлял Тошка. Его смущало, что у человека гремит под боком музыка, чего никогда не было у хозяина. И потом то, что он чужой…
— А у нас в школе, по-моему, учителя хорошие, — говорила Таня. — Я, правда, мало их знаю, но мне нравится… Лучше, по-моему, когда сразу нравится в новой школе… А ребята как у вас?
— Что ребята! Подумаешь!
Он без конца крутил приемник. Из приемника вырывались звуки — ревущие, стонущие, какие-то вопли и крики под несуразную музыку.
— Все ерунда! Ничего интересного! А знаешь «Бродягу»? — вдруг спросил он. — Так это сейчас самый модный танец на Западе — «Бродяга-твист». Хочешь, покажу? Это — блеск!
Он встал в позу, взвизгнул, завилял голыми ногами и запел рублеными фразами на мотив твиста:
Гд-де золото роют в горах,
Бродяга, судьбу проклиная,
Тащился с сумой на плечах.
Бр-ро-дя-г-га к Байкалу под-д-хо-д-дит,
Рыб-бац-кую лодку бер-р-рет,
Унылую песню заводит,
Про родину что-то поет…
Пойд-дем же в курень наш родной.
Жена там по мужу скучает
И плачут детишки гурьбой…»
Эх! А-ай! Эх!
Таня не раз видела твисты. Видела красивые и всякие. И «Бродягу», грустную песню, слышала не раз. Такого она еще не видела и не слышала!
— Отлично, правда? — Он спросил довольный, запыхавшийся, упал на гальку. — Вот это модерн!
— А по-моему…
Они познакомились вчера. Вернее, их познакомили, Тане очень понравилась мать Геворга. А сейчас она не знала, о чем говорить. Вдруг вспомнила — художница.
— А правда, смешно она рисует? Ты видел?
— Гениально! — сказал Геворг. — Талант! Море видит — море рисует. Горы увидит — горы рисует. Все увидит — все нарисует! За все деньги получит!
— А мне не нравится, — призналась Таня. — Как рисует она, не нравится…
— Но это ты зря! Модерн, милая! Его надо понимать!
Над горами появились облака — сначала легкие и воздушные, затем серые, с рваными краями. И море сразу же изменило краски — стало темнеть.
Цепляясь за лесистые вершины гор, облака опускались все ниже и ниже, захватывали ущелья и лощины, превращались в тяжелые, непроглядные тучи. Только горы, казалось, сдерживали их сейчас, но и горы ничего не могли сделать: сизая пелена ползла от гор к морю.
Тучи шли от гор, опускались все ниже и ниже, к морю. Они, как бы нехотя, заволакивали воду дымкой — от берега и дальше, все дальше и дальше. Они ползли уже не только по склонам, где приютились домики верхних улиц, а и затянули туманом улицу нижнюю, главную. Водители включили фары и все чаще давали сигналы. И поезда шли сейчас, нервозно гудя, с зажженными фонарями.
Море темнело от берега. Тихое, вроде бы затаившееся, с гладкой поверхностью и чуть слышным прибоем, оно пошло то белыми, то черными пятнами, то непонятными разводами, как будто в него выбросили с воздуха другую воду.
Ожидание длилось час, не больше. В горах ударил гром, и хлынули потоки дождя, а море уже бесновалось. Оно заливало берег, билось о бетонную набережную, о лестницы и глыбы скал, оно гремело и вздрагивало, охало и восторгалось, плакало и ревело.
Небо над морем стало не серым и не черным, а каким-то неестественно бурым. Молнии разрезали небо то слева, то справа, то впереди, то сзади, то где-то над самым берегом. Море поглощало их, проглатывало вместе с бурым небом и ударами грома. Море теперь было сильнее грома.
— Ну что, действительно ничего мальчишка?
— Пап, но он же не мальчишка! Он даже старше меня — на целый год!
— Ну, не мальчишка, прости, мальчик.
— Ничего, — призналась Таня. — Только, знаешь, таскает всюду с собой этот транзистор. И крутит! Кому это нужно!
— Мода! Ничего не попишешь!
— А по-моему, это не мода, а глупость. Тошкин и тот не переносит этого его приемника… А когда твой Геворг твист на мотив «Бродяги» исполнял, Тошка даже завыл…
— Тошка у нас, Татьян, умница! — согласился отец. — Тошка вне конкуренции!
А к вечеру все стихло, и рыже-красная полоса неба повисла над горизонтом. Там село солнце, а чуть левее от него искусственно низко над морем повис нарождающийся месяц, такой же рыже-красный, с задранным кверху нижним краем, на котором, казалось, вот-вот появится черт из гоголевской «Ночи перед рождеством».
Тучи и облака изменили направление и полезли обратно — в горы. Сначала по пляжу — от воды вверх. Потом — по улице, по крышам домов и прибрежной зелени. Потом еще выше, цепляясь за верхушки деревьев, взбираясь по полянам и тропкам, скалам и ущельям, выше, выше и выше. Вершины гор задерживали тучи, но они упрямо вздымались вверх и ползли дальше, в глубь хребта, уходя от моря. А море освобождалось от тумана и туч. Море светлело, все больше светлело, несмотря на вечерний час.
По морю прошла бледная, увеличивающаяся к горизонту дорога, такая, что хоть плыви, хоть кати по ней! Вот бы и впрямь прокатиться! Где-то, совсем рядом с морем, не очень стройные женские и мужские голоса пели:
Куда ведешь, куда зовешь?
Кого ждала, кого любила я,
Уж не воротишь, не вернешь.
Там за рекой, над тихой рощицей,
Где мы гуляли с ним вдвоем,
Плывет луна, любви помощница,
Напоминает мне о нем.
Жила девчонка я беспечная,
От счастья глупая была,
Моя подружка бессердечная
Мою любовь подстерегла…
Странно было слушать эту песню, когда рядом — пальмы, и необычная зелень, и горы, и море… Так же странно, как японскую:
Со мною, ты рядом со мною…
Для нее, для Тани, странно.
А море в эту пору завораживало. И особой красотой своей, и особо ласковым прибоем, и особой послегрозовой свежестью, когда запахи моря как бы смешались с запахами пресной дождевой воды, и смывшей пыль прибрежной зелени, и насытившихся влагой цветов, и горной хвои. Бурлили горные реки и речки, неся воду и запахи гор в море. Они неслись оттуда — с гор. Бежали по пляжам ручьи и ручейки, неся воду и запахи берега в море. И они неслись оттуда — с гор.
Оттуда — от мамы. И море принимало их распростертыми берегами все — большие и малые, чистые и мутные, шумные и тихие, — принимало со спокойной радостью. Ведь и реки, и ручьи, и дожди, как бы ни были они малы, поят море!
— Сегодня, Татьян, пойдем на станцию, — сказал отец. — Контейнер наш прибыл, с вещами…
Контейнер из Москвы отправляли друзья отца. Собрали, по его просьбе, только одежду, книги, мелочи — никакой мебели.
Весь вечер они разбирали вещи. Таня вешала на стены, клала на полки самое трудное.
Вот кора пробкового дерева. Чучело белки. Архангельская прялка. Шкура уссурийского тигра. Морской коралл…
Вот почти окаменевший, с ракушками кусок мачты фрегата «Паллада», пролежавшего на морском дне сто лет. Якутский кинжал. Молдавская курительная трубка. Засушенный мох…
Вот гуцульская дудка. Игрушка из бивня мамонта. И фотографии. И старые карты. И видавшая виды буссоль. И записные книжки, которые она и сейчас боялась открыть…
Вдруг Таня обернулась и увидела Тошку.
И отец увидел, раньше увидел, сказал:
— Смотри, Татьян…
Тошка достал из чемодана мамины тапочки. Те самые, которые он так любил грызть при маме. Те самые, за которые ему всегда попадало. Он отнес тапочки к Таниной раскладушке и лег рядом. Лег, положив морду на тапочки.
— Пап! — сказала Таня.
— Что, Татьян?
— А я теперь знаю, кем я буду! Обязательно буду!
— Кем, Татьян?
— Геодезистом!
К концу октября море совсем подошло к их дому. Теперь оно плескалось и бурлило, грохотало и работало галькой, блестело и чернело прямо под самым балконом. Погода все чаще хмурилась: дождило с грозами и ливнями, горы стояли в облачных шапках с утра до вечера и с вечера до утра.
По ночам море штормило. Оно билось о берег, билось с перерывами, словно собирая силы, чтобы посильнее ударить. И хитрило, замолкало на какую-то долю минуты, потом вздымало волну, и прокатывало ее по гальке прямо к бетонному основанию набережной, и ударяло по ней. Брызги летели на асфальт и прибрежную траву, на кусты олеандры и стены дома. Брызги летели на балкон и на стекла окон.
И когда казалось, что вот-вот море разыграется вовсю, сметет все, что стоит на его пути — и набережную эту, и дом, и деревья, и кустарники, — оно стихало, откатывалось назад, освобождая даже пляж с неестественно намытой стеной гальки, а потом вновь и вновь начинало бросаться на берег, и все повторялось опять.
И так до утра. Может быть, потому, что утром при свете и большое страшное море становится чуть другим — проще, ласковее, живее.
И все-таки море было теплее берега, и днем люди продолжали купаться, проветриваться на ставшем совсем узком пляже, даже в дожди и, уж конечно, в короткие перерывы между ними, когда над морем появлялось солнце.
Море выбросило на берег мертвого лебедя. Черного, с длинным красным клювом, распластанными широкими крыльями. Волна била по телу и крыльям, болтала лебедя по гальке: вперед — назад, назад — вперед. И чуть влево. И опять влево. Все время влево по берегу. Лебедь, безжизненный лебедь, был удивительно красив и сейчас, мертвый.
— Геворг, — спросила Таня, — а ты боишься смерти?
— Что? — удивился Геворг. — Что это ты, милая! А чего ее бояться! Все там будем! Так отец говорит. Он прав! Подумаешь, смерть!
— Пойдем купаться, Геворг, — предложила Таня.
— А-а, неохота что-то!
— Почему неохота? Пойдем! Ты что, моря не любишь?
— Подумаешь! Что в нем, в этом море! Ничего особенного! Неохота!
Таня натянула на волосы резиновую шапочку и пошла к морю:
— Как хочешь…
Потом вдруг вернулась:
— А знаешь, Геворг, по-моему, смерти не боится только тот, кто ничего не хочет сделать… Для людей! Вот! А я — пойду!
И она пошла в море.
Люди тянутся к морю, улучая каждую свободную минуту. Люди тянутся к морю, которое дольше всех сохраняет в себе тепло. Тянутся к морю, потому что оно, море, похоже на жизнь. А людям очень нужна она, жизнь!..
Тошка, поджав хвост и виновато глядя на Таню, бегал по пляжу. Он был верен ей, Тане. Но он боялся огорчить ее, а море ревело, вело себя неспокойно, и Тошка не знал, как ему поступить, когда волна захлестывает пляж, когда она наконец уходит и потом вновь бросается к его ногам — с пеной, с шумом, больше того — с диким грохотом.
Таня была спокойна, и Тошка видел это. Таня была, кажется, молчалива, и Тошка тоже понимал это. Не понимал Тошка одного: почему с Таней этот кто-то, кто без конца пытается заглушить шум моря громом музыки?
Тошка привык к музыке, ко всякой музыке. Он слышал ее там, в прежнем доме, в Москве. Иногда Тане приходило в голову завести на полную мощность радио или магнитофон, и Тошка спокойно выносил это.
По праздникам радио гремело на улицах, куда его водили гулять, — на Парковых и Первомайской. И Тошка это выносил. Но здесь — музыка под мышкой. И какая-то громкая, хрипящая, крикливая музыка…
Тошка бегал по пляжу, косясь на море, на Таниного соседа и на музыку, хрипящую по соседству с ним. Почему-то эта музыка и сам ее хозяин казались Тошке чем-то одним, неприятным, и Тошке страшно хотелось возмутиться, и облаять их, и, может быть, даже искусать — не как-нибудь, шутя, а всерьез, ибо на то у Тошки и есть настоящие крепкие зубы…
Но он посматривал, все время посматривал на Таню и не решался, просто не мог поступить без ее совета так, как ему хотелось бы.
Тошка понимал, что он — собака. А собака не может и не должна делать то, что не позволяет человек…
Море выбрасывает на берег все, что ему не нужно. Лишнюю гальку и лишний песок. Умершие водоросли и погибшие раковины. Части разбитых кораблей и остатки убитых дельфинов. Палки, ради забавы брошенные мальчишками в воду, и корни деревьев, подмытые волнами. Безжизненные тела морских звезд и объеденные скелеты рыб.
Море выбрасывает на берег осенние листья. Осень пришла и сюда, и ветер, когда дул в сторону моря, бросал в воду опавшую листву; а море прибивало ее к берегу и выкидывало на пляж, на гальку, где листья опять подсыхали и шелестели, шуршали при каждом дуновении ветра или под ногами редких купающихся и загорающих…
Море выбросило на берег бутылку с засургученным горлышком. Может, Магеллан? Лаперуз? Беринг? Миклухо-Маклай? Колумб? Нансен? Седов? Наконец, Конрад и Купер — ведь американские космонавты всегда приземляются в море.
Отбили горлышко, вынули записку: «Пил, пью и буду пить! Коля Оськин. Теплоход «Грузия». 23.06.53».
Где ты, чудак человек, Коля Оськин? Море посмеялось над тобой! Оно не любит таких шуток…
Море выбросило на берег бамбуковую трость. На ней выжженная горячими шашлычными шампурами надпись: «Люби меня, и я тебя полюблю. Буду верен до гроба! Мой адрес…»
Море не любит такой любви и такой верности. Оно выбросило бамбуковую трость на берег, предварительно стерев адрес. Дабы не ходили по нему наивные люди.
Море выбрасывает на берег все лишнее.




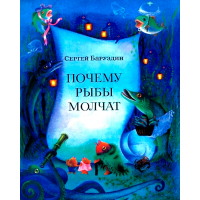
Комментарии