Рождение рассказа
Константин Паустовский
Подмосковный зимний денек все задремывал, никак не мог проснуться после затянувшейся ночи. Кое-где на дачах горели лампы. Перепадал снег.
Писатель Муравьев вышел на площадку вагона, открыл наружную дверь и долго смотрел на проносившуюся мимо поезда зиму.
Это была, пожалуй, не зима, а то, что называют «зимкой», – пасмурный день, когда порывами набегает сырой ветер, вот-вот начнется оттепель и полетят с оттаявших веток первые капли. В такие дни в лесных оврагах уже осторожно позванивают подо льдом родники. Они несут вместе с водой много воздушных пузырей. Пузыри торопливо бегут серебряными вереницами, цепляются за вялые подводные травы. И какой-нибудь серый снегирь с розовой грудкой крепко сидит на ветке над родником, смотрит одним глазом на пробегающие пузыри, попискивает и встряхивается от снега. Значит, скоро весна!
Бывают дни, когда жизнь представляется нам особенно ясной и слаженной. Так было сейчас с Муравьевым.
В старые времена литераторы любили обращаться к читателям со всякого рода вопросами.
Почему бы, – подумал Муравьев, – современным писателям не воспользоваться иногда этим добродушным приемом? Почему бы, например, не начать рассказ так:
«Знакомо ли вам, любезный читатель, чувство неизбежного счастья, которое завладевает человеком внезапно и без всякой причины? Вы идете по улице, и у вас вдруг начинает громко колотиться сердце от уверенности, что вот сейчас случилось на земле нечто замечательное. Бывало ли с вами так? Конечно, бывало. Искали ли вы причину этого состояния? Навряд ли. Но даже если предчувствие счастья вас и обманывало, то в нем самом было столько силы, что оно помогало вам жить».
«Искать и находить причины неясных, но плодотворных человеческих состояний – дело писателей, – подумал Муравьев. – Это одна из областей нашего труда».
Труд! Все сейчас было полно им вокруг. В пару и грохоте проносились навстречу тысячетонные товарные поезда. Это был труд. Самолет низко шел, гудя, над снежной равниной. Это тоже был труд. Стальные мачты электропередачи, обросшие инеем, уносили во мглу мощный ток. И это был труд.
«Ради чего работает многомиллионная, покрытая сейчас снегом, великая страна? – подумал Муравьев. – Ради чего, наконец, работаю я?
Ради жизни? Ради высоких духовных ценностей? Ради того, чтобы человек был прекрасен, прост и умен? Ради того, наконец, чтобы любовь наполняла наши дни своим чистым дыханием? Да, ради этого!
Пушкин спрашивал в своих поющих стихах: „Кто на снегах возрастил феокритовы нежные розы? В веке железном, скажи, кто золотой угадал?“
– Конечно, мы, – ответил самому себе Муравьев. Снег залетал на площадку вагона и таял на лице. – Кто же иной, как не мы!»
Муравьев писал для одного из московских журналов рассказ о труде. Он долго бился над этим рассказом, но у него ничего не выходило. Должно быть потому, что подробное описание труда оттесняло в сторону человека. А без человека рассказ получался нестерпимо, скучным. Муравьеву же казалось, что рассказ не клеится из-за суматошной московской жизни – телефонных звонков, всяческих дел, гостей и заседаний.
В конце концов Муравьев рассердился и уехал из города. В одном из подмосковных поселков у его друзей была своя дача. Муравьев решил поселиться на этой даче и – пробыть там до тех пор, пока не окончит рассказ.
На даче жили дальние родственники его друзей, но этих родственников Муравьев никогда не видел.
На Северном вокзале, когда Муравьев шел по перрону к пригородному поезду, у него вдруг глухо забилось сердце и он подумал, что вот, – будет удача в работе. Он даже знал теперь наверное, что она будет, эта удача. Знал по многим точным приметам – по свежести во всем теле, сдержанному своему волнению, по той особой зоркости, с какой он замечал сейчас и запоминал все вокруг, по нетерпеливому желанию скорей добраться до этой незнакомой дачи, чтобы сесть в тишине за стол со стопкой чистой плотной бумаги, наконец по тому обстоятельству, что в памяти у него все время возникали обрывки любимых стихов: «Душа стесняется лирическим волненьем, трепещет, и звучит, и ищет, как во сне, излиться, наконец, свободным проявленьем…»
В таком взволнованном состоянии Муравьев вышел из поезда на длинную дачную платформу в сосновом лесу. На платформе никого не было. Только на перилах сидели, нахохлившись, воробьи и недовольно смотрели на поезд. Они даже не посторонились, когда Муравьев прошел рядом с ними и чуть не задел их рукавом. Только один воробей что-то сварливо чирикнул в спину Муравьеву. «Должно быть, обругал меня невежей», – подумал Муравьев, оглянулся на воробья и сказал:
– Подумаешь, – большой барин!
Воробей долго и презрительно смотрел вслед Муравьеву бисерным глазом.
Дача была в трех километрах от платформы. Муравьев шел по пустынной дороге. Иногда среди перелесков открывались поля. Над ними розовело небо.
– Неужели уже закат? – громко сказал Муравьев и поймал себя на том, что здесь, за городом, он начал разговаривать с самим собой.
День быстро иссякал почти без проблесков света. Ни один солнечный луч не прорвался сквозь плотную мглу, не упал на заиндевелые ветки, не поиграл на них бледным огнем и не бросил на снег слабые тени.
Дорога спустилась в овраг, к бревенчатым мостушкам. Под ними бормотал ручей.
– Ага! – с непонятной радостью сказал Муравьев и остановился. В небольшой промоине во льду виднелась бегущая темная вода, а под ней – каменистое дно.
– Откуда ты берешь зимой столько воды, приятель? – спросил Муравьев.
Ручей, конечно, не ответил. Он продолжал бормотать, то затихая, то повышая голос до звона. Вода отламывала прозрачные льдинки и сталкивала их друг с другом.
Муравьев спустился к ручью и начал отбивать палкой куски льда. Ручей кружил отломанный лед и пенился.
«Надо же все-таки хоть немного помочь весне», – подумал, усмехнувшись над самим собой, Муравьев и оглянулся. На мостушках стояла девушка в синем лыжном костюме и, воткнув палки в снег, внимательно смотрела на Муравьева.
Муравьев смутился. Что подумает о нем эта девушка? «Старый хрыч, а занимается ерундой». Ничего иного она, конечно, подумать не может. Но девушка нагнулась, поспешно отстегнула лыжи и крикнула Муравьеву:
– Погодите! Лучше отламывать лед лыжными палками. У них железные наконечники!
Она сбежала к ручью и протянула Муравьеву лыжную палку. Оказалось, что этой палкой отбивать лед было гораздо легче.
Они ломали лед вдвоем сосредоточенно и молча. Муравьеву стало жарко, он снял варежки. У девушки выбились из-под вязаной шапочки пряди волос.
Потом неведомо откуда появился мальчишка в шапке с торчащими в разные стороны наушниками. Муравьев заметил его, когда он, шмыгая носом, начал толкаться от азарта и путаться под ногами.
– Пожалуй, хватит! – сказал, наконец, Муравьев и выпрямился. Густые сумерки уже лежали над землей. «Однако, как быстро пролетело время», – подумал Муравьев, взглянул на девушку и рассмеялся. Девушка стряхивала снег с варежек. Она улыбнулась ему в ответ, не подымая глаз.
Когда выбрались из оврага на лесную дорогу, Муравьев разговорился с девушкой. Мальчишка некоторое время плелся сзади, сопел и тянул носом.
Оказалось, что девушка живет с отцом на той же самой даче, куда шел Муравьев.
– Так это вы, значит, дальняя родственница моих друзей! – обрадованно сказал Муравьев и назвал себя. Девушка стащила сырую варежку и протянула Муравьеву руку.
– Меня зовут Женей, – сказала она просто. – Мы с папой ждем вас уже второй день. Я вам мешать не буду. Правда, вы не думайте… Завтра у меня последний день каникул. Я уеду в Москву, в свой институт. Вот только папа…
– Что папа? – спросил, насторожившись, Муравьев.
– Он у меня ботаник и страшный говорун, – ответила Женя. – Но вчера он дал честное-пречестное слово, что не будет приставать к вам с разговорами. Не знаю только – выдержит ли? Правда, ведь трудно сдержаться.
– Это почему ж? – спросил Муравьев.
Женя шла рядом с Муравьевым. Лыжи она несла на плече и смотрела прямо перед собой. Слабый свет поблескивал у нее в глазах и на отполированных широких отгибах лыж. Муравьев удивился, – откуда взялся этот свет? По всему окружию полей уже залегала на ночь угрюмая темнота. Потом Муравьев заметил, что это был не отблеск снега, как он сразу подумал, а отражение широкого освещенного окна большой двухэтажной дачи. Они к ней уже подходили.
– Да, так почему же трудно удержаться от разговоров? – снова спросил Муравьев.
– Как вам сказать… – неуверенно ответила Женя. – Я понимаю, как строится, например, морской корабль. Или как из-под пальцев у ткачихи выходит тонкое полотно. А вот понять, как пишутся книги, я не могу. И папа этого тоже не понимает.
– Да-а, – протянул Муравьев. – Об этом на ходу не поговоришь.
– А вы не будете об этом писать? – робко спросила Женя, и Муравьев понял, что если бы не застенчивость, то она бы просто попросила его написать об этом. – Ведь пишут же о своем труде другие.
Муравьев остановился, пристально, прищурившись, посмотрел на Женю и вдруг улыбнулся.
– А вы молодец! Как это вы догадались, что я пишу… вернее, собираюсь писать именно об этом, о своем писательском труде?
– Да я и не догадывалась, – испуганно ответила Женя. – Я сказала просто так. Право, мне очень хочется знать, как это вдруг появляются на свет и живут потом целыми столетьями такие люди, как Катюша Маслова или Телегин из «Хождения по мукам». Вот я и спросила.
Но Муравьев уже не слышал ее слов. Решение писать о своем труде пришло сразу. Как он раньше не догадался об этом! Как он мог вяло и холодно писать о том, чего он не знал и чего сам не испытывал. Писать и чувствовать, как костенеет язык и слова уже перестают звучать, вызывать гнев, слезы, раздумия и смех, а бренчат, как пустые жестянки. Какая глупость!
В тот же вечер Муравьев без всякого сожаления бросил в печку, где жарко трещали сухие березовые дрова, все написанное за последние дни в Москве.
На столе лежала толстая стопка чистой бумаги. Муравьев сел к столу и начал писать на первой странице:
«Старый ботаник – худой, неспокойный и быстрый в движениях человек – рассказывал мне сегодня вечером, как ведут себя растения под снегом, как медленно пробиваются сквозь наст побеги мать-и-мачехи, а над самым снеговым покровом расцветают холодные цветы подснежника. Завтра он обещает повести меня в лес, осторожно снять верхний слой снега на любой поляне и показать мне воочию эти зимние и пока еще бледные цветы.
Я пишу этот рассказ или очерк – я сам не знаю, как назвать все то, что выходит сейчас из-под моего пера, – о никем еще не исследованном явлении, что носит несколько выспренное название творчества. Я хочу писать о прозе.
Если мы обратимся к лучшим образцам прозы, то убедимся, что они полны подлинной поэзии. И живописности.
Наивные люди, некоторые поэты с водянистыми, полными тусклых мечтаний глазами, до сих пор еще думают, что чем меньше становится тайн на земле, тем скучнее делается наше существование. Это все чепуха! Я утверждаю, что поэзия в огромной степени рождается из познания. Количество поэзии растет в полном соответствии с количеством наших знаний. Чем меньше тайн, чем могущественнее человеческий разум, тем с большей силон он воспринимает и передает другим поэзию нашей земли.
Пример этому – рассказ старого ботаника о зимней жизни растений. Об этом можно написать великолепную поэму. Она должна быть написана такими же холодными и белыми стихами, как подснежные цветы.
Я хочу с самого начала утвердить мысль о том, что источники поэзии и прозы заключаются в двух вещах – в познании и в могучем человеческом воображении.
Познание – это клубень. Из него вырастают невиданные и вечные цветы воображения.
Я прошу извинить меня за это нарядное сравнение, но, мне кажется, пора уже забыть о наших „высококультурных“ предрассудках, осуждающих нарядность и многие другие, не менее хорошие вещи. Все дело в том, чтобы применять их к месту и в меру».
Муравьев писал, не останавливаясь. Он боялся отложить перо хотя бы на минуту, чтобы не остановить бег мыслей и слов.
Он писал о своем труде, великолепии и силе русского языка, о великих мастерах слова, о том, что весь мир во всем его удивительном разнообразии должен быть повторен на страницах книг в его полной реальности, но пропущенный сквозь кристалл писательского ума и воображения и потому – более ясный и осознанный, чем в многошумной действительности.
Он писал как одержимый. Он торопился. За окнами в узкой полосе света из его окна косо летел между сосен редкий снег. Он возникал из тьмы и тотчас же пропадал в этой тьме.
«Сейчас за окнами летит по ветру снег, – писал Муравьев. – Пролетают кристаллы воды. Все мы знаем их сложный и великолепный рисунок. Человек, который придумал бы форму таких кристаллов, заслужил бы огромную славу. Но нет ничего более мимолетного и непрочного, чем эти кристаллы. Чтобы разрушить их, достаточно одного детского вздоха.
Природа обладает неслыханной щедростью. Ей не жаль своих сил. Кое-чему нам, людям, в особенности писателям, стоит поучиться и у природы. Прежде всего – этой щедрости. Каждой своей вещи, будь то хотя бы самый маленький рассказ, надо отдавать всего себя, все свои силы без остатка, – все лучшее, что есть за душой. Здесь нет места бережливости и расчету.
Надо, как говорят инженеры, открыть все шлюзы. И никогда не бояться того чувства опустошения, которое неизбежно придет, когда работа закончена. Вам будет казаться, что вы больше не сможете написать ни строчки, что вы выжаты досуха, как губка. Это – ложное состояние. Пройдет неделя, и вас снова потянет к бумаге. Снова перед вашим умственным взором зашумит весь мир.
Как морская волна выносит на берег ракушку или осенний лист и снова уходит в море, тихо грохоча галькой, так ваше сознание вынесет и положит перед вами на бумагу первое слово вашей новой работы».
Муравьев писал до утра. Когда он дописывал последние слова, за окнами уже синело. Над сумрачными полями в морозном дыму занимался рассвет.
Было слышно, как внизу гудел в только что затопленной печке огонь и постукивала от тяги чугунная печная дверца.
Муравьев написал последние строки:
«Горький говорил о том, что нельзя писать в пустоту. Работая, надо представлять себе того милого человека, которому ты рассказываешь все лучшее, что накопилось у тебя на душе и на сердце. Тогда придут сильные и свежие слова.
Будем же благодарны Горькому за этот простой и великий совет».
Утром Муравьев долго умывался холодной водой из ведра. В воде плавали кусочки прозрачного льда.
Еловая лапа висела, согнувшись от снега, за окном маленькой умывальной комнаты. От свежего мохнатого полотенца пахло ветром.
На душе было легко и пусто, – даже как будто что-то позванивало во всем теле.
Днем Муравьев пошел проводить Женю до станции, – она уезжала в Москву, в свой институт.
– Откровенно говоря, – сказал Муравьев Жене, когда они подходили к дощатой платформе в лесу, – мне уже можно возвращаться в Москву. Но я останусь еще на два-три дня. Отдохну.
– Разве у нас вам плохо? – испуганно спросила Женя.
– Нет. У вас тут чудесно. Просто, я почти окончил этой ночью свой рассказ.
Муравьев невольно сказал «почти окончил». Ему почему-то стыдно было признаться, что рассказ он написал целиком за одну эту ночь.
Он хотел сказать Жене, что очень торопился, чтобы успеть прочесть ей этот рассказ до ее отъезда в Москву, но не прочел, не решился. Он хотел сказать Жене, что он писал рассказ, думая о ней, что Горький, конечно, прав, что он просто благодарен ей, почти незнакомому человеку, за то, что она живет на свете и вызывает потребность рассказывать ей все хорошее, что он накопил у себя на душе.
Но Муравьев ничего Жене не сказал. Он только крепко пожал ей на прощание руку, посмотрел в ее смущенные глаза и поблагодарил за помощь.
– За какую помощь? – удивилась Женя.
Перед приходом поезда повалил густой снег. Далеко за семафором ликующе и протяжно закричал паровоз. Поезд неожиданно вырвался из снега, как из белой заколдованной страны, и, заскрежетав тормозами, остановился.
Женя последней поднялась на площадку. Она не уходила в вагон, а стояла в дверях – раскрасневшаяся и улыбающаяся – и на прощанье помахала Муравьеву рукой в знакомой зеленой варежке.
Поезд ушел в снег, обволакивая паром леса. Муравьев стоял на платформе и смотрел ему вслед. И как на Северном вокзале в Москве, снова он почувствовал глухое биение сердца. Снова пришло внезапное ощущение того, что вот сейчас, где-то здесь, рядом, на этой земле, затихшей под легкой на первый взгляд тяжестью летящего снега, случилось что-то очень хорошее, и он, Муравьев, замешан в этом хорошем, как соучастник.
– Хорошо! – сказал Муравьев. – Нельзя жить вдали от молодости!
Муравьев спустился по обледенелой лесенке с платформы и пошел к ручью – докалывать лед. Лыжную палку он захватил с собой.




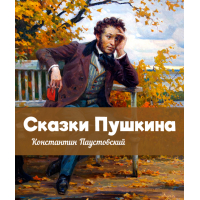
Комментарии